Осознание отношения «бытие — небытие» в новое время
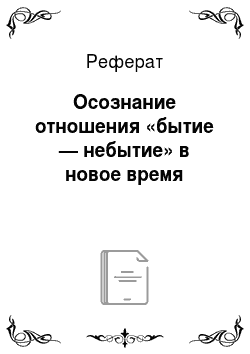
Хотя Э. Фромма не интересуют общие проблемы онтологии, и все его внимание сосредоточено на ее антропологически-культурологическом аспекте, сам ход его мысли, как видим, наталкивает его на включение оппозиции «быть — иметь» в более широкий онтологический контекст. Вместе с тем, его позиция, в сопоставлении с позициями других, предшествовавших в XX в. и современных ему деятелей, служит лишним… Читать ещё >
Осознание отношения «бытие — небытие» в новое время (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Нетрудно понять, почему эпоха Просвещения, завершившая начатый Возрождением процесс восстановления авторитета античности, не знает проблемы небытия — культ рациональности, научного познания природы, последовательный или скрытый атеизм объясняют позицию авторов выразившей «дух времени» знаменитой Французской энциклопедии: в специальной статье, посвященной обсуждению понятий «Небытие, ничто или отрицание», они были признаны категориями теологической «метафизики»; с нескрываемой иронией автор говорил о «сетованиях людей на то, что они после предпринятых их мыслью усилий понять небытие, так и не смогли справиться с этой задачей»: «Что предшествовало сотворению мира? Чье место занял сотворенный мир? Небытия. Но как представить себе это небытие? Легче представить вечно существующую материю. Люди же, пытавшиеся понять небытие, стремились к тому, к чему человеку вообще не следует стремиться. Как раз это было причиной того, почему они зашли в тупик» [18].
Столь же закономерно, что представления о «небытии» и «ничто» вновь выплыли в мировоззрении эпигонов Романтизма. Ю. Н. Солонин так описывает существо философской концепции одного из последователей А. Шопенгауэра, типичного выразителя идей декадентства конца XIX в. Ф. Майнлендера: «Жизнь бессмысленна и ничтожна во всех своих формах. Космос, с которым она слита, всеми своими проявлениями устремлен к одной цели — к смерти. Таким образом, если существует смысл бытия, то он в достижении абсолютного Ничто, в отрицательности, в аннигиляции жизни», и логическим воплощением такой позиции является самоубийство (которое Майнлендером и было осуществлено) [19]. Закономерен интерес позднего русского романтика Л. Шестова к его датскому предшественнику С. Киркегору. В исследовании страха две главы посвящены представлениям С. Киркегора о «Ничто»: в одной оно сопоставляется со «страхом», в другой — с «отчаянием». «Первородный грех, падение первого человека как результат страха пред Ничто есть основная идея названной книги Киргегарда» — утверждает и доказывает Л. Шестов и заключает: «Надо думать, это — самая дорогая, самая нужная, самая заветная и наиболее глубоко пережитая им в его исключительном духовном опыте идея». И, соглашаясь с С. Киркегором, добавлял уже от себя, что о «Ничто» как о жесткой, подавляющей свободу личности силе «мы принуждены говорить, что оно существует, ибо, хотя его нигде нет и нигде разыскать его нельзя, оно, загадочным образом, врывается в человеческую жизнь, калеча и уродуя ее, как рок, судьба, жребий, Fatum, от которого некуда уйти и нет спасения» [20]; и далее, резюмируя позицию датского романтика и в основном с нею солидаризируясь: «Ничто, которого нет, пришло вслед за грехом в жизнь и покорило себе человека. Спекулятивная философия, сама порожденная и раздавленная первородным грехом, не может отогнать от нас Ничто. Наоборот: она его призывает, она связывает его неразрывными узами со всем бытием. И пока знание, пока умное зрение будет для нас источником истины, Ничто останется хозяином жизни» [21].
Неудивительно, что великий рационалист и диалектик Г. Гегель, негативно относившийся к Романтизму во всех его проявлениях, радикально иным образом трактовал исходную онтологическую ситуацию: в «Науке логики» он доказал изначальное тождество бытия и небытия, которое преодолевается в процессе, названном им «становлением» [22]. Таким образом, само развитие как способ существования мира оказывалось результатом взаимодействия бытия и небытия. Однако в конце века возрождавший романтическое сознание Ф. Ницше противопоставил становление бытию: «Нельзя допускать, вообще, никакого бытия, потому что тогда становление теряет свою цену и является прямо бессмысленным и излишним». Ф. Ницше исходит, с одной стороны, из понимания бытия как «пребывания» и, следовательно, из его противоположности процессу развития жизни, а с другой, из отрицания «существования Бога», ибо его признание означало бы, что «все сущее обречено на осуждение… Нашим величайшим упреком существованию вообще было существование Бога» [23].
Такая «нигитологическая» позиция стала характерной для сознания и философской рефлексии Модернизма — эпохи в истории европейской культуры; идея «Ничто» оттеснила на второй план и подчинила себе представление о Бытии, но при этом столкнулась с непростой задачей — с необходимостью теоретического совмещения Ничто и Бытия. У. Джеймс, положивший в основу своего предсмертного сочинения «Введение в философию» рассмотрение «Проблемы бытия», сформулировал ее исходное положение в виде вопроса: «Как это выходит, что мир вообще существует, ведь можно с таким же успехом вообразить на его месте небытие?» Ответ оказался неутешительным: «Некоторые попытки решения этой проблемы скорее сводятся к желанию отделаться от вопроса, чем дать на него ответ… Философия изумленно созерцает загадку, но не дает ей никакого разумного решения, ибо нет логического моста от небытия к бытию». Классик американского прагматизма заключает свое рассуждение таким выводом: «Вопрос о бытии — самый темный вопрос во всей философии. Перед ним все мы оказываемся жалкими вопрошателями…» [24].
Все же, как вспоминал М. Хайдеггер, в конце XIX в. в Германии проблемы онтологии продолжали обсуждаться — один из его учителей во Фрайбурге К. Брайг опубликовал в 1896 г. сочинение «О бытии. Абрис онтологии», а господство над умами завоевал Э. Гуссерль. Хайдеггера более настойчиво тревожил вопрос: «откуда и как определяется то, что должно быть узнано согласно феноменологическому принципу „сама вещь“? Есть ли это сознание и его предметность, или это есть бытие сущего???» [25]. Ответ на этот вопрос философ будет искать на протяжении всей жизни и придет к разделению онтологии на «формальную» и «региональные»; первая сводится к чисто логическому анализу общих характеристик бытия, безотносительно к свойствам различных его проявлений, а вторая распадается на ряд учений об особенностях бытия в каждой конкретной сфере его проявления, которые изучают науки [26]. В конспективном наброске статьи «Идея полной онтологии», датируемом приблизительно 1924 г., Э. Гуссерль так формулирует этот вывод: «Онтология, тщательно рассмотренная, есть не что иное, как систематическая конструкция всесторонне разработанной идеи мировой науки во всех ее отраслях» [27]. Так обосновывалась фактическая ликвидация онтологии как целостного философского учения, и закономерно, что сам основоположник феноменологии дальше изложенной общей постановки вопроса тут не пошел.
Хотя М. Хайдеггер исходил из основоположений феноменологии, он развил их в экзистенциалистском направлении, сведя бытие как таковое к «здесъ-бытию», т. е. включив в бытие субъекта: «это сущее, которым всегда являюсь я сам, мы называем вот-бытием»; посему «имманентным бытием» объявляется человеческое сознание; более того, по Хайдеггеру, «чистое сознание есть абсолютное бытие» [28].
Отмечая «ироническое отношение» современников к употреблению самого понятия «бытие», М. Хайдеггер счел необходимым вернуться к специальному разговору об определении его содержания, подчеркивая при этом «всю трудность, но также и решающий смысл и размах вопроса о бытии» [29]. Комментатор его философии К. Ф. Гетманн назвал одну из глав посвященной ему монографии «Проблема реальности: философский скандал?», начав ее с утверждения: «Проблема реальности является основным вопросом (die Leitfrage), направлявшим развитие философии Нового времени», и «была всегда первой главой во всех вариантах теории познания», М. Хейдеггер же, как и Р. Карнап, но с другим обоснованием, «демонтировал» в «Бытии и времени» проблему реальности, сведя ее к «проблеме видимости» (zum Scheinproblem) [30], поскольку и «наивный реализм», и подобный ему «идеализм», и «рафинированный реализм», и «рафинированный идеализм» доказали тут свою несостоятельность [31]. Понятно, что Э. Левинас, при всем его уважении к М. Хайдеггеру, имел основания говорить о «противоречивости и двойственности» его позиции, ибо он, с одной стороны, показал, что «настроения человека — его вина, страх, волнение, радость или уныние — уже более не считаются чисто физиологическими ощущениями или психологическими эмоциями», но являются «онтологической основой, с помощью которой мы ощущаем пребывание в мире и находим в нем свое место», а с другой стороны, «продолжает считать Бытие как „здесь-бытие“» и тем самым «не может порвать с гегемонией присутствия, которое опровергает» [32]. Сам Э. Левинас, полагавший, что онтология является одним из двух «источников вдохновения» философа, наряду с этикой определяющих «две различные тенденции современной философии», отдавал преимущественное внимание этике как «отношению к другому», которое, будучи «внеприродным», заставляет «говорить о присутствии Бога. Можно сказать, что Бог — это другой, выворачивающий наизнанку нашу природу… Бог противоборствует природе, ведь Он не от этого мира. Бог — другое, отличное от Бытия» [33].
Подчинение онтологии этике, или теологии, или гносеологии — это разные способы абсолютизации активности человека как субъекта деятельности, ставшей наряду с позитивистским сциентизмом и техницизмом приметой господствовавшего в буржуазном обществе в XX в. миросозерцания, и лишившей тем самым онтологию ее мировоззренческого оправдания, состоящего в признании объективности бытия, даже если оно не соотносится с небытием. Между тем, у Г. Марселя «бытие» соотносится не с его логической антитезой «небытие» и не с онтологической антитезой «ничто», а с этическим понятием «обладание» или, по его собственному уточнению, «обладание-владение». (Дело в том, что во французском языке глагол «avoir» сохраняет свою грамматическую форму в существительном, а в русском оно передается словами с другими корнями — «обладание», «владение»; но, хотя в названии доклада автор употребил данное отглагольное существительное «avoir», в самом тексте он удваивает его понятием «обладать» — «lavoir-possession».) При этом философ подчеркивал, что речь идет не только о реальном обладании чем-то, но о самом «желании» им обладать, ибо «желание — это в некотором роде обладание тем, чем ты не обладаешь» [34]; поэтому здесь возникает «напряжение, противостояние» человека и предмета его желания, который должен стать его собственностью, и снять это напряжение может только любовь [35].
Осуществленное в экзистенциализме включение в онтологию тех или иных эмоциональных состояний человека разрушало ее именно потому, что считало невозможным рассматривать бытие, отвлекаясь от его переживания в «здесъ-бытии», переживание же это имело отчетливо и откровенно выраженный смысл неприятия реального социального бытия, вызывающего у человека отрицательные эмоции — скуку, тоску, тошноту, отвращение. Этим объясняется тяготение философов-экзистенциалистов, начиная с Г. Марселя, к художественной форме выражения их онтологической позиции — исследовательница его творчества Г. М. Тавризян обратила внимание на признание самого философа, что «замысел его пьес, как правило, опережал разработку той же проблематики в его философских работах» [36]; характерно, что основные его теоретические сочинения написаны в форме дневника и что одно из них он опубликовал в качестве приложение к своей пьесе «Разбитый мир»; в беседе с П. Рикером он изъяснял свою позицию: «Моя философия является экзистенциальной философией в той самой мере, в какой она является театром, то есть драматургической тканью» [37]. Даже более того — будучи не только талантливым драматургом, но и музыкантом, он «превыше всего в мире ставил музыку — выше философии, выше литературы и театра» [38]. Общим для экзистенциализма и было сознание невозможности решать онтологические проблемы на языке строгой, классической философии, что и толкало мышление на поиск метафор, на диалогические структуры драматургии, на свободную последовательность дневниковых записей, даже бессловесно-музыкальное выражение, короче, на художественные способы самовыражения. В конечном счете, бытие оказывается для Г. Марселя «таинством», и хотя он сознает, что этот тезис «способен шокировать философов» и что он употребляет данное понятие не в том мистическом смысле, какой оно имеет в теологии [39], трактовка бытия остается иррационалистической и потому недоступной теоретическим дефинициям — в трактате «Экзистенция и объективность» автор откровенно сказал, что его основные тезисы «скорее утверждаются, нежели доказываются» [40]. Гуманистический оптимизм Г. Марселя не позволил ему проблематизировать отношения бытия и небытия: ему было чуждо сартрово противопоставление бытия и «ничто», чужда и хайдеггерова эмоциональная трактовка человеческого существования как «бытия-к-смерти»; по справедливому заключению исследовательницы, вопрос о бытии у Г. Марселя вообще «не лежит в области философии (это не онтология в традиционном смысле)… Бытие — это основание таких ценностей, как верность, любовь, братство человеческое… Это надежда, которую обрела экзистенция…» [41].
Неудивительно, что «Тошнота» Ж.-П. Сартра выражает подобное восприятие бытия гораздо точнее и сильнее, чем его же «Бытие и ничто», и только отсутствие художественно-творческого дарования мешало М. Хайдеггеру идти по этому пути, так что он ограничивался предельно возможным насыщением теоретического текста метафорической образностью. С другой стороны, многие писатели, драматурги, кинематографисты модернистского типа на Западе делали из своих произведений образно выраженные философемы, своего рода притчи или аллегории — «заумные» стихи А. Крученых и абстрактные пьесы С. Беккета, «Черный квадрат» К. Малевича и «4'33″» Дж. Кейджа являются, строго говоря, не столько произведениями искусства, сколько «превращенными формами» (К. Маркс) философско-онтологических деклараций, провозглашающих эстетическое значение не бытия, а небытия, в последних же, предельных, случаях — апологию Ничто. Корни, смысл и судьба философской онтологии в XX в. не могут быть раскрыты с необходимой глубиной без обращения к тому, как общественное сознание этого времени воплощалось в искусстве: в произведениях Г. Марселя, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Т. Уильямса, М. Уэльбека, в «театре абсурда» С. Беккета и Э. Ионеско, в фильмах Ф. Феллини, И. Бергмана, Л. Бюнюэля, — ибо такое мироощущение могло быть адекватно выражено именно художественными средствами. Так, герой «Тошноты» Ж.-П. Сартра, восставая против исходного положения картезианской антропологической онтологии «Я существую, потому что мыслю», возражал: «меня приводит в ужас, что я существую», значит «я сам извлекаю себя из небытия, к которому стремлюсь».
Для художественного творчества как самосознания культуры выявление той или иной онтологической позиции общественного сознания является принципиально важной задачей. Потому искусство, с первых своих шагов утверждавшее, что высшей ценностью обладает бытие, становилось реалистическим, ибо образно воссоздавало реальное бытие, тогда как классицизм, романтизм, символизм воплощали по-своему понимаемый каждым идеал, который реально не существует, т. е. представляет собой форму небытия реальности. Дальше этих художественных направлений в отрицании ценности бытия пошел модернизм — он утверждал высшей ценностью абсолютное небытие, т. е. Ничто. Петербургский искусствовед А. Венкова, опубликовав в 2003 г. интересную статью на эту тему, показала, что в культуре модернизма «вся история художественной деятельности, начиная с конца девятнадцатого века и до середины двадцатого — это последовательное движение к Ничто, абсолютной пустоте, т. е. движение от мира в его очевидной данности», причем осуществлялось оно двумя путями — абсурдистским, или апофатическим, и концептуальным, или катафатическим. Оказалось, что при всех отличиях художественного осознания этого стремления к представляющей Ничто пустоте от его анализа в философии, их сближала потребность и способность многих художников теоретически его осмысливать — исследователь приводит суждения Т. Тцара, Р. Берри, Э. Хессе, Э. Уорхолла, в которых это четко формулируется, например: «…Пустота, Ничто кажется мне наиболее впечатляющей вещью в мире» [42]. Французский культуролог Ж. Липовецки имел основания назвать свое время в культуре западного мира «эрой пустоты», охватывающей все сферы жизни общества, от эмоционально опустошающих в «холодном сексе» интимных отношений до «массового опустошения общества» в его политической жизни, когда «все социальные институты, все великие ценности и конечные цели, создававшиеся предыдущими эпохами, постепенно оказываются лишенными содержания»; так пустыня оказывается «символом нашей цивилизации», и этот «трагедийный образ… становится олицетворением метафизических размышлений о небытии» [43].
Вместе с тем, представляется неправомерным распространение этой характеристики на сознание «современного человека» вообще и, соответственно, на «современное искусство» вообще, ибо в том же буржуазном обществе на Западе и в нынешнем российском — быстро обуржуазившемся — обществе имеют место не только принципиально ориентированное на Бытие сознание и его художественные проявления, но и искусство, ищущее в обращении к Бытию спасение от абстракционистского саморастворения в Ничто и, тем самым, как показала практика, от полного самоотрицания.
В теоретической дискредитации онтологии с Модернизмом и Постмодернизмом были солидарны прагматизм и неопозитивизм, унаследовавшие от позитивизма XIX в. презрительное отношение к всяческой «метафизике». Д. Лукач имел все основания утверждать в 60-е годы, что «попытка признать бытие основой философского мышления о мире со всех сторон наталкивается на сопротивление», которое вызвано установившимся в философии Нового времени господством «теории познания, логики и методологии», а современный неопозитивизм «объявил устаревшей, антинаучной бессмыслицей вопрос о бытии, даже любую постановку проблемы о том, существует ли нечто или не существует» [44]. Но и для Г. Риккерта главное в философском мировоззрении — не вопрос о бытии, а, «в силу логического приоритета долженствования перед бытием» [45], проблемы ценности и смысла, в котором бытие производно от ценностей [46].
Путь преодоления кризиса онтологической мысли был предложен Э. Блохом, назвавшим его «онтологией еще-не-бытия», ибо «Еще-Не характеризует тенденцию материального процесса, как порождаемое им, стремящееся манифестировать себе его содержание. Ничто, так же как и Все, характеризует скрытое содержание данной тенденции…» [47]. Поскольку Бытие возникает из «еще-не-бытия», а «Еще-Не — это действительно вспыхнувшее, открытое миру начало всего, что образуется и образовано» [48] (здесь впервые в русской философской литературе осуществлен обстоятельный и объективный анализ мировоззрения и нелегкого жизненного пути этого выдающегося мыслителя), постольку именно в нем следует искать истоки Бытия. Подобный взгляд на Бытие открывает перспективу «Впереди-Себя-Бытия», а значит надежду на будущее (ранний трактат философа так и назывался «Принцип надежды»), и приводит в онтологию, с одной стороны, проблему мифа, а с другой, темы утопии и мечты. Видимо, социальнооптимистический характер подобной трактовки онтологии, противоречивший господствовавшему пессимистическому умонастроению западной интеллигенции, объясняет тот факт, что концепцию Э. Блоха считали учением этическим, а не онтологическим.
Психологии европейской интеллигенции в XX в. в наибольшей степени соответствовал страх смерти как провал личности из бытия в небытие, как «бытие-к-смерти»; хотя такое умонастроение опиралось в известной мере на учения А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, вырастало оно из новой социокультурной и социально-психологической ситуации, сложившейся накануне и после Первой мировой войны, и исходило из учения 3. Фрейда о том, что силе Танатоса в человеке противостоит мощь Эроса. По заключению А. М. Эткинда, «в конце своей долгой жизни Фрейд сделал именно эту идею — об Эросе и Танатосе как равновеликих силах человеческой природы — основой последней версии своего учения» [49].
О философско-онтологическом смысле этой идеи, т. е. понимании антитезы «Эрос — Танатос» как символического обозначения отношения «Бытие — Небытие», свидетельствует такое признание 3. Фрейда: «Для нас отправной точкой была не живая материя, а действующие в ней силы; и мы признали два вида первичных позывов — одни, ведущие жизнь к смерти, и другие — сексуальные первичные позывы, снова и снова стремящиеся к обновлению жизни и этого достигающие. Эта теория звучит динамическим завершением морфологической теории Вейсмана», который «объявляет одноклеточных потенциально бессмертными, смерть наступает только у метазоев, многоклеточных» [50]. Вместе с тем, идея связи Любви и Смерти сама вырастала из бытия европейского общества в начале XX в.
В конечном счете, вторжение в онтологию в 30-е годы понятий «небытие» и «ничто» и их сохранение, при существенно различных трактовках их отношения к «бытию», не было игрой абстрактных философских категорий — оно стимулировалось и поддерживалось позднее небывалыми трагедиями Второй мировой войны, массового террора сталинизма и гитлеризма, апокалипсическими настроениями, которые порождались в западной культуре углублявшимися во второй половине столетия экологическими конфликтами.
О конкретном содержании этих и иных онтологических представлений речь пойдет в последующих главах, в ходе рассмотрения теоретических проблем разрабатываемой здесь «новой онтологии», сейчас хочу лишь обратить внимание на соседство самых различных толкований содержания этого раздела философии с мощной позитивистской линией, представители которой вообще отказывались от разработки «метафизики», как стало «хорошим тоном» презрительно именовать онтологию. «Неопозитивизм, — заключила исследовавшая его лингвистическую концепцию М. С. Козлова, — рвет с классической проблематикой философии. Он — меньше всего онтология. Общая теория бытия совсем не входит в состав этой философии» [51]. А одновременно происходит и нечто прямо противоположное — «онтологизация элементов сознания», в частности, «элементарных высказываний» [52].
В 1963 г. во Франкфурте-на-Майне был издан сборник «Учение о бытии в современной философии», составленный К. X. Хаагом, со вступительной статьей одного из лидеров Франкфуртской школы М. Хоркхеймера; сборник включает статьи или главы из монографий крупнейших представителей онтологической мысли середины XX в.: обзорную статью самого составителя, затем работы Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Н. Гартмана, К. Нинке, П. Тиллиха, К. Барта, А.-Н. Уайтхеда, Д. Дьюи и двух советских философов — М. Я. Заозерова и П. В. Копнина [53]. Общая картина состояния онтологической мысли этого времени оказалась достаточно представительной, равно как и содержание статей наших отечественных философов, отражавшее сложившуюся в СССР ситуацию — растворение онтологических проблем в теории познания (эти статьи были перепечатаны из вышедшего в 1960 г. в ГДР сборника «Категории материалистической диалектики»). Правда, три года спустя увидела свет книга другого представителя Франкфуртской школы Т.-В. Адорно «Негативная диалектика», первая часть которой имела характерное название «Отношение к онтологии»; точнее было бы назвать ее «негативной онтологией», ибо отношение это построено на резкой и весьма ехидной критике современных концепций, главным образом, хайдеггеровой и экзистенциалистской, за допущение в той или иной форме господства объективного над субъективным, в каком бы виде «культ бытия» как проявление присущего ему «свойства аффирмативности» ни представал — в природно-бытийном, социально-организационном, научно-истинном, художественноэстетическом; отсюда проистекает «безвластие субъекта», ибо «вера в бытие», это «истина, которая изгоняет человека из центра творения и напоминает о его бессилии». «Онтологическая потребность, — иронизирует Т. В. Адорно в излюбленном им стиле полемики, — так же мало гарантирует достижение желаемого, как муки изголодавшихся — наличие пищи. Однако философское движение, которое об этом нимало не задумывалось, сомнения не мучают». «В учении о наличном бытии (Dasein), — развивает он критику „мировоззренческого иррационализма“ М. Хайдеггера, убежденный в том, что „философия сегодня, как и во времена Канта, требует критики разума средствами разума, но не средствами его упразднения“, — снова возникает старый, приниженный онтологическим пафосом встречный субъективный вопрос», уходящий, в конечном счете, в вопрос о природе самой философии — ее попытках «выразить невыразимое», для чего необходимо уходить от осуществляемого «исподтишка террора науки» и стремиться к своему отождествлению с музыкой, потому что философия есть «воистину сестра музыки» в этом общем для них стремлении «выразить невыразимое» [54].
Однако рассуждения классика Франкфуртской школы, при всей меткости и остроумии его критики, не поколебали авторитета его оппонентов, а послужили лишь еще одним доказательством того, что какими бы рационалистическими или иррационалистическими средствами ни пытался философ «пробиться к бытию», достичь этой цели невозможно, если исходить из отрицания сущностного различия объекта и субъекта, ибо онтология как таковая основывается на признании абстрактным теоретическим мышлением независимого от субъекта объективного бытия, что и противопоставляет ее музыке, художественному восприятию мира, мифологическому сознанию, всевластию стихии субъективности.
Естественно, что и постмодернизм оказался неспособным вывести онтологию из этого кризиса — сошлюсь на компетентный вывод А. Г. Чернякова: «Постклассическая онтология есть не что иное, как хронология». Комментируя это утверждение, исследователь пояснил: «один из важнейших итогов работы Гуссерля и Хайдеггера, Левинаса и Рикера заключается в том, что глубоко укорененное в традиции и восходящее к Пармениду противоречие между бытием и временем, сущим и временным, между вечным (эйдетическим) и преходящим (историческим) неожиданным образом превращается в свою противоположность. Теперь само время, надлежащим образом осмысленное, становится предельным онтологическим основанием, приводящим в движение всю систему фундаментальных философских понятий» [55].
Не удалась разработка онтологии и в герменевтической философии Х.-Г. Гадамера, поскольку ее исходным положением является отождествление бытия с языком, в котором осуществляется понимание сущего [56]. Между тем, проявившийся в работах позднего Л. Витгенштейна и в «лингвистической философии» пристальный интерес к проблемам языка имел прямой выход в проблематику онтологии, что показало уже упоминавшееся исследование немецкого лингвиста Э. К. Шпехта «Язык и бытие»: внимание автора сосредоточено здесь на том очевидном, однако не делавшемся прежде предметом специального исследования факте, что в языке (в данном случае немецком) глагол «быть» имеет несколько разных значений, а это ставит перед философской теорией бытия задачу выявления его онтологического смысла. (Впрочем, и русский Толковый словарь дает четыре прямых значения этого глагола и три формы его вспомогательного употребления.) Немецкий языковед ссылался на соответствующие наблюдения Б. Рассела, В. Штегмюллера, М. Хайдеггера, указав на то, что в понятии «есть» «открывается многообразие аспектов бытия» [57]. Сам же Э. К. Шпехт полагал, что в множестве значений данного глагола следует различать указание на существование чего-то, независимо от особенностей объекта, и тогда «быть» имеет чисто формальное значение, и указание на конкретный предмет или на его качества, и тогда «быть» становится содержательным определением; отсюда и его утверждение, со ссылкой на Э. Гуссерля, что «онтологию следовало бы разделить на две дисциплины: та формальную онтологию, которая рассматривает сущее, поскольку оно вообще существует, и на материальную онтологию, которая исследует существующее, поскольку оно является определенным родом сущего в целом» [58]. Замечу сразу, что, хотя предложение это сформулировано слишком резко, оно верно по существу (как мы вскоре убедимся, в реконструировании проблемного поля онтологии должны быть выделены логический вровень анализа бытия, субстанциальный и связывающий их морфологический, и, соответственно, рассмотрены особенности взаимоотношений бытия и небытия на этих трех онтологических уровнях).
Говоря о работе самого Э. К. Шпехта, обращу внимание еще на один момент, представляющий для нас непосредственный интерес: в его книге нет ни проблемы связи бытия и небытия, ни проблемы соотношения глаголов «быть» и «иметь». По-видимому, это объясняется специфически лингвистическим и формально-лингвистическим (категория самого автора «формальный») подходами к проблеме, ибо язык не имеет антитезы глаголу «быть», отчего негативные суждения могут формулироваться лишь в отрицательной форме — «не быть» (вспомним знаменитое гамлетово «быть или не быть?») или «не есть» (сокращенно попросту «не»: скажем, «это не (есть) лошадь, а (есть) верблюд»). Отсутствие в языке (не только в русском!) специального глагола, соответствующего существительному «небытие» (впрочем, и само это существительное обозначает всего лишь «не бытие», а «ничто», кажущееся антитезой «бытия», в действительности имеет иное значение — абсолютное небытие, и потому его антипод — не «бытие», а «нечто»), приводит к заключению, что сознанию народа-языкотворца свойственна, если так можно выразиться, «установка на существование», а «несуществование» является чем-то вторичным, производным (примечательно, что сама смерть, как уже отмечалось, воспринималась изначально — а религиозными людьми воспринимается и поныне — не как «отсутствие жизни», а как «другая жизнь», «жизнь в другом мире», и даже лучшем, нем «этот»; напомню, что признание примата «небытия», «смерти», «сна», «тени», «мечты», «фантазии» — признак определенного типа общественного сознания, точно именуемого декадентским). Конечно, философскоонтологическое умозрение не должно «идти на поводу» у обыденного сознания, но и не учитывать его «показаний» не имеет права.
Что же касается связи глаголов быть и иметь, то она, казалось бы, подсказываемая именно лингвистикой, которая делает их вспомогательными глаголами в некоторых языках, в частности, в родном языке Э. К. Шпехта, не должна была привлечь его внимания, поскольку он показал, что глагол быть в своем формально-онтологическом значении не связан ни с какими конкретными отношениями реального бытия, в том числе и с глаголом иметь. Последний обозначает не только вторичное для бытия отношение (элементарная логика говорит: для того, чтобы что-то иметь, нужно существовать, быть), но такое специфическое отношение обладания, которое выражает подчинение тем, кто что-то имеет, того, кто этого не имеет. Становится понятным, почему проблему «быть и иметь» поставил не философствующий лингвист, а этизирующий философ Г. Марсель, «неосократик», как сам он себя именовал, а по сути предтеча французских экзистенциалистов.
Во второй части своих дневниковых размышлений, так им и названной: «Быть и иметь», Г. Марсель, точно формулируя логическую субординацию данных понятий («Чтобы действительно обладать, необходимо в какой-то степени быть…»), сосредоточился именно на содержательной стороне дела, которой он придавал такое значение, что в 1933 г. сделал на Философском обществе в Лионе специальный доклад на тему «обладания-владения» субъектом чем-то или кем-то в духе феноменологической философии (но, не без иронии заметил он, «не прибегая к непереводимой терминологии немецких феноменологов»). Вывод философа: при этико-персонологическом, в отличие от традиционного эпистемологического, подходе бытие человека следует признать «онтологической тайной» [59]. И в самом деле, если стоять на религиозной точке зрения и искать логическое объяснение наличию — более того, власти — зла в мире, приходится признать «тайной» провозглашенную теологией «непостижимость воли Божьей», недоступной ограниченному земным опытом человеческому разуму… [60].
«Иметь или быть?» — предмет историко-культурологического анализа и Э. Фромма, книга которого под этим названием вышла в свет в 1976 г. в Нью-Йорке. Ее первый раздел «Понимание различия между обладанием и бытием» начинается с замечания, что «альтернатива „обладание или бытие“ противоречит здравому смыслу», ибо кажется, особенно в современном обществе, что сущность бытия заключается именно в обладании, что человек — ничто, если он ничего не имеет. «И все же, — утверждает философ, ссылаясь на Будду, на Иисуса, на Майстера Экхарта, на К. Маркса (считая при этом необходимым разъяснить: „я говорю здесь об истинном Марксе — радикальном гуманисте, а не о той вульгарной фальшивой фигуре, которую сделали из него советские коммунисты“, — и приведя ряд примеров из произведений поэтов Востока и Запада), великие Учители жизни отводили альтернативе „обладание или бытие“ центральное место в своих системах». Эта позиция великих мыслителей прошлого и собственные многолетние психоаналитические исследования привели Э. Фромма к выводу, что «различие между бытием и обладанием, так же как и различие между любовью к жизни и любовью к смерти, представляет собой коренную проблему человеческого существования» [61].
Вместе с тем, проницательный философ видит и другой аспект проблемы: «еще одно столь же важное значение бытия обнаруживается при противопоставлении его видимости… Мое поведение может частично отражать мое бытие, но обычно оно служит своего рода маской, которой я обладаю и которую я ношу, преследуя какие-то свои цели». Опираясь на данные психоаналитического учения 3. Фрейда, Э. Фромм показывает значение в человеческой жизни различных способов сознательной или бессознательной подмены бытия «иллюзорными», «фальшивыми», «обманными» формами поведения [62].
Хотя Э. Фромма не интересуют общие проблемы онтологии, и все его внимание сосредоточено на ее антропологически-культурологическом аспекте, сам ход его мысли, как видим, наталкивает его на включение оппозиции «быть — иметь» в более широкий онтологический контекст. Вместе с тем, его позиция, в сопоставлении с позициями других, предшествовавших в XX в. и современных ему деятелей, служит лишним примером той крайней пестроты рассуждений западных мыслителей на онтологические темы, которая является одним из аспектов общего мировоззренческого хаоса, воцарившегося в евро-американской цивилизации в нашу эпоху. Естественно, что это проявилось и в отношении философов к проблеме небытия — приведу резюмирующее суждение выдающегося философа и теолога П. Тиллиха, содержащееся в его трактате «Мужество быть»: «Небытие — одно из самых трудных и самых употребляемых в философии понятий. Парменид сделал попытку устранить это понятие как таковое. Но ради этого он был вынужден принести в жертву жизнь. Демокрит вернулся к этому понятию и отождествил небытие с пустотой для того, чтобы сделать движение мыслимым. Платон использовал понятие небытия, так как без него противопоставление существования и чистых сущностей непостижимо. Различение материи и формы у Аристотеля предполагает небытие. Именно оно помогло Плотину описать то, как человеческая душа утрачивает самое себя, и оно помогло Августину дать онтологическое истолкование человеческого греха. Псевдо-Дионисий Ареопагит положил небытие в основу своего мистического учения о Боге. Якову Беме, протестантскому мистику и предтече „философии жизни“ принадлежит классическое утверждение о том, что все сущее укоренено в Да и Нет. Небытие предполагается как в учении Лейбница о конечности и зле, так и в кантовом анализе конечного характера категориальных форм. Диалектика Гегеля делает отрицание движущей силой в природе и истории; а представители „философии жизни“, начиная от Шеллинга и Шопенгауэра, используют понятие „воля“ в качестве основополагающей онтологической категории, поскольку именно воля обладает способностью отрицать себя, не утрачивая себя. Понятия процесса и становления у Бергсона и Уайтхеда подразумевают небытие наравне с бытием. Современные экзистенциалисты, особенно Хайдеггер и Сартр, поместили небытие („Das Nichts, Le neant“) в самый центр своей онтологии; а Бердяев, следуя за Дионисием и Беме, разработал онтологию небытия, которая обосновывает „меоническую свободу“ для Бога и человека» [63].
зо Историографическое описание хода развития мировой онтологической мысли не является целью настоящей монографии, тем более, что существует посвященная этому специальная литература [64]; проделанный краткий обзор имел целью лишь показать печальное состояние, в каком ныне находится онтология в европейской философии, и убедить в необходимости нового, нетрадиционного подхода к ее теоретическому построению.
Несколько слов об онтологической ситуации в восточной философии — «несколько» и потому, что она гораздо менее известна автору, и потому, что, по-видимому, сколько-нибудь оригинальных идей в этой области философии там в наше время не возникло.
Онтологическая мысль в философии восточных стран в XX в. известна в России, в частности автору этих строк, несравненно хуже, чем западная, но, по имеющейся у него информации, общей тенденцией является стремление связать современные европейские учения, преимущественно феноменологически-экзистенциалистские, с традициями древнего национального мышления; что делал, например, известный японский философ 20—30-х годов XX в. К. Нисида, основной круг интересов которого совпадал с интересами европейских философов — Япония, быстро догоняя Запад, оказалась в это время в сходных социокультурных условиях, поэтому онтологические проблемы могли волновать ее общественную мысль не в их традиционном, натурфилософском содержании, а в их экзистенциалистском повороте. Как писал исследователь его взглядов Ю. Б. Козловский, в стремлении наполнить свою онтологическую концепцию «реальным жизненным содержанием», разумеется, экзистенциалистского толка, он опирался на учения европейских мыслителей, от С. Киркегора до К. Ясперса. В итоге отношения индивидуального и общего, повернутые в онтологическую плоскость, оказались отношениями бытия и небытия, причем последнее получает эпитет «абсолютное», лишенное какой-либо субстанциальности и сводящееся, в конечном счете, к одному из основоположений буддийского представления о сверхчувственном, мистическом мировосприятии.
[65] .
Один из его учеников и последователей М. Киёси вообще свел онтологию к антропологии, определяя последнюю как «онтологию жизни».
[66] и приняв без каких либо корректив концепцию Dasein в онтологической теории М. Хайдеггера [67].
Какова же история онтологической мысли в нашей стране?