Категории и формы русского языка как способ выражения ментальной картины мира
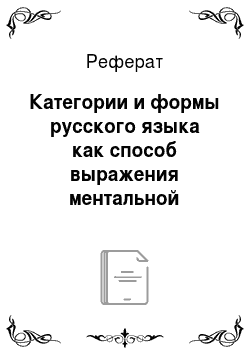
С содержательной расплывчатостью этнонима русский согласуется «всемирная отзывчивость» русского национального характера, которую подчеркивал Ф. М. Достоевский в своей знаменитой речи памяти Пушкина, восхищаясь способностью Пушкина-художника «перевоплощаться вполне в чужие национальности» и расценивая ее как «национальную русскую силу», как специфически русскую черту «всечеловечности»: «Стать… Читать ещё >
Категории и формы русского языка как способ выражения ментальной картины мира (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Мы уже говорили, что в мировидении этноса предметная картина мира играет главную организующую роль. Как показал наш первый исследователь русского и славянского этноязыкового сознания А. А. Потебня, славянская речемысль развивается по пути углубления категорий динамики, процесса. Однако это происходит на более абстрактном уровне языка, чем лексический, и не так очевидно связано с историей и психологией этноса, как состояние и развитие предметной картины мира.
Существенная черта русского мировосприятия — родовая дифференциация предметной картины мира. Эта качественная характеристика нашего речевого сознания, воплощенная в грамматической категории рода, полнее и ярче оценивается на фоне иного предметного мировосприятия, свойственного носителям других языков, — в отличие, например, от дифференциации существительных по принципу определенности-неопределенности в английском (это выражается употреблением соответствующих артиклей), по принципу принадлежности какому-то лицу в тюрко-татарских и финно-угорских языках (что выражается соответствующими аффиксами), по принципу принадлежности классам мужчин-немужчин в грузинском языке (что тоже передается соответствующими морфемами) и т. д.
Русское восприятие предметного мира в категориях мужского-женского-среднего родов служит естественной основой для создания образов художественной речи, отражающих неживые реалии. При этом идея пола, потенциально присущая неодушевленным существительным мужского и женского рода, дает естественный импульс их олицетворению. Из множества антропоморфных образов, пол которых мотивируется грамматическим родом, напомним лишь известный народнопесенный дуэт рябины и дуба, а также неповторимый лермонтовский образ: «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана…». Невозможно представить себе адекватный перевод этих строк, например, на финский язык, не знающий родовой принадлежности предметов мысли.
Что касается среднего рода, то благодаря своей неопределенности и он может получать эстетическое осмысление в поэтической речи. Так, например, в народно-сказочном стиле и средний род, и даже колебания в роде выступают специфической чертой персонажей «чужого мира» в художественном пространстве сказки. Неопределенность родовой принадлежности Чудища, Чуда-юда, Идолища и других героев волшебной сказки играет своего рода устрашающую роль[1].
Русское мировосприятие в категориях рода порождает множество непереводимых смысловых оттенков литературной и разговорной речи, обусловленных взаимодействием реального пола лица и родовой принадлежности его наименования. По свидетельству Н. Ильиной, А. Ахматова «терпеть не могла, когда ее называли „поэтесса“. Гневалась: Я — поэт». Аналогично восприятие рассматриваемой родовой параллели и другими русскими представительницами этой творческой профессии — Мариной Цветаевой («Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я — поэт…»), Риммой Казаковой («Поэзия — мужичье дело, Воловий труд, соленый пот. Зачем же Орлеанской девой В поэты девочка идет?»). Подчеркнутая уважительность словоупотребления типа поэт Анна Ахматова, художник Наталья Гончарова при наличии вариантов поэтесса А. Ахматова, художница Н. Гончарова ощущается практически всеми носителями русского литературного языка. Идея лица (в данном случае — наименования творческой профессии) здесь перевешивает идею пола, как это вообще свойственно мужскому роду. Именно слабость идеи пола позволяет легко преодолевать несогласование родовых форм в обычных для русского языка сочетаниях типа врач Петрова, академик Ярцева, режиссер Лиознова и т. д.
Важные смысловые эффекты возникают и в употреблении слов учитель и учительница, обладающих различным понятийным и стилистическим потенциалом. Если речь идет о лице женского пола, то наименование учитель вместо учительница выступает ярким оценочным определителем, подчеркивая интеллектуально-нравственный авторитет личности: 23 марта — день памяти моего учителя — профессора Марии Александровны Соколовой.
Напротив, употребление форм женского рода наа применительно к лицам мужского пола носит экспрессивно-сниженный характер: это происходит и в словах так называемого общего рода (его выделяют на основании синтаксических связей) — соня, рева, недотепа, горемыка, гулена, бедняга и т. д., и при семантических переносах в оценочных существительных типа баба, лиса, пила, шляпа, змея, душка, тетеря и т. п. При этом в сочетаниях даже с такими словами определение стремится «не уронить мужского достоинства». Сравним: «Ах ты мордашка эдакой!» — восклицает перед зеркалом весьма удовлетворенный собою гоголевский Чичиков.
Такое «родополовое пересечение», как показал еще А. А. Потебня, объясняется ментальными представлениями, являясь отзвуком патриархальных воззрений на женщину как на существо более низкого порядка. «Унизительность перенесения форм женского рода на мужские лица» А. А. Потебня иллюстрирует челобитной XVII в., где содержится жалоба на обвинение в подобном «бесчестии»: «Умысля тот Андрей подал на меня… явку… будто я, холоп твой, бесчестил его и лаял, и называл будто я жонкою… и ко двору, государь, к нему, Андрею, я, холоп твой, не прихаживал и его не бесчесчивал и жонкою не назывывал. То на меня все он, Андрей, тебе, государю, являет ложно» (1617, Акты юридические, 86) [2].
Не менее ярко проявляется социально-историческое неравенство полов в письменном речевом этикете наших предков XVII—XVIII вв. Так, обычная зачинательная формула «грамотки», написанной супружескою рукою, резко различалась в зависимости от того, кто из супругов ее писал. Сравним: «Государю моему Степану Корнилевичу женишко твоя Улька челом бьет», — пишет жена Ульяна мужу Степану.[3] «От Михаила Панфилевича жене моей Авдотье», — начинает свое послание без наименования супруги по отчеству нежно любящий муж, который ниже, в отступление от письменного этикета, называет жену «Дунюшка», «свет мой», «душа моя»[4].
Преодоление общественного неравенства женщины в России протекало под европейским влиянием и началось с реформирования русского партиархального быта Петром 1.
Среди непереводимых нюансов русского родового мировосприятия отметим также снисходительно-ласковое и вместе с тем экспрессивносниженное значение среднего рода по отношению к лицам обоего пола: «Чего ты хочешь от 18-летнего мальчишки (вариант: девчонки)? Оно еще дурное…». В подобных случаях современного переосмысления рода (его десексуализации) перед нами осколок более древнего русского мировосприятия, когда все неполновозрастные существа воспринимались как категория особого социально-пассивного рода. Неполновозрастное «оно» (дитя, дитятко, чадо) в древнерусском (восточнославянском) языке имело более широкое лексическое выражение: робя (мн. число — робята), отроча (отрочата), теля (телята), жеребя (жеребята) и т. д., а также ласкательно-личные имена ная (а) с формантомятв косвенных падежах и в производных образованиях (например, Гостя, Путя и соответственно: грамота от Гостяты (Новг.), грамота Чешаты (Псков), поклон от Жидяты, Путятина Минея; см. также дожившие до наших дней образования Ванятка, Гришатка, Васятка и фамилии типа Васятин, Юрятин, Манятин). Все уменьшительно-ласкательные личные имена, как и названия детенышей животных, объединенные суффиксомяти изначально принадлежащие среднему роду, в истории русского языка вошли в более продуктивную оппозицию мужского — женского родов, связанную с реальным полом живых существ[5].
Из других категориальных форм в русской предметной картине мира заметную роль играют формы субъективной оценки, особенно уменьшительно-ласкательные (их называют деминутивами). «Милому свойственно быть малым, — писал известный русский филолог К. С. Аксаков. — Самая ласка предполагает уменьшительность предмета, и вот почему для выражения милого, для ласки употребляется уменьшительное…»[6]. Человек — человечек, лес — лесок, ветер — ветерок, лиса — лисичка, друг — дружок, брат — братец, сестра — сестричка, дом — домик — в этих и подобных образованиях «экспрессивные оттенки словоупотребления решительно преобладают над колебаниями самого лексического значения»[7]. Академики А. А. Шахматов, В. В. Виноградов и другие исследователи современного русского языка предпочитают говорить о формообразовании, а не о словообразовании в данном случае, отмечая при этом легкость превращения деминутивов в самостоятельные слова, например: платок, лисица, ветка, девица, батюшка и т. п.
Для наших целей изучения русской предметной картины мира исторически подвижная граница формои словообразования не так существенна. Гораздо важнее отметить исключительную продуктивность таких форм в русском языке на протяжении его истории и задуматься над психологическими причинами этого явления и его воздействием на сознание говорящих.
«В слове, — писал выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский, — претворяется творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук небо отчизны, ее воздух, физические явления, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы, — весь тот глубокий, полный мысли и чувства голос родной природы, который так громко говорит о любви человека к его иногда суровой родине». Справедливость этих слов хорошо чувствуется при обращении к деминутивам.
Красочный полевой луг в русской языковой картине мира в большой степени живописуется именно такими, в прошлом уменьшительноласкательными формами: ромашки, одуванчики, васильки, лютики, колокольчики, бубенчики, ноготки, петушки, касатики, анютины глазки, кукушкины слезки, медвежьи ушки, кошачьи лапки, марьины башмачки, пастушьи гребешки и т. д. Входя в мир родной природы, русский ребенок узнает названия птиц: ласточка, пеночка, рябчик, кобчик, зяблик, кулик-краснозобик, совка-сплюшка, вертишейка, жаворонок, кукушка, чирок-свистунок, чистик, глупыш, гаичка, варакушка — все они и многие другие изначально имеют ласкательный суффикс. Само различение птиц (по их внешнему виду, повадкам, образу жизни) — это уже внимание и уважение к созданьям природы, а вместе с уважением прививается и любовь. Круг подобных образований в нашем языке много шире, если принять во внимание те уменьшительно-ласкательные формы (прежде всего, на -ец, -иц (а), -ц (а), -ц (е), -к (а), а иногда на -ок, -ик), которые со временем как бы «износились», стерлись, полностью слившись с корнем: птица, синица, горлица, птенец, скворец, утка, зорянка, куропатка, оляпка, казарка, славка и т. д.; овца, телка, буренка, хрюшка, щенок, кошка, заяц, белка, ласка, хорек, песец, суслик, тушканчик и т. д.; белорыбица, толстолобик, горбуша, ряпушка, корюшка, подлещик, востробрюшка, красноперка, тунец, бычок, снеток и т. д.
Эта изначальная разлитость доброго, теплого чувства прослеживается не только в отношении к живым творениям природы («братьям нашим меньшим» и растительному царству), но и в отношении неорганического мира: древние солн-ц-е, мес-яц, зарн-иц-а; более поздние метел-иц-а, непогод-иц-а, мороз-ец, ветер-ок и т. д. Взятая в совокупности, она передает своеобразную благостность в состоянии русской души, ее умиротворенность, внутреннее согласие и лад, которые настраивают на радостное приятие жизни. Это особенно чувствуется, когда в языке существуют оба варианта — уменьшительный и нейтральный (Сравним две психологические реакции: Ну и денек!.. Морозец!!! и Ну и день!.. Мороз!!!). Как только эмоциональная тональность подобных образований исчезает, в языке появляются обновленные, чаще всего — удвоенные (а иногда и утроенные) ласкательно-экспрессивные формы: солнышко, птичка, птенчик, белочка, зайчик, скворушка, девчоночка, мальчишечка и т. п.
Как объяснить данную константу русского (в истоках — праславянского) виденья природы и всего окружающего мира, этот эмоциональный «модус» отношения к солн-ц-у (солнышку) и каждой былин-к-е, к маленькой бук-ашк-е и отнюдь не маленькой кос-ул-е, к слабому дождик-у и крепкому мороз-ц-у?
Некоторые исследователи предполагают магическую, задабривающую роль изначально ласкательных названий типа солнце и месяц[8]. Однако рассматриваемое языковое явление значительно шире той группы слов, к которой такие пояснения приложимы. Скорее всего, оно коренится в исконно земледельческом, крестьянском мироощущении славянского этноса. Образ жизни (modus vivendi) породил образ мышления (modus cogitandi). Именно возделывая нивы и вскармливая домашних животных, древние русичи и их пращуры изо дня в день наблюдали и познавали целительную красоту и щедрую животворящую силу природы, воздающей сторицей человеку за труды его. В русской крестьянской народно-поэтической речи и сейчас широко употребительны землица, дождичек, снежок, травушка-муравушка, земля-матушка, землица-кормилица, красно солнышко, широко полюшко, быстра реченька, крутой бережок — слова и поэтические формулы, передающие то же ласково-бережное отношение к великому «природному дому» человека.
В этой связи очень характерно, что Лев Толстой с его нравственной философией «естественного человека» неоднократно подчеркивал этическое воздействие природы на крестьянина, для которого она не только источник пропитания, но и средство «возделывания души». См., например, замечание Л. Толстого: «У Глеба Успенского… есть одна хорошая статья „Власть земли“, — о том, что земля имеет свойство формировать работающего на ней человека». «Радостно-здоровое ощущение жизни и природы, свойственное русскому характеру» не случайно отмечал и Томас Манн, один из великих немецких художников слова, когда восхищался «обворожительными примерами наслаждения природой» в повестях и романах И. С. Тургенева[9].
Другое объяснение, которое не противоречит, а лишь дополняет, на наш взгляд, изначальную мотивацию уменьшительного формообразования, — это не лишенное психологических оснований предположение о том, что в данном случае получило свое отражение женское начало в речевом творчестве, которое в целом отличается большей эмоциональностью, большей миротворческой направленностью и, видимо, большей этикетностью. Особая активность женской половины крестьянской семьи в сохранении, развитии и приумножении традиций словесной культуры давно известна исследователям русской народной поэзии. Однако что касается изучения двух психологических истоков — мужского и женского — в стереотипах речевого поведения, на которые едва ли не первым обратил свое исследовательское внимание американский ученый Эдвард Сепир[10], то в русистике оно представляет собой невспаханное поле.
Говоря о категориях русского языка как способе выражения ментальной картины мира, нельзя не сказать и о таком очень интересном и показательном грамматическом явлении: в нашем языке среди названий людей различной национальности (так называемых этнонимов: белорус, украинец, чех, поляк, француз, татарин и т. д.) есть только одно наименование, которое представляет собой не существительное, а субстантивированное прилагательное. Иными словами, исторически оно не содержит в себе конкретной предметности и является зависимым словом. Что же это за этноним? Речь идет о нашем самоназвании — этнониме русский, русская, русские, сложившемся в эпоху самостоятельного развития восточнославянских народов, то есть в период этнической истории «от Руси к России», когда русский значило «относящийся к централизованному государству Руси», в этнический состав которого вошли карелы, лопари, ханты, манси, коми, татары, удмурты, мари, чуваши, мордва и другие народы, в большинстве своем принявшие христианство и составившие единый русский «суперэтнос» (в терминологии Л. Н. Гумилева).
В прошлом веке в Петербурге издавалась газета «Русский еврей», широко употреблялись и сейчас употребляются сочетания русские немцы, русские армяне, русские корейцы и др. Очень характерно, что в новейшее время экономических и политических реформ появилось сочетание новые русские, имеющее аналоги в других языках. Его содержательный объем отнюдь не исчерпывается представителями одной национальности, это именно «состоятельные граждане новой России разных национальностей», «новые российские люди» или даже шире — «новые люди бывшего Советского Союза». В печальном неологизме самого последнего времени «русская мафия» (калька с американизма Russion mafia) содержится то же признание русскими любых выходцев из бывшего Советского Союза (об этом говорилось, в частности, в программе «Время» от 10 июля 1998 г. устами телеведущей Арины Шараповой).
О чем говорят все эти языковые факты? Вряд ли их можно истолковать иначе, чем объективные лингво-исторические свидетельства этнопсихологической черты нашего народа — национальной «неограниченности», открытости русских и признания этого факта со стороны других народов, в том числе и в самом «беспристрастном», негативном контексте.
С содержательной расплывчатостью этнонима русский согласуется «всемирная отзывчивость» русского национального характера, которую подчеркивал Ф. М. Достоевский в своей знаменитой речи памяти Пушкина, восхищаясь способностью Пушкина-художника «перевоплощаться вполне в чужие национальности» и расценивая ее как «национальную русскую силу», как специфически русскую черту «всечеловечности»: «Стать настоящим русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите»[11]. Не умаляя этой мысли Ф. М. Достоевского, И. А. Ильин — один из мыслителей русского философского ренессанса XX в. — подчеркивает в пушкинской «всеоткрытости души» «национальный дух народа» и утверждает в нем «чудеснейшее, целостное и победное цветение русскости» (выделено автором)[12]. Как отмечал философ в цитируемой речи, прочитанной в Парижском Богословском институте по случаю юбилея Пушкина в 1937 г., «всегда и везде он впитывает в себя живую Россию и напитывается ее живою субстанцией. Мало того: он входит в быт русских народов, которых он воспринимает не как инородцев в России, а как русские народы (выделено автором)… Братски, любовно принял он в себя русскую многонациональную стихию во всем ее разноообразии…»[13]. Развивая мысли Ф. М. Достоевского, другой русский философ этой же когорты, глубокий знаток русской литературы Семен Людвигович Франк говорит о «почти безграничной широте пушкинского духа» и «просторе для сочувственного восприятия всего общечеловеческого… Как отдельная человеческая личность, чем более она глубока и своеобразна, чем более укоренена в глубинной самобытной духовной почве, тем более общечеловечна (пример — любой гений), так и народ» (выделено мной. —Л. С.)[14].
Таким образом, грамматическое оформление этнонима русский вряд ли можно считать чем-то случайным: видимо, перед нами действительно ключевая категория национальной речемысли, которая, однако, никак не должна восприниматься в духе апологетики русского этнического сознания.
История уже не раз показывала, что слишком часто это, казалось бы, прекрасное свойство «широкой русской натуры» оборачивается малопривлекательной стороной: так, унизительное преклонение и пресмыкательство перед чужеземными нравами и обычаями и, в частности, перед «дикими и странными уху словами», не оправданными необходимостью, еще Ломоносов расценивал как «неприличности». Н. М. Карамзин, вошедший в историю русской культуры как ее европейски ориентированный деятель, писал: «Должно приучать россиян к уважению собственного». Общеизвестно, что русские поэты, писатели, драматурги самых различных направлений: Фонвизин и Крылов, Грибоедов и Языков, Пушкин и Гоголь, А. Островский и СуховоКобылин, Достоевский и Салтыков-Щедрин, Л. Толстой и Короленко, а также многие, многие другие — не переставали вышучивать, высмеивать, изобличать эту склонность нашего национального характера[15]. По этому поводу великий ученый и патриот России А. А. Потебня замечал: «Нет ничего глупее и унизительнее, как подражать иностранцам на российский манер; но недурно поучиться и у немца дорожить своим» (из письма И. Е. Беликову).
Рассмотренная черта нашей этнической психологии — прямое следствие исторических и географических условий жизни обособившейся ветви восточных славян. Русская нация складывалась как органическое слияние многих народов Московской и «всея Руси», причем их ассимиляция протекала не без ощутимого покровительства властей (об этом, в частности, говорит множество русских аристократических фамилий нерусского происхождения). Отсюда национальная замкнутость всегда была чужда формировавшемуся этническому сознанию русских[16].
- [1] Об этом см.: Гин Я. И. Из наблюдений над категорией рода в русской народнойсказке // Язык жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1977. С. 114—127; Он же. Поэтика грамматического рода. Петрозаводск, 1994, С. 146—147.
- [2] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. III. Изд. 2. М., 1968. С. 498.
- [3] Грамотки XVII — начала XVIII века. М., 1969. С. 65.
- [4] Там же. С. 60.
- [5] Заметим, что в украинской предметной картине мира восточнославянскийсредний род неполновозрастных существ сохранялся гораздо дольше и в современномукраинском языке представлен полнее. Теля (телятко), козля (козеня, козлятко), ягня (ягнятко) и другие свой средний род сохраняют неизменно. Типичные украинскиефамилии: Санъко, Митъко, Грицько и др., Савченко, Харченко, Петренко и т. п. — восходят к уменьшительным именам с окончанием среднего рода (Потебня А. А. Указ. соч.С. 460). Показательны в этом отношении и более редкие украинские фамилии по типуХоменят, Олексят, Михалъчат, представляющие собой аналог русской фамилии Фоминых. Об этом см. Унбегаун Б. О. Русские фамилии. М., 1989. С. 201—209.
- [6] Аксаков К. С. Опыт русской грамматики. Ч. 1. М., 1860. С. 61.
- [7] Виноградов В. В. Русский язык. Л., 1947. С. 112.
- [8] Havers W. Neuere Literatur zum Sprachtabu. Wien, 1946 // SWA, 223, № 5. C. 83—84.
- [9] Сохряков Ю. И. Художественные открытия русских писателей. М., 1990. С. 28.
- [10] Сепир Э. Мужской и женский варианты речи в языке яна // Сепир Э. Избранныетруды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 455—462.
- [11] Достоевский Ф. М. Пушкин: Очерк: Произнесено 8 июня 1880 года в заседанииОбщества любителей российской словесности. Собр. соч. в 10 томах. Т. 10. С. 457.
- [12] Ильин Иван. Пророческое призвание Пушкина // Пушкин в русской философскойкритике: Конец XIX — первая половина XX в. М., 1990. С. 335.
- [13] Там же. С.340—341.
- [14] Франк С. Л. Пушкин об отношениях между Россией и Европой // Пушкин в русской философской критике. С. 459.
- [15] См. хотя бы «надпись на магазине с картузами» в губернском городе N «Иностра-нецъ Василий Федоровъ» (Н. Гоголь. Мертвые души), которая по своей невежественнойнаивности очень напоминает многие вполне современные вывески.
- [16] Гумилев Л .Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 1992.