Художественный мир в романе Дж. Барта «Письма»
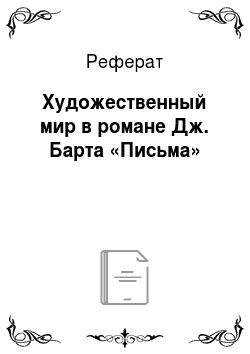
В «Химере» — произведении, по словам Барта, «об ориентации, дезориентации, переориентации» — автор, напротив, создает чисто художественную структуру, функционирующую на основе только вероятностного принципа: на это указывают и три головы мифического чудовища. Используя технику «рассказа в рассказе о рассказе», на свой манер интерпретируя сказки «Тысячи и одной ночи» и древнегреческие мифы, авторы… Читать ещё >
Художественный мир в романе Дж. Барта «Письма» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР В РОМАНЕ ДЖ. БАРТА «ПИСЬМА»
Т.И. Воронцова Во второй половине ХХ столетия в литературе США появляются большие эксперименты, отражающие ощущение стилистического изменения действительности, имеющего отношение к миру новых технологий, растущему потребительству, массовой культуре.
Яркое воплощение такое «постмодернистское чувствование» нашло в творчестве американского писателя и литературоведа Джона Барта. В духе романтиков автор противопоставляет прозе жизни поэтический полет свободного духа, что обусловлено стремлением человека второй половины ХХ века познать себя.
Выражая убеждение, что «the past not only manures the future: it does an untidy job» (257)1, прозаик создает эпистолярный эпос «Letters» (1979) в стиле высокоинтеллектуальной французской комедии «соти». В нем сумма интерпретаций шести предшествующих книг автора представляется как творческий «хаос», отражающий эстетический мир художника. Расщепив собственное сознание на эпистолярные потоки, писатель выявляет собственное специфическое мироощущение, особое восприятие словесности США, пытаясь перевоссоздать прошлое сообразно своим идеальным о нем представлениям и осознать актуальную проблему «художественности»2.
Барт изображает этот процесс как переписку между «drolls & dreamers» (49) — главными персонажами из его ранних романов, наряду с новой героиней Леди Амхерст — «The Fair Embodiment of the Great Tradition» (39). Получившие новую жизнь Тодд Эндрюс из «Плавучей оперы» (1956, 1967), Джакоб Хорнер из романа «Конец пути» (1958), Эбенезер Кук из исторической эпопеи «Торговец дурманом» (1960), Джералд Брей из произведения «Козлоюноша Джайлз» (1966), Амброуз Менш из сборника новелл «Заблудившись в комнате смеха» (1968) сочиняют свои эпистолы в характерной для каждого манере. А Автор Джон Барт — не реальный писатель, но персонаж, встречавшийся уже в трилогии «Химера» (1972) и в различных обличиях в других книгах, организует и структурирует корреспонденцию, помогая истинному автору самоустраниться и присутствовать лишь как ссылка в каталогах «библиотечного» пространства романа в письмах. Каждый из респондентов завершает рассказ других, комментируя предшествующие произведения Барта. В раскрытии сюжета «Писем» задействованы и другие персонажи из его ранних книг.
Возникшая множественность сознания художника порождает в «Письмах» особую авторскую ситуацию, в которой Барт то присутствует, то отчуждается, создавая то усиливающееся, то уменьшающееся несовпадение точек зрения автора и героев. Остроумный писатель творит такой «сдвиг» как искусство чередования художественного «безумия» и здравого смысла, сопоставимые с «истощением» и «восполнением» литературы соответственно. Достигается подобная эстетика через представление героев архетипами мифологической схемы «Письма», а также — через обращение к «философскому (универсальному) юмору, который выражает чувство родства с целым человечеством»3.
Преодолевая психологизм, Барт рассматривает свое искусство и в свете теории структурализма. Художественное в этом случае изображается как разложение воспоминаний о прежних книгах писателя на математические знаки, диаграммы, где творческий процесс предстает как виртуальная реальность. Сплав эстетического и иных ценностных начал становится условием творения произведения искусства, несущего, по мысли Барта, «терапевтическое восполнение» как оздоровление устаревших литературных форм.
При создании художественной реальности переосмысление событий и идей предшествующей жизни героев, а также тех концепций, которые они представляют в своем психологическом преломлении, происходит на пограничье игрового и текстового. Именно поэтому главы в «Письмах» начинаются с загадочного календаря, где буквы алфавита соответствуют дням, когда персонажи писали свои письма. И только составленные вместе семь календарей сообщают подзаголовок романа: «an old time epistolary novel by seven fictitious drolls & dreamers, each of which imagines himself actual» (49). А поскольку герои символически выражают различные литературные направления, то уже в определении «чудаки», или «фигляры», слышится бартовская ирония — тонкая, скрытая насмешка по поводу действительности не только героев, но и литературных тенденций.
Выражая собственный иронический взгляд на действительность, писатель прибегает к самым разнообразным способам изложения: письмам, которые напоминают, порой, краткую записку, однако обязательно снабженную послесловием, «that outmeasures its body» (12), или интимной переписке, официальным документам и описаниям исторических событий, поскольку «to put things into words works changes, not only upon the events narrated, but upon their narrator» (80). Бартовские эпистолы — это также страстные исповеди ради общения с произведениями культуры, которые отличаются от реальных творений природы и ощущаются как «the ghosts of the living» (18).
Подобное восприятие реальности культуры аналогично размышлениям Хосе Ортега-и-Гассета. Опираясь на «фундаментальный анализ коренных особенностей художественной жизни [ХХ. — Т. В.] столетия», испанский философ объясняет перелом «прогрессивным вытеснением элементов „человеческого, слишком человеческого“, которые преобладали в романтической и натуралистической продукции»4. Суть его, по мысли А. М. Зверева, в «движении от „реального“ к „ирреальному“» — «символическому обретению космоса, бесконечности»5.
В контексте «большого времени» (М. Бахтин) Барт стремится определить свое место в американской и мировой литературе. Писатель ощущает его, когда «the Present does not exist (it being the merely conceptual razor’s edge between the Past and the Future), at the same time it’s all there is: the Everlasting Now between a Past existing only in memory and a Future existing only in anticipation» (88−89). Поэтому, размышляя в «Письмах» о состоянии литературы и перспективах основных тенденций, Барт представляет ее в свете современной западной философии, для которой понятие «современность» выходит за пределы хронологических рамок и расширяет предмет философствования за счет включения проблематики культурного, экзистенциального, исторического, практического характера. В этом смысле современным мыслителем для прозаика оказывается даже современник Р. Декарта — Блез Паскаль (1623−1662).
Основные особенности нового текста бартовского «stercorant» (15) — многоголосие и разнозначность фабульных линий, которые неизменно пересекаются в центральном событии, отсутствие центростремительности, воспарение автора над событиями и персонажами, которые, тем не менее, время от времени имеют возможность субъективно освещать определенные отрезки повествования. Ощущение ритма, гармонии, жизненности этого полифонического звучания создается разнообразием стилистических средств, а также посредством использования автором различных шрифтов, на формальном уровне отражающих дух разных исторических эпох.
Оживляет повествование и смена настроений героев в связи с переходом в «Письма». Персонажи из романов «Плавучая опера» и «Конец пути» — экзистенциально абсурдистских трагикомедий, гротескных и метафорических произведений — связаны с началом творчества писателя. Они создавались под впечатлением философских трактатов и художественных произведений М. Хайдеггера и А. Камю. Явна также и ориентация на «предтечу экзистенциализма» Б. Паскаля, чья «философия сердца» предопределила экзистенциальный характер всей современной антисциентистской философии.
Размышления о смысле жизни, осознание свободы и ответственности в философии экзистенциалистов, описывающих эфемерность и трагизм жизни людей, вызванный ужасами мировых войн и их последствиями, особенно интересовали Барта в начале творческого пути. Учение получило широкое распространение в послевоенные годы, когда жизнь представлялась бессмыслицей, нелепостью. Понимая жизнь как движение к смерти, представители экзистенциалистской теории воспринимали свободу, в основе которой лежит бремя выбора, в зависимости только от субъективных намерений человека и как превращающуюся во вседозволенность. Размышления Тодда Эндрюса и Джекоба Хорнера отображают в первых двух книгах Барта парадоксальное мышление автора, требующее придерживаться противостоящих точек зрения на один и тот же факт. Та общность, которую наблюдают герои, ужасает их, и они оба стремятся уйти, спрятаться от нее.
Но, будучи образцами произведений школы «черного юмора», первые романы Барта шокируют и одновременно смешат, фантазируют, но их автор ни в коем случае не отличается дидактическим морализаторством. Поэтому нельзя не согласиться с утверждением американского критика МакКонелла о бартовском скептицизме как отрицающем нигилизм: «Очевидно, что, будучи достойным человеком, Барт не стремится утверждать: „anything goes“. Его этические принципы вмещают нечто большее, чем „беспорядочный компромисс“, а именно: привычку умеренного поведения и [стремление к. — Т. В.] относительному порядку»6.
В «Письмах», подводя своих героев, а вместе с ними и свои экзистенциалистские рассуждения к «последней черте», Барт особенно выделяет то, что Б. Паскаль обозначил как «вторая природа» человека. Проявляется она в «ничтожестве человека, заключающемся в его бытийной сущности, в невозможности „все знать“ и „все понимать“, в стремлении приукрасить себя в погоне за славой: человек хочет быть великим, а видит себя малым; хочет быть счастливым, а сознает себя несчастным; желает быть совершенным, а находит себя полным несовершенств. .»7. И в этом абсурдность и бессмысленность существования в этом мире, который в «Плавучей опере» аранжировал Капитан Адам — прототип Автора в эпистолярном романе «Письма».
Включая в контекст социально-исторических и эстетических проблем вопросы, касающиеся исследования развития литературоведческой мысли, Барт через «нигилистические» настроения главного героя первого романа Тодда Эндрюса высказывает мысли и чаяния представителей «новой критики» (направление литературной критики, появившееся в 20-е годы ХХ столетия). Ее поборники проповедовали чисто интеллектуальный подход к произведению. Недаром протагонист романа постоянно сетовал на то, что эмоции как бы мешают ему в жизни. Интересы «неокритиков», как и персонажи Барта, были связаны не только с литературой, но и с социальной жизнью, политикой, проблемами Юга Соединенных Штатов. Многие профессиональные литературоведы и университетские преподаватели литературы США и других стран примкнули к этому течению.
Но если Тодд — «новокритический» человек, то понимание им своего «ничтожества» в «Письмах», в результате которого Эндрюс испытывает «отчаяние в собственном грехе», свидетельствует об осознании героем своего жалкого состояния, что, согласно Б. Паскалю, признак его величия. «Он жалок потому, что таков и есть на самом деле: но он велик, потому что сознает это»8. Таким образом, заявляя через судьбу Тодда о сомнительности «новой критики», Барт одновременно возвышает ее, а также и себя как литературоведа.
По мысли А. С. Козлова, многие американские литературоведы считали представителей этого литературного направления «формалистами». Однако против такого определения были и возражения: А. Тейт утверждал, что знает только одного «формалиста» — Аристотеля. Не может согласиться со смертью «неокритики» и Барт, так как эта тенденция, почитавшая поэтику, рекомендовала пристально прочитывать и выявлять специфику художественного произведения, что стало традицией, которую продолжили литературоведы-фрейдисты.
В «Письмах» Барт с интеллектуальной точки зрения анализирует свои ранние тексты. Персонажи сочиняют для своих адресатов эпистолы, отличающиеся субъективным характером, а значит, их письма оказываются недоступными объективному научному анализу. Таким остроумным способом писатель позволяет себе выйти за пределы собственных текстов и одновременно показать ограниченность и бессилие семиотики.
Образы других героев первого романа Барта также явились выражением понимания автором тенденций литературоведческой мысли в США. Безумный Мэкстарший — сатирическое воплощение психоаналитического подхода к исследованию литературы. Барт не стал развивать этот образ в эпистолярном романе, и персонаж умирает в «Плавучей опере». Этим фактом автор подчеркивает происхождение психоанализа из всего-навсего медицинского метода и приемлемость его только для клинических случаев. Вероятно, в начале своего творческого пути писатель был далек от признания идей философии культуры З. Фрейда, убежденного — как сообщает Барт уже в «Письмах» — в том, что «there was the pure archival impulse, not vise versa!» (202).
Продолжателем дела отца в эпистолярном романе становится его сын Гаррисон, унаследовавший и его «безумие». Думается, Барт здесь расширяет теоретические выкладки З. Фрейда, изложенные в его «Толковании снов», посредством привлечения оригинальной теории К.-Г. Юнга, которую американские психоаналитики-литературоведы сделали научной основой для интерпретации произведений и решения вообще всех проблем литературы. В «Плавучей опере» Гаррисон — «Young Mr. Mack, like too many of our idle aristocrats, is, I fear, a blue blood with a Red heart»9 — воплощал идеи и взгляды марксистской идеологии в литературе.
Как представляется, как и Тодда из «Плавучей оперы», Барта в то время больше интересовал характер Гаррисона, чем образ Джейн. Но, описывая в «Письмах» положение литературы во второй половине ХХ века, когда марксистские идеи, столь популярные в «красные тридцатые», практически перестали оказывать влияние на общественную жизнь, младший Мэк становится «forsaking fact for speculation: if he put off dying until the commencement of that „Second Revolution“» (14), имея ввиду возрождение эпистолярной формы в ХХ столетии. И лишь спустя примерно полтора века «the past manures the future» (15). Следовательно, хотя и не без игривости, характерной для стиля Барта, писатель пророчит достаточно долгий век психоаналитическому методу.
Что касается Джейн, жены Гаррисона, героиня в «Плавучей опере» соотносится с рождением энергетического театра, первые намеки которого Лиотар усматривал в опытах театрального постмодерна. В первом романе Барта она стала аллюзией на творчество основоположников «театра абсурда» Сэмюэля Беккета и Эжена Ионеско, чьи постановки были рассчитаны на эмоциональное, а не на интеллектуальное восприятие. В «Письмах» Джейн Мэк — «uncommonly handsome for her sixty-some years fatefully attractive to European nobility» (60) — воплощает образы американских писательниц Betsy Patterson, Wallis Warfield Simpson.
Персонаж, очевидно, ассоциируется и с творчеством Гертруды Стайн — по мнению И. Ниновой — «явление весьма самобытное в англоязычной литературе явившее новый образ мира в новом слове»10. Героиня символизирует структурносемиотический подход к литературе, предполагающий, по мысли Барта, «лабораторные исследования поэтики, стремление свести ее к „кошмару статистики“ в ее холодных глазах нет такого понятия, как „страна“ Что касается истории, традиции, она начисто лишена подобной сентиментальности» (60) вследствие ее «Deepfreeze of a memory all „unwholesome“ items (you may be sure she remembered the volume and number of that magazine, whose publicity had been good for business) as systematically as her quality-control inspectors purge.» (228).
По мнению «:новых гуманистов», продолживших идеи Платона и Цицерона, сторонники структурной семиотики разрушают человеческие ценности, дегуманизируя не только литературу, но и другие гуманитарные знания. Однако в финале эпистолярного романа Джейн собирается вступить в брак именно с новогуманистом «Мистером Балтимором», который — по словам Г. Стайн — «славится тонкостью чувств»11. Как выразитель критического направления, которое стремилось «повернуть не только литературу, но и всю цивилизацию вспять», этот господин призван развивать не только эстетический и художественный взгляд на литературу, но и этический и социальный аспекты (что Барт понимает как тот же конформизм). Отвергая «услуги» точных наук, представители «нового гуманизма» отрицали структурно-семиотические исследования и литературоведческий импрессионизм. Но, ратуя за рационализм, новогуманисты, по мнению Барта, вполне могут вступить в союз с модными в 1960;70-е годы структурализмом и семиотикой — наиболее сайентистски направленными тенденциями, претендующими на объективное научное понимание поэзии.
Именно поэтому в «Письмах» страдающий от неразделенной любви Тодд Эндрюс, признавшись, наконец-то, самому себе, что он «still loved her [Jane. — Т. В.] desperately desperately desperately» (461), обвиняет деловую, «ничего не помнящую» героиню в бесстрастности и холодности. В представлении Барта, природная расчетливость, умение проявлять дальновидность в решении финансовых дел вполне позволяют Джейн идти рука об руку с человеком, которому такая поддержка обязательно потребуется, — с новогуманистом «Мистером Балтимором», а потому их союз, по мнению писателя, неизбежен. И хотя романтики (в частности, братья Ф. и А. Шлегели) считали научную бесстрастность недопустимой и утверждали, что даже критика должна быть поэтическим произведением, Барт в своем образном видении предрекает слияние гуманизма и структурной семиотики. Поэтому, представляя собственные коммуникативные пересечения различных литературных тенденций как художественные эпистолы, автор все же «dared to hope Germaine might find all this [American literature. — Т. В.], and him. romantique» (283). То есть автор эпистолярного романа «Письма» считает необходимым сохранить то качество, которое было характерно для американской литературы изначально.
Субъективностью как авторским началом отмечено и изображение других героев. В этом направлении мысли привлекает внимание дочь Мэков Дженнин. В первом романе она впервые попадает в театр. В «Письмах» же эта нервная, неустроенная, охваченная внутренней тревогой «старлетка» символизирует нонконформистские тенденции, связанные с «новой чувствительностью» второй половины ХХ столетия, которые стимулировали увлечение структурализмом и семиотикой.
В статье «The Future of Literature and the Literature of Future» Барт утверждает, что «письменная литература, особенно художественная проза, неизбежно неэстетична, потому что особенно семиотична. Она случается в уме. Она не может воздействовать непосредственно на чувства, эмоции, действия; она не может воздействовать прямо, как это делает театр посредством имитации действий и эмоций». Но несмотря на неразбериху в личной жизни Дженнин, Барт предвещает ей, а вместе с ней и этой лингвистической тенденции, процветание: «она может иметь дело только со знаками, их означающими: боль, тоска, отвага, Венесуэла, хождение вокруг да около, жили-были то есть только с теми аспектами жизненного опыта, которые отстоят от непосредственных ощущений и связаны не только с молчаливой жизнью мозга, проявляющейся как познание, отражение, размышление, воспоминание, предвидение и так далее — но даже как запись чувств, что есть воспроизведение, а это главное свойство языка»12.
В «Письмах» в такие знаки превращаются капитан Осборн и Мистер Хекер из «Плавучей оперы». Первый отличался просторечием, характерным для людей, которым не часто приходилось говорить, а больше заниматься физическим трудом; второй же, напротив, изъясняется высокопарно, апеллирует в подтверждение своих мыслей к Цицерону, но умирает, символизируя идею завершившего свой круг и остановившегося в своем развитии разума классического — чисто академического, метафизического. В эпистолярном романе о символе «рабочей» тематики в литературе, чье авантюрное процветание подавляло в зародыше Вторую Революцию — рождение «нового» письма — напоминает только знак — название судна «John Osborn» как свидетельство неприемлемости «knowledgeable» (105) лингвистом-виртуозом Бартом подобной литературы, а главное — языка. Что касается Мистера Хекера, о нем напоминают отдельные выражения на мертвом латинском, ссылки на Декарта, Аристотеля, учение кабалистики, а также сама форма эпистол с их этикетными оборотами, указывающими на риторическую высокопарность.
Не приемлет Барт и метод исследования посредством художественного анализа исторических фактов, воплощением которого в романе в письмах является магнат Джо Мортон — самый богатый человек в Кэмбридже, каким он выступает в «Плавучей опере». Автор смеется над персонажем — никогда никому и ничем не обязанным человеком (а также и над историей как «подправленным» документом эпохи), который если даже желает отдать должное, делает все, чтобы отменить свои обязательства. В «Письмах» историк Мортон — убежденный сторонник позитивизма — стремится опереться на прочные основы фундамента Башни Истины. И хотя под влиянием американской действительности, отраженной в образах понравившихся Моргану Покахонтас и Биби — отчего «his talk was elliptical, ironic, nonintellectual, almost nonexistent» (105), — Истина, как оказывается, имеет «трещины», появившиеся в результате недобросовестности одних работников и излишней доверчивости других. Этой авторской аллегорией Барт особенно подчеркивает свою убежденность в фальшивости исторических фактов и документов.
В романе создается подозрение, что Мортона убил Джакоб Хорнер, практикующий в эпистолах то, что Барт обозначает как «the anniversary view of history» (404). Осмысливая протагониста из «Конца пути», писатель доводит образ до крайней объективности. «Космопсис», или вселенский скепсис, поразивший Джейка, предпочитающего в этом произведении «просто не действовать», по мнению Ч. Харриса, — «не столько уход, сколько волевой паралич, стратегический уход из мира действия». В «Письмах» предписанные ему Черным Доктором «Sinistrality, Antecedence, Alphabetical Priority» (99) предполагают обретение разумного контроля над собой через повторное ознакомление с физическим миром, от которого он отказался. В попытке обрести превосходство над «ничто» персонаж сочиняет психодраму, упражняясь в «Скриптотерапии», превращая жизненный опыт в речь, литературу как действительное воспроизведение искажения, которое каждый творит с жизнью. Такой «уход из жизни ради ее артикуляции, как ни парадоксально, является, — по мысли Ч. Харриса, — возвратом к жизни»14. Поэтому в «Письмах» «halfpatiant-halfadministrator of Remobilization Farm» Хорнер сочиняет драму «Wiedertraum», чтобы вновь обрести счастье. И когда Джо Мортон требует: «You're going to Rewrite History. You’re going to Change the Past. You’re going to Bring Rennie Back to Life», Хорнер, ассоциируя себя с Герaклитом, сопоставляет это действо с вхождением в отравленную реку и «Sweep beneath the flaking bridge; past the poisonous plants of Ford and the intakes of the sources of their power; down the cold rapids by Goat Island; over the crumbling, tumbling American Falls at last. Good riddance» (20), — говорит себе персонаж, освободившийся от немобильности.
А потому если Барт приписывает Тодду с его Размышлениями уровень «рационально-интуитивный, методологическое содержание которого определяется интеллектуальной (рациональной) интуицией», то касательно всевозможных остроумных терапевтических методов по координированию его исторических проектов, способствовавших восстановлению администратора Центра, «космопсис» Хорнера близок «трансцендентно-ориентированным, безусловным ценностям, которые даны неким абсолютным началом»15. Этот «антигерой» творит свое сочинение на а-рациональном уровне и пользуется методами, основанными на нерациональном начале, к которым относятся различные догмы как метод доказательства от авторитета авторского слова. В ироническом представлении Барта, «Юбилейный метод», претендующий на научный подход к исследованию, подрывает восприятие истории как достоверной науки и делает ее фикцией. Однако, как признается прозаик, после такого количества выполненных упражнений по составлению сопроводительного справочника к его роману, он с удовольствием привлекает к работе именно Хорнера как выполняющего функции «of syntactical analyst in the NOVEL project"> (36). Ибо любое описание «революционного» процесса, по мысли Барта, невольно становится таинственным и приобретает множество «subsequent associations» (36).
Как представляется, в основе философии неопозитивизма, к которой обратился автор «Писем» при создании первых романов, стояла терапия языка Л. Витгенштейна, призванная уберечь человека от языковой путаницы и «обнаружить те или иные явные несуразицы и те шишки, которые набивает рассудок, наталкиваясь на границы языка»16. Символом концепции стал Черный Доктор из романа «Конец пути». В «Письмах» он погибает, поскольку, не успев оформиться, эта лингвистическая философия в конце 1950;х — начале 1960;х годов отошла на задний план, уступив место философии критического рационализма. На съемках авангардистского фильма Хорнер и Ренни недаром исступленно крутят педали велосипедов, имитируя беспрерывный «бег» мысли по замкнутому кругу, который, согласно универсальной герменевтике Шлейермахера (последователя Л. Витгенштейна), они должны «разорвать», чтобы начать процесс понимания.
Обратив внимание на сходство парадигматического сдвига в XVII и ХХ веках, связанного с величайшими открытиями в области науки и техники, которые, однако, явились причиной нарушения баланса человека и природы, Барт решает использовать новый философский взгляд, чтобы переосмыслить историю американской литературы. Прозаик поднимает проблему традиционного странствующего героя, символизирующего конструктивное, творческое начало, заложенное в самой человеческой личности, стремящейся к трансцендентальному единству. Заодно автор «Писем» по-новому оценивает и традиционный для американского литературоведения культурно-исторический метод анализа, который предполагает не только общекультурный кругозор и интуицию исследователя, но и опору на прочные основы историзма, в которых сам Барт очень сомневается.
Расширив сферу своих исследований, писатель в романе «Торговец дурманом» обращается к событиям периода становления США. В насмешливом подражании комической поэме с тем же названием, посвященной колониальному Мэриленду, автор пародирует пикарескный стиль XVIII столетия. И если в первых произведениях автор стремится примирить человека с самим собой, то в гигантском романе «Торговец дурманом», повествующем о формировании американской культуры в целом, это видение становится более определенным. Здесь мифотерапия Барта трансформируется в мифопоэтику, ставшую основой бартовского эпического восприятия мира. В «Письмах» поэтика мифологизирования организует уже все повествование: раздвигая еще более социально-исторические и пространственно-временные рамки, она превращается в индивидуальную творческую мифологию. И произведение предстает как упорядоченное единство, которое подчеркивает символическую природу предшествующих книг писателя.
В эпистолярном романе Барт игриво отвергает барочный «эклектизм» Кука: «We are not acquainted, sir… We have never met, never heretofore conversed, much less collaborated on anything!» Приводя известное изречение «Paper is patient» («бумага терпит»), основываясь на документах, представленных персонажем как вклад в общий проект — роман в письмах, Автор указывает на готовящееся отклонение — «point de depart for some future counterdocument» (364), которое впоследствии станет новой эпистолярной формой Джона Барта.
А пока, поблагодарив своего респондента за «diverting account of the subsequent genealogy down to himself» (530−531), за материалы о предках с копиями замечательных писем, респондент Автор, по воле автора Барта, решительно отклоняет предложение героя, чтобы «to enrich him yet further with the materials of his abortive Marylandiad: the posthumous adventures of A.B.C. IV». Он вообще отказывается признавать какую-либо предшествующую связь между ними, объясняя, что Кук не должен был брать на себя роль Автора в романе, но стать просто моделью — «an epistolary echo of Ebenezer Cooke the sot-weed factor, no more» (531) — исторического поэта-лауреата, которого Барт, фактически, заново открыл американцам.
Разрыва потребовал новый уровень культуры, связанный с послегутенбергской эрой, предсказанной Х. Мак-Люэном. Канадский инженер и философ сформулировал свой знаменитый парадокс: «Средство информации — это и есть информация», имея в виду, что средства накопления и передачи информации говорят о цивилизации больше, чем сама циркулирующая информация. Можно предположить, что влияние на мировоззрение Барта оказали и работы У. Р. Эшби и Э. Шрёдингера. Эти авторы рассматривали аспекты поэтической системы с точки зрения физических и математических понятий как соотносящиеся между собой в вероятностной зависимости. Ученые размышляли о сложных и свободных отношениях всех жанровых образований, тематики поэтических книг и структуры историко-литературной ситуации, которые ни коим образом не напоминают жесткую детерминированность механических устройств и даже более гибкие биологические системы, основанные на сложном взаимодействии детерминистического и вероятностного принципов действия. В этой свободе отношений усматривались зависимости художественных структур, функционирующие только на вероятностном принципе.
Воспринимая «интеллектуальную и духовную дезориентацию» человека как свое «фирменное блюдо»18, Барт моментально отреагировал на такую концепцию пародийной историей «Козлоюноша Джайлз». Вероятно, ссылаясь на Аристотеля, который утверждал: «Заблуждаются те, кто утверждают, что математика ничего не говорит о прекрасном или благом важнейшие виды прекрасного — это слаженность, соразмерность и определенность.»19, «техногенный» Джералд Брей, чей образ основан на гротеске как связи, не согласующейся с животными, изображен в «Письмах» как структура, близкая к состоянию жесткой детерминированности. «Вживаясь» в своего кибернетического героя, автор остается в произведении, но одновременно выходит за его пределы: присутствие доведено до полного авторского отсутствия. Через фантастическое, соответствующее определенной изощренности сознания и автора, и читателя, утверждается жизненная правота и самоценность героя как размышление о будущем романа, прежде всего — его поэтики. И роль автора в таком «романе о романе» оказывается формообразующей. Письма Брея, состоящие из обрывков фраз, чисел, дат, бесконечно прерываемых командой компьютера «Перезагрузка», передают сложность и новое ощущение жизни, доводя до абсурда фрагментарную композицию произведения.
Раскрывая свое понимание литературного творчества, получаемого посредством компьютеров, Барт не без иронии изображает в эпистолярном романе скудные возможности искусственного интеллекта, подразумевая необходимость художественной «искры», которая, по убеждению автора «Писем», доступна только большому художнику.
Средством монтирования материала в эпистолярном романе становится сквозной мотив становления писателя-модерниста Амброуза Менша — «the alleged original of his character Todd Andrews» (58). Как связующее звено персонаж определяет внешнее и внутреннее действие произведения, в котором автор ощущает «a familiar uneasiness about the fictive life of real people and the factual life of „fictional“ characters. yet again more or less artfully misportrayed however commendable» (58).
Если в первых произведениях Барт обращается к экзистенциалистским проблемам ухода и странствования, то роман «Заблудившись в комнате смеха» — откуда явился главный герой «Писем» Амброуз Менш — как и «Химера», представляют собой сборники рассказов, в которых порядок повествования напоминает «роман второй степени абстракции», затрагивающий странствующих героев из классической мифологии, сбившихся с пути. В таких произведениях автор переключает свое внимание от мифа как структуры действия, который был открыт автором в «Козлоюноше Джайлзе», к мифу как определению самого повествовательного процесса. По мнению американского критика МакКоннелла, этот переход осуществляется «вопреки объективной лживости [мифа. — Т. В.], показывающего такие способы жизни, которые могут сделать мир терпимей, дать не только ощущение жизни как литературы, но и литературы как жизни, которая является единственной причиной для мифотворчества вообще и настоящим началом цивилизованной манеры изложения».
Первая книга — «Fiction for print, tape, live voice» — была написана в то время, когда «Ribonuclease, the „key to life,“ had been just synthesized for the first time and a human egg was successfully fertilized outside the human body аnd complete eyes would join hearts and kidneys on the growing list of successfully transplanted human parts» (43−44). Исходя из выводов У. Р. Эшби и Э. Шрёдингера, можно предположить, что Барт строит своего литературного героя на сложном переплетении детерминистического и вероятностного принципов действия, присущего биологическим структурам, в какой-то степени, отважно лишая своего протагониста художественности. Такой вывод подтверждает комментарий МакКоннелла, который считает: «Воспринимая лингвистическую природу человека как свое творческое определение, философия, антропология, даже психоанализ стали [для Барта. — Т.В.] предпосылкой того, что человек — это, прежде всего, лингвистическое животное, создатель значимых систем и, следовательно, семантических и синтаксических проблем языка, а описание языка имеет особое отношение к пониманию и, вероятно, спасению цивилизации»21.
Но само название романа «Заблудившись в комнате смеха» сообщает, что такой принцип заводит героя в своего рода тупик. Но, как ни парадоксально, именно образ Амброуза Менша особенно привлекает Барта. В «Письмах» именно этому персонажу, уже покинувшему «комнату смеха» и проживающему теперь в доме — «built from the stones of his family’s history, the past fiascos reconfigured» (39) — Барт доверяет вести главную, сквозную тему становления художника нового типа.
В «Химере» — произведении, по словам Барта, «об ориентации, дезориентации, переориентации» — автор, напротив, создает чисто художественную структуру, функционирующую на основе только вероятностного принципа: на это указывают и три головы мифического чудовища. Используя технику «рассказа в рассказе о рассказе», на свой манер интерпретируя сказки «Тысячи и одной ночи» и древнегреческие мифы, авторы которых анонимны, Барт расширяет их до изображения целой вселенной, рисуя точную картину звездного неба. Причем повествовательная точность подкрепляется чисто математическими методами исчисления, подобными тем, что используются в высшей математике: золотое сечение, числа Фибоначчи, Phi-конфигурации. Посредством таких стилизированных теоретико-числовых проблем, соотносящихся с возвратными последовательностями (первые из которых были решены еще в 1228 году Леонардом Пизанским — Fibonacci) — бартовский «madman of Lily Dale» (721) Джером Бонапарт Брей решает задачи, согласно определению математиков, «наихудшим» образом. То есть Барт соотносит эти действия своего персонажа в его ипостаси представителя «нового романа» с попытками решить те ряды Фибоначчи, которые ученые не могут решить до сих пор, подчеркивая тем самым неспособность героя осуществить ту миссию, которую сам себе придумал.
По аналогии с приводимым выше парадоксом Мак-Люэна, Барт ради «восполнения» литературы выводит собственную формулу: «The real treasure may be the key itself: illumination, not solution, of the Scheme of Things» (766). То есть вся схема словесности вдохновляется энергией литературной «вселенной», среди которых и книги классика Барта. Это «библиотечное» пространство становится переходящим в бесконечность обрамлением для романа-эпоса «ПИСЬМА».
В эпистолах изречение расширяет свой ориентир и, по воле писателя, соотносится не только с литературой, но и с творческим началом «лингвистического животного» — человека, который обладает не только сознанием и языком, но и способностью использовать его для повествования, структурируя литературную вселенную в форму мифологии, управляемой и управляющей.
барт поэтический постмодернистский чувствование.
Примечания
- 1 Цитаты даны по изданию: Barth, J. Letters / J. Barth. — London; Toronto; Sydney; New York, 1981. Здесь и далее номера страниц указываются в круглых скобках. Переводы выполнены автором статьи.
- 2 См.: Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. — М., 2002. — C. 99: Понятие «художественность» — это «во-первых, включенность произведений (текстов) в сферу искусства во-вторых — их достоинство [имеющее отношение к иного рода] ценностным сферам как универсальным, так и локальным [поскольку] не изолировано от внеэстетической реальности»; Souvage, J. An Introduction to the Study of the Novel: with Special Reference to the English Novel / J. Souvage. — Gent, 1965. — P. 15. Английский литературовед У. Ален высказывает убеждение, что «каждый романист отражает в произведениях свое особенное видение мира, в котором царствует его воображение соответствующее психологическим законам, управляющим своим создателем и являющимся его ответом на жизнь»; Рильке, Р.-М. Ворпсведе. Письма. Стихи / РМ. Рильке. — М., 1971. — С. 304−305: Художник в ХХ столетии предстает всего лишь «регистратором всех взаимосвязей преодолевающим психологизм не начавшейся гибели искусства, а напротив, происходящего в нем процесса необходимого пересмотра собственных функций, возможностей, установок, изобразительного языка».
- 3 Хализев, В. Е. Теория литературы. — С. 97.
- 4 Ортега-и-Гассе, X. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет. — М., 1991. — С. 293.
- 5 Зверев, А. М. XX век как литературная эпоха / А. М. Зверев // Художественные ориентиры. — М., 2002. — С. 12.
- 6 См.: Literary History, Modernism and Postmodernism. — Amsterdam; Philadelphia, 1984. — P. 250.
- 7 Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль. — М.: REFL-book, 1994. — Фр. 256, С. 83.
- 8 Там же. — Фр. VII, С. 76.
- 9 Barth, J. The Floating Opera / J. Barth. — P. 46.
- 10 Нинова, И. О Гертруде Стайн / И. Нинова // Стайн, Г. Автобиография Алисы Б. Токлас / Г. Стайн, пер. с англ. И. Ниновой. — СПб., 2000. — С. 382.
- 11 Там же. — С. 80.
- 12 Barth, J. The Friday Book / J. Barth. — New York, 1984. — P. 164.
- 13 Harris, Ch. Passionate Virtuosity: The Fiction of John Barth / Ch. Harris. — Urbana; Chicago, 1983. — P. 35.
- 14 Ibid. — P. 52.
- 15 Ibid. — P. 52.
- 16 Витгенштейн, Л. Философские исследования / Л. Витгенштейн // Витгенштейн, Л. Философские работы. Ч. 1, Аф. 119 / Л. Витгенштейн. — М., 1994. — C. 129.
- 17 См.: Эшби, У. Р. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения / У. Р. Эшби, пер. с англ. — М., 1962.; Шрёдингер, Э. Что такое жизнь? С точки зрения физика / Э. Шредингер, пер. с англ. и предисл. А. А. Малиновского и Г. Г. Порошенко. — М., 1972.
- 18 Barth, J. The Friday Book. — P. 131.
- 19 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1 / Аристотель. — М.: Мысль, 1976. — С. 326−327.
- 20 McConnell, F. D. Four Postwar American Novelists: Bellow, Mailer, Barth and Pynchon / F. D. McConnell. — Chicago; London, 1977. — P. 114−118.