Московские театры миниатюр
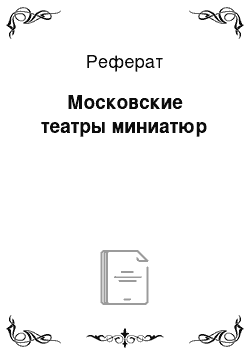
Мозаика" обосновалась весной 1916 года в помещении Современного театра, закрывшегося на Пасху и летний сезон. Но если бы публика не знала, что здесь работает уже новая труппа (которую возглавил, кстати сказать, не кто иной, как бывший кабаретьер М. Бонч-Томашевский) под другой вывеской, перемен она бы и не заметила: программы «Мозаики» мало чем отличались от Современного, как, впрочем, и от всех… Читать ещё >
Московские театры миниатюр (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
театр миниатюра кабаре культурный В московских «миниатюрах» действительно все обстояло именно так, как писал обозреватель. Сезон 1914/15 года открыла только Арцыбушева, да в бывшем «Водевиле» промелькнул театрик «Ассамблея». («Сборы средние», — отметил посетивший «Ассамблею» рецензент. «Средней» была и программа, состоявшая из двух переводных фарсов и концертного отделения, в котором пела «польскую песню, чередуя ее с мазуркой, Ронина, а г жа Марена исполнила русские песни с плясками».).
А к февралю 1915 года пропали и они.
Но затишье продолжалось недолго — всего год. Миниатюр-движение незаметно набирало силу перед новым взрывом, который, наконец, и произошел в первые месяцы 1916 года. Москву словно прорвало (слово хотя и не академическое, но точное — во всяком случае именно его употребляют почти все репортеры, чтобы передать свое ощущение от происходящего).
«В русской палате Славянского базара, где некогда старая барственная Москва слушала своих любимцев цыган, выступавших с традиционными концертами, приютился теперь молодой Никольский театр миниатюр», — пишет со вздохом легкого сожаления журналист. Но сожалеть о переменах не приходилось, да и было некогда.
«Число театров миниатюр продолжает увеличиваться, ожидается открытие чуть ли не дюжины предприятий этого рода», — свидетельствовал корреспондент «Рампы и жизни». В зале ИРТО на Б. Никитской возник Московский театр миниатюр, на Тверской — «Пиккадилли». На месте известного ресторана и бара «Пале-Рояль» открылся Малый театр миниатюр; в Английском клубе — Маленький. В Мамоновском появилась «Мозаика», но едва она закрылась, как на Б. Дмитровке, 26 сразу же открылась «Мозаика» другая. В Камергерском переулке, возле Художественного театра, возникла «Жар-птица», на Петровских линиях — Петровский театр миниатюр. Пресса что ни день извещала о новом театре миниатюр.
«Артист Малого театра Лебедев берет годичный отпуск и открывает свой театр миниатюр в помещении школы г жи Халютиной». «Г. Орешков оставляет обязанности администратора в театре Незлобина и открывает в Москве Новый театр миниатюр». «Владелец театра „Ренессанс“ г. Рыков открывает „Театр интермедий“». «В Москве стало наблюдаться необычайное развитие театров миниатюр и началось приспособление под „миниатюры“ кинематографа». В бывшем «Одеоне» на Сретенке открыл «миниатюры» эстрадный куплетист Н. Ф. Гриневский. «Мозаика» М. С. Загорского на Б. Дмитровке устроилась в бывшем кинотеатре «Селект». «Товарищество русско-польских артистов „Миниатюры Марецкого“» обосновалось в недавнем синема «Фурор» на углу Страстного бульвара и Б. Дмитровки. «Теперь в Москве четыре таких театра, и почти всегда они полны».
На театр миниатюр наконец обратили внимание солидные театральные предприниматели — верный знак того, что жанр обещал надежную прибыль. С нового сезона 1915/16 года театр П. П. Струйского на Ордынке, открывшийся в прошлом году как драматический, превратился в театр миниатюр. М. М. Кожевников, владелец театра Зон и оперы Зимина, перекупил аренду Современного театра миниатюр за 30 тысяч годовых у известного театрального дельца П. В. Кохмановского.
Начало этому поветрию дала война. Развлекательная жизнь Москвы, затухавшая было накануне 1914 го, в годы мировой бойни расцвела с невиданной прежде силой. И театры миниатюр органично в нее вписались, торгуя зрелищем исключительно веселого ассортимента. В рекламных объявлениях они именно так себя и рекомендовали: «Современный театр миниатюр. Премьера! Исключительно веселый жанр». Тот же текст дала в анонсе и «Мозаика»: «Исключительно веселый жанр».
«Мозаика» обосновалась весной 1916 года в помещении Современного театра, закрывшегося на Пасху и летний сезон. Но если бы публика не знала, что здесь работает уже новая труппа (которую возглавил, кстати сказать, не кто иной, как бывший кабаретьер М. Бонч-Томашевский) под другой вывеской, перемен она бы и не заметила: программы «Мозаики» мало чем отличались от Современного, как, впрочем, и от всех других подобных им театриков. Везде представления строились из одноактных пьесок, сдобренных номерами дивертисмента; везде давали старину и экзотику, куклы и маски, этнографию и стилизацию. Экзотическая старина или стилизованная этнография выступала в костюмах Древнего Востока, античности, китайской или русской архаики. Под разными названиями, в сущности, разыгрывалась, в одних и тех же приемах одна и та же пьеска. В Современном театре она могла называться «Дафнис и Хлоя» Оффенбаха или «Нарцисс и Эхо» (из Овидиевых «Метаморфоз» в переделке Т. Л. Щепкиной-Куперник). В Московском — «Сатир и нимфа» или «Праздник Диониса». В «Мозаике» — «Восточные забавы».
Если в Современном шла вокально-живописная картинка «Портрет маркизы», то у Струйского — «Лжемаркиз» или «Король веселится»; если в «Мозаике» ставили «Помолвку на Галерной гавани», то на Ордынке — «Урок трусливым». Если в дивертисмент Современного входили античный и голландский танцы, то у Струйского — норвежский, в Петровском — еврейский. И везде непременно шли «арлекинады». В Никольском они назывались «Праздник Пьеретт» и «Коломбина», в театре Струйского — «Пьеро и Пьеретта», в «Мозаике» — просто «Арлекинада».
Новая волна театров миниатюр, по сравнению с миниатюр-движением пятилетней давности, ничего нового не принесла — ни в жанровом составе программ, ни в их стиле. Время, казалось, здесь остановилось и двигалось лишь по замкнутому кругу.
Но именно это, по-видимому, и влекло сюда зрителей, которые каждый вечер на всех трех сеансах набивались в тесные зальчики. Обыватель, травмированный войной и предчувствием событий еще более ужасных и непредсказуемых, забежав сюда на часок, находил в этих театриках забвение и утешение. Пестрая и легкая мешанина из осколков музыки и танца, пения и живых картинок служила своего рода наркотическим средством, радуя глаз, усыпляя ум, веселя душу. Неизменная старина на сцене давала надежду на неизменность и в современной жизни.
«В переживаемые тяжелые, порой кошмарные дни… … душа повелительно требует отвлечения от всей наличной обстановки, гнета минут в сторону легкого, изящного или веселого, даже примитивно-веселого, — признавался редактор „Рампы и жизни“ Л. Мунштейн. — С этой точки зрения нельзя не приветствовать появления „Мозаики“». И дальше Мунштейн патетически пересказывает интермедию-балет «В царстве грезы», которая, по-видимому, более всего отвечала велениям души напуганного жизнью человека 1916 года. Героиня тоскует среди «серых будней жизни по сказочному миру чар». Она призывает голубых фей и засыпает. «И вот перед нами воплощенная греза… вскрывает уголок из царства Мелюзины. Поэтический замок в горах, на лужайке перед ним феи и гномы, феи танцуют, подносят спящей богатства, извлеченные трудолюбивой киркой гнома из недр земных.
Но вот сон кончается, все исчезло, перед глазами пробудившейся мелькнул в последний раз пылающий замок мечты, но Загорелись лица, Загорелся замок.
Вспыхнул и пропал!
И снова мы далеки от царства прелестной грезы, снова кругом та же серая муть".
Злоба дня на сцену, разумеется, проникала. Архаику и экзотику переслаивали, их оттеняя и заостряя, обозрения и пародии, юмористические сценки и скетчи из современного быта, чаще всего принадлежащие перу А. Аверченко, Н. Тэффи и Е. Мировича. В этих созданных их искушенной рукой бытовых картинках, при всей иронической отстраненности от в точности воспроизведенной ими жизни, были обаяние и пленительный уют. Этот мир, такой простой и узнаваемый, тоже, как и образы милой старины, но на иной лад, был способен защитить публику шестнадцатого года от наводящих ужас безжалостных истин большого мира.
Даже пародии — и те поминали давно минувшие события и старые театральные споры. В «Мозаике» поставили «Театральные параллели» В. Эга, пародирующие постановочные приемы Станиславского, Рейнгардта и Крэга.
Жанр, когда-то рожденный в кабаре, ожил вместе с кабаретным уклоном, неожиданно возобладавшим на сценах театров миниатюр.
Кабаре, заглохшее было в Москве и только время от времени то тут, то там оживляемое его запоздалыми энтузиастами, вроде Е. Иванова, редактора «Театра в карикатурах», теперь, в 1916 году — с весны по осень — дало в театрах миниатюр поздний побег.
Маленький театр, тот, который устроился в Английском клубе, решил возродить «Веселую смерть» Н. Евреинова, поставленную самим автором семь лет назад в кабаре «Веселый театр для пожилых детей».
Маленький театр сам походил на кабаре. Стены его фойе, размером с трамвайный вагон, покрывала чудная роспись в футуристическом духе — «там ихневмон нападал на антилопу», в углу кособокого зала «приткнулась микроскопическая сцена». «А когда еще Пьеро в „Веселой смерти“, опираясь на пустующее кресло в третьем ряду, силуэтно освещенный со сцены, стал говорить пролог, все окружающее обратилось в некую реминисценцию о днях театральных исканий».
Подобными же реминисценциями были полны «Восточные забавы», поставленные М. Бонч-Томашевским на сцене «Мозаики». «Здесь все последние слова театральности, — замечал критик А. А. Черепнин, — вместо декораций — ширмы с надписями, что они обозначают: окно или фонтан. Выносятся ширмы подтанцовывающими прислужниками в пудреных париках. Текст написан в духе русских лубочных двустиший. Мизансцены условны. Вместо рампы — высокие светильники. Артисты с видимой старательностью вылепили себе чудовищные „восточные“ носы».
Кабаретный ренессанс 1916 года приносил на подмостки театра миниатюр многое из того, что было открыто в пору «Лукоморья» или евреиновского «Кривого зеркала». Все это было, однако, приспособлено к довольно скромному уровню дарования тех, кто ставил и играл в «Мозаике» или Маленьком театре, да и к художественным вкусам тех, кто эти театры посещал.
В Современном театре дань кабаре отдали старой «кривозеркальной» пародией «Жак Нуар и Анри Заверни»; неожиданно всплывшим здесь Икаром с его старыми имитациями «Умирающего лебедя» в исполнении Анны Павловой; номерами и сценками, строящимися, как когда-то в кабаре, на игровых отношениях с публикой. В «Шараде», например, зрителям предлагали отгадать слово, один слог которого был загадан оркестром, сыгравшим несколько тактов «Марсельезы» — что должно было означать «гимн», а второй — изобразили частью света на карте, имея в виду «Азию». Программы «находчиво и бойко вел конферансье, он же главный режиссер театра В. К. Висковский, не лишенный юмора, несколько матового, по его же словам, как противоположного блестящему. Но все же находившего отзвук в сердцах невзыскательной публики».
В «Мозаике» играли «Блэк энд уайт» К Гибшмана и П. Потемкина. Роль помощника режиссера здесь исполнял И. Лагутин. Как когда-то Гибшман, он мимоходом ронял в зал забавные реплики, разрушая преграду рампы. Театральный прием, восхищавший много лет назад своей смелостью и новизной рафинированную публику «Лукоморья» и «Дома интермедий», теперь смогла оценить и «невзыскательная», как аттестовал ее критик, публика коммерческого театрика."Жар-птица", которую открыл покинувший «Мозаику» Бонч-Томашевский, была еще одним воспоминанием о кабаре. Публика в «Жар-птице» сидела за столиками, «накурено, тесно, стайками мечутся лакеи». На крохотной сцене мелькали сентиментальный романс, детский рассказик, хореографические сценки «Две гитаны», «Легкий флирт» и «Когда закрываются глаза» — опыт танца под слово. Много разных песенок пела Колумбова в манере Иветт Еильбер. Горланил квартет песенный лубок «Пошли девки на Дон купаться» на фоне лубочных декораций. И другие изящные безделушки, но «сделанные с той ограненностью в каждой детали своего сценического существования, которая превращает их в некий деликатес».
Компания молодежи в «Жар-птице» под предводительством не сходящего весь вечер со сцены Бонч-Томашевского напомнила критику «что-то вроде тех кружков влюбленной в искусство молодежи, о которой так охотно пишут романисты. Это молодо, свежо, уверенно, немного даже самоуверенно. … Здесь, видимо, каждый работает над самим собой, не из-под палки служебных обязанностей, а от трепета творческих желаний. … Правда, — тут же оговаривается критик, — в существование таких кружков верят только в провинции».
Соблазны богемного эскапизма, когда-то манившие первых кабаретьеров на Западе и в России, теперь, в 1916 году, могли всерьез увлечь разве что простодушных провинциалов. Но именно они, хлынувшие в Москву беженцы, преимущественно и заполняли зальчики театров миниатюр.
Откуда да и зачем провинциальным неофитам было знать, что поражавшие их воображение кабаретные изыски «Веселой смерти» или «Восточных забав» были, так сказать, товаром второй свежести. Театры миниатюр готовы были вернуться к собственному прошлому — специально для почтенных и, главное, состоятельных зрителей, которые опоздали к началу.
Впервые постановку «Восточных забав» М. Бонч-Томашевский показал московской интеллигенции еще пять лет назад, осенью 1911 года в Большом зале консерватории, где Общество деятелей периодической печати и литературы устраивало бал-маскарад под названием «За тридевять земель». В программу, выдержанную в «старорусском стиле», кроме «Восточных забав», обозначенных его авторами — Бонч-Томашевским и балетмейстером В. Кузнецовым — как «хороводные причуды», входили «хоромное действо» «Иван-царевич и Анастасия Прекрасная» с музыкой А. Архангельского, хореографическое действо «Солдат и черт» того же Бонч-Томашевского; М. Ртищева читала лубочный сказ «Как черти душу украли»; исполнительницей «Русского пляса» была, как возвещала программа, «красавица, преславная и прелестная, ты ее доподлинно знаешь, возвещать не стоит». В заключение исполняли свои вещи В. Брюсов, А. Вознесенский, Б. Зайцев, А. Койранский, граф А. Толстой.
Главным устроителем вечера был Бонч-Томашевский, в ком всеобщее увлечение примитивом, лубком, балаганом приобрело характер пылкого энтузиазма, почти служения, — его называли «народником нового закала». Впрочем, для него, как и для его учителя Вс. Мейерхольда, у которого он начинал в «Доме интермедий», выкликание из прошлого образов Средневековья было не самоцелью, а средством вернуть жизнь увядающему искусству современного театра: «Пойдем в низы его, к земле, к народу, послушаем его, возьмем готовые формы его творчества и, усвоив их, начнем новое, свое, исходя из его духа. От него — к нему». Чтобы «ближе почувствовать народную психологию», Бонч-Томашевский, как он сам поведал, поступил в «балаганные актеры» и ездил с труппой балаганщиков по российским деревням и селам.
Итогом его хождения в народ стали театр «Трагический балаган» и единственный спектакль этого театра «Царь Максемьян», который был показан в Москве в 1911 году. Спектакль получил большую прессу. О нем писали Н. Эфрос, С. Яблоновский, С. Мамонтов и другие. Бонч-Томашевский поставил подлинный текст пьесы «О царе Максемьяне, о кумерской богомерзкой Винере и о непокорном сыне Адольфе» «по списку, составленному матросом Белоусовым в начале XIX века и опубликованному Н. Виноградовым в „Известиях Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук“ за 1905 год». Режиссер видел свою задачу в том, чтобы приблизить пьесу к ее фольклорному прототипу. Действие разыгрывалось прямо в зрительном зале среди публики — от этого и определение жанра «хоромное действо».
У одной стены высился трон Максемьяна, к другой стене приставили трон «дерзкой кумерской богини Винеры». Посреди зала на помосте, окруженном публикой, разыгрывались целые сцены. Сюда выскакивали, как в балагане, зазывалы (у Бонч-Томашевского их участвовало шестьдесят человек).
Аника-воин являлся на царский зов, держа пушку, как гуся, под мышкой, с похвальбой на устах и потрясая картонной палицей. По залу носились наряженные в коленкор пажи и девки. Совершала свое шествие Винера. Кривлялись и били в сковороды шуты-потешники. Под стать лубочному действу была и музыка, исполнявшаяся на двух крашеных кастрюлях и треугольниках с бубенцами. Словом, были пущены в ход все приемы площадной сцены, которые, на взгляд Бонч-Томашевского, могли помочь обновить зачахнувший интеллигентский театр.
И вот теперь, на излете кабаретного движения, Бонч-Томашевский возник вновь на сильно потускневшем горизонте миниатюр-жанра. И вновь попытался — без особого успеха — воскресить для новой публики дух балаганной площади, заключенный, как он верил, в тесных подвалах кабаре.
Впрочем, кабаретный налет, слегка подновивший и ожививший давно затертое зрелище театров миниатюр, очень скоро сошел. К зиме 1916/17 года Маленький театр закрылся, за ним пропала «Жар-птица». Остальные вернулись к прежним программам из скетчей, сценок и дивертисмента. Некоторые изменения, однако, произошли и в этих программах: одноактные пьески и миниатюры, ранее составлявшие основу представлений, отошли несколько в тень, потесненные номерами дивертисмента. Собственно, театр миниатюр следовало бы теперь назвать «театром дивертисмента». «В Петровском театре, — писал критик, — одноактные пьески идут ни шатко ни валко, как и в других театрах этого жанра. Чуть хуже, чуть лучше, без ощутимой разницы в исполнении в общем тусклых артистических сил. Но несомненный центр программы здесь в номерах дивертисментного характера».
Сольные выступления, прежде служившие своего рода заставками к пьескам, короткими антрактами между миниатюрами или, объединенные в небольшое концертное отделение, завершавшие программу, теперь стали ее стержнем. Представление организовывалось вокруг премьера или премьерши, «имени», да и само существование театра зависело от такой «звезды». «Неизменной остается на афишах московских миниатюр «гвоздевая» система, причем каждый театр предусмотрительно обзавелся своей «specialite de la maison» «.
В Никольском и в театре В. Ф. Лебедева такими премьерами были оба руководителя: в одном — Я. Южный, в другом — В. Лебедев, выступавшие с устными рассказами — каждый в своем жанре. Рассказы Южного строились, как у Хенкина, на еврейском фольклоре и еврейском юморе. В. Ф. Лебедев, начавший с импровизаций на «капустниках» МХТ и вечерах «Летучей мыши», давно стал известным рассказчиком и разъезжал по России с собственными концертами. Как и М. Ртищеву, его называли «продолжателем и последователем горбуновского жанра». Он выступал без грима и в гриме, молниеносно сменяя костюмы и маски — то от лица горничной, поступившей на службу к К. С. Станиславскому, нечаянно ставшей свидетельницей репетиции в его доме и напуганной ужасами, которые «там творятся», то от лица охотнорядской купчихи, ненароком попавшей на банкет в честь А. А. Яблочкиной…
Рассказчики в театрах миниатюр множились, обрастая армией подражателей, беззастенчиво тиражирующих манеру и интонации знаменитостей. В Петровском театре выступал Л. Д. Дризо с рассказами собственного сочинения, но в «жанре В. Хенкина». Зрители подделки не замечали. Дризо был популярен, пластинки с его записями расходились мгновенно, особенно с той, где он от имени провинциального еврея, попавшего на «Евгения Онегина», пересказывал содержание известной оперы.
Современный театр в качестве «звезды» ангажировал М. Ртищеву. Знаменитая рассказчица играла свои старые сценки и показывала старые имитации. Но мастерство ее оставалось по-прежнему безупречным, и зрители, увидевшие ее впервые, восхищались ею так же, как и те, которые ее открыли шесть лет назад.
М. Ртищеву на той же сцене, но уже в другом театре — «Мозаика» — сменили Н. М. Мириманова и А. А. Александровский. Они служили актерами в петроградском Суворинском театре, а на эстраде были известны как исполнители «Русских частушек», которые не просто пели, а, как полагается в народе, играли. «Частушки» разворачивались в целый спектакль, сжатый до небольшого номера. Пара выходила на сцену в сопровождении гармониста, одетого, как и сами певцы, в праздничный деревенский наряд — плисовые штаны, атласную кумачовую рубаху и картуз, — долго и важно прогуливалась вдоль рампы и внезапно, когда зрители меньше всего этого ожидали, взрывалась частушечным перепевом. Отголосив очередную частушку, они также неожиданно смолкали и продолжали свое медленное кружение по сцене. «Частушка в их исполнении, — писал рецензент, — полна этнографической убедительности, несет в себе некую острую правду художественно схваченного быта».
Впечатление этнографической точности достигалось не только подлинностью фольклорного материала, исполняемого актерами (Мириманова ездила за ним в Тверскую губернию, где собственноручно его записывала, подмечая одновременно манеру исполнения у деревенских мастеров), но, быть может, парадоксальным образом и той иронической дистанцией, которую соблюдали профессиональные актеры по отношению к нему (заостряя и остраняя, ирония тем самым позволяла обнажить самую сущность народного художественного сознания в его первоначальной простоте и силе).
Знаменитой «частушечницей» была А. Загорская, выступавшая в «Мозаике» на Б. Дмитровке. Загорская исполняла и подлинные народные частушки (вслед за Миримановой она ездила за ними в деревню, но Ярославской губернии), и стилизованный фабричный лубок — «Лапти», «Детская песенка», «Лампочки», которые критик назвал «музыкальным гротеском». В этих песенках Загорская услышала и сумела передать не замеченную другими двойственность частушки, в которой соединилось деревенское простодушие с «порченостью» городом, нравами фабричного быта.
Вместе с модой на фольклор и вообще на все русское — в соответствии с патриотическими веяниями военных лет — частушки необычно быстро распространились по сценам театров миниатюр. В популярности они уступали только «интимным песенкам».
В театре Струйского известным исполнителем романсов и песен (большей частью собственного сочинения) был И. Н. Ильсаров. Он напевал их, сидя за роялем и перебирая клавиши, полуобернувшись к публике. Голос певца был тих, манера томной, как того требовал интимный жанр.
В его песенках печалились и умирали Коломбины и Арлекины. Он пел об утраченной любви и разбитых надеждах — «Убита страсть моя», «Прошлое», «Одинокий», «Печальный день Арлекина». И почти всегда на бис исполнял «Модель от Пакена», обязанную своей славой звезде одесской эстрады Изе Кремер, которая привезла ее на гастроли в Москву: Сначала модель от Пакена, Потом пышных юбок волна, Потом кружева, точно пена, А потом… она, она.
С И. Ильсаровым соперничал другой исполнитель цыганских романсов и интимных песенок, наезжавший из Петрограда в Москву, — Ю. Морфесси. Но их обоих уже затмевала восходящая звезда А. Вертинского.
Мало кто запомнил Вертинского по Мамоновскому театру, где он начинал петь свои ариетки. Публика заново открыла его после почти двухлетнего отсутствия (он ушел на фронт, служил санитаром в передвижном поезде-госпитале) в театре миниатюр на Петровских линиях. «В новом Петровском театре миниатюр картавит свои „Ариэтты Пьеро“ — „les vertinettes“, как скаламбурил кто-то, — Вертинский», — отметил появление поэта-певца критик А. Черепнин.
Вертинский снова вышел в маске Пьеро. Позже он писал, что маской он хотел отгородиться от публики из страха перед ней: «Боясь своего лица, я делал сильно условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать свое смущение и робость, я пел в „таинственном, лунном полумраке“».
Сам артист вспоминал о своих первых успехах с некоторым недоумением: «Петь я не умел. Поэт я был довольно скромный, композитор тем более наивный, даже нот не знал». Но билеты раскуплены. Корзины цветов. Записываются и мгновенно расходятся пластинки. Зрительницы переписывают слова его песенок в свои альбомы…
Удивлялся успеху Вертинского и постоянный обозреватель театров миниатюр А. Черепнин. Правда, удивление критика было иного рода. «Удивителен, неожидан, курьезен, в сущности, тот захват, который проявляет рафинированность его песенок на разношерстную, „с улицы“, толпу. … Чуть внятные слова, как болезненно-нежные лепестки, которые медленно осыпаются в тоскливые вечера, … как доходит их аромат до этой толпы, еще оглушенной грохочущей улицей?» Удивляться, однако, было нечему. Персонажами «ариеток» Вертинского были те же люди, которые сидели в зальчике на триста мест и, еле сдерживая — или вовсе не сдерживая — рыдания, внимали надрывному голосу певца — «экзальтированные барышни, сбившиеся с пути девушки, смущенные собственным поведением, их ненадежные и случайные спутники. Поэзия низводилась до уровня этих потребителей, применялась к их судьбам и вкусам». Мотивы и образы символистской поэзии, сниженные до «улицы», уже давно стали для этой «улицы» языком ее чувств и переживаний.
В сущности, Вертинский пел столько же о них, своих героях, сколько и о себе. Он выпевал свою грусть, тоску, ставшую всеобщим настроением в те времена, в «период героической войны, когда „цена жизни“ упала необыкновенно низко… … стала почти равна нулю… и среди густого дыма, полусумасшедшего опьянения — нежный звон гитары и… песенки Вертинского…». «В его стихе, — писал Черепнин, объясняя то ранящее действие, которое производили на слушателей песенки Вертинского, — много городской остроты, много кокаинного дурмана, болезненно-изысканной выразительности. А то, как он грассирует своего „каррлика маленького“ или „облезлую горржеточку“, и этот налет деланной застенчивости и милой неуклюжести исполнения роднит его с образом Пьеро не только костюмом».
Да, это был Пьеро. Но не с картин «мирискусников» и не из стихов символистов, а Пьеро ресторана «Риш», Тверского бульвара, друга бульварных женщин, поэта, прошедшего окопы Первой мировой войны. И умирал — снова и снова — этот Пьеро не только от сердечной муки, не от одной иссякающей жизненной силы, но и от наркотической комы.
Эта столь же сомнительная, сколь и популярная в то время тема также была, по его собственному признанию, автобиографична. Вертинский вспоминал, как сам он, придя с фронта, в тот первый год, когда началась его слава, оказался под властью кокаина и как в последний момент сумел выпрыгнуть из этой бездны, которая заглотнула его сестру. Действие его песен, дурманящее, дарующее ощущение «блаженно-кощунственной гибельности», было сродни наркотику, этому последнему утешению потерянных и смятых жизнью. Его песенки того времени сами похожи на наркотические миражи, болезненно-сладостные мечты, несущие такое же нездоровое утешение.
Под напев ваших слов летаргических Умереть так тепло и светло -;
эти слова из его же песенки лучше всего объясняют, почему Вертинский стал кумиром публики театров миниатюр 1916 года…
Система «звезд», которыми теперь держались театры миниатюр, не столько театры между собой различала, сколько стирала последние различия. В каком-нибудь одном театре «звезды» долго не задерживались. Владельцы миниатюр-предприятий, соблазняя артистов гонорарами, переманивали их друг у друга. И вот уже имя А. Вертинского, премьера Петровского театра, можно увидеть на афише Современного, потом в «Жар-птице». Не одну сцену обошли М. Ртищева, Н. Мириманова с А. Александровским, Я. Южный, И. Ильсаров, куплетист П. Бернардов, исполнительница цыганских песен Настя Полякова с «полным хором братьев Поляковых от Яра в количестве 40 человек, знаменитая ясновидящая девятилетняя девочка m lle Люция, отгадывательница чужих мыслей», и многие другие, чьи имена обеспечивали предпринимателям сборы.
Так исподволь готовился тот тип эстрадного «сборного» концерта, который сформируется в первые годы революции и займет монопольное положение в советской эстраде.