Проблема чтения и письма в контексте поэтики и прагматики философского текста
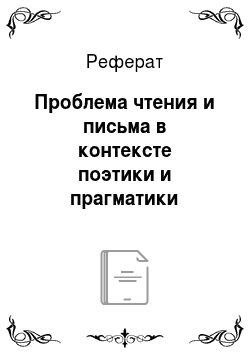
Говоря о смерти автора и рождении читателя, следует вспомнить известного итальянского исследователя Умберто Эко, который в своей, ставшей классической работе «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» (вышла в 1979 году на языке оригинала) говорит о том, что любой текст уже в момент своего производства (или происхождения) предполагает фигуру читателя. Причем не просто в качестве некоего… Читать ещё >
Проблема чтения и письма в контексте поэтики и прагматики философского текста (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Проблема чтения и письма в контексте поэтики и прагматики философского текста
Проблема чтения и письма возникла в философии постструктурализма, в частности, в ряде исследований Р. Барта [1], М. Фуко [10], Ж. Делеза [3], Ж. Лакана [8], Ж. Деррида [4] и других авторов. Ключевым концептом здесь оказалось понятие текста, которое трактовалось предельно широко: и как текст культуры, и как конкретная дискурсивная практика. Поскольку понятие текста наследовало негативные коннотации модернистской философии (против чего выступал еще Ф. Ницше), в постмодернизме было предложено понятие письма, которое не только нивелировало «логоцентризм» автора (Ж. Деррида) в качестве создателя того или иного текста, но и позволило по-новому рассматривать вопросы поэтики и прагматики философского текста в целом. На смену авторской функции пришла «функция читателя» У. Эко [12], понимаемая в качестве активного, творческого и преобразующего начала в процессе формирования текстуальной среды.
Идея исчезновения функции автора в вопросе о поэтике и прагматике философского текста, принадлежит как Р. Барту, так и М. Фуко, которые подбирались к этой теме с разных сторон, но примерно в одно и то же время (1968 год). На смену тексту приходит, по мысли данных авторов, — письмо, понимаемое как особая стратегия работы с сознанием и такое позиционирование субъекта в пространстве прагматичного взаимодействия, которое позволяет преодолеть неизбежную привязку читаемого текста, как к функции автора, так и к социальным условиям его возникновения и функционирования. Дискурсивность письма, его прагматические особенности, с легкой руки названных аналитиков, становятся ключевыми концептами постструктурализма.
Мишель Фуко в своей программной работе «Что такое автор?» следующим образом описывает эту ситуацию. «Письмо разворачивается как игра, которая неизменно выходит за рамки своих правил и разрушает их границы.
Суть письма не в том, чтобы провозглашать или возвышать акт самого письма, и не в том, чтобы вставить субъекта в рамки языка; это, скорее, вопрос создания пространства, в котором пишущий субъект постоянно исчезает…" [10, 29]. Характерно, что не текст создает данное пространство, но письмо, понимаемое как подлинный акт сотворчества и выражения субъективности.
Смысл письма, как особой техники работы с читаемым текстом, заключается в создании пространства взаимодействия между «микрособытиями текста» (термин В. Подороги) и модальностями сознания, конституированными субъективностью читателя. Точно такая же функция присуща гипертексту, который задает возможности функционирования и коммуникации отдельных микрособытий текста, тем самым, обозначая условия появления особого виртуального пространства и размещения в этом пространстве новой формации человека читающего, вытесняющей человека пишущего [5, 43−46].
Правда, в данном случае некорректно говорить о каком-то «человеке», поскольку само понятие субъективности ставится здесь под вопрос. Субъективность преодолевается, растворяется в анонимном, ризоматическом пространстве виртуального взаимодействия, которое осуществляется благодаря гипертекстовой деятельности, как текста, так и письма, приходящего ему на смену [7].
Фуко подходит к идее смерти автора сугубо топологически, то есть, решая вопрос о месте, которое он занимает, точнее, занимал, ведь теперь, после его смерти, оно пустое. «Но, конечно же, недостаточно просто повторять, что автор исчез. Точно так же, недостаточно без конца повторять, что Бог и человек умерли одной смертью. То, что действительно следовало бы сделать, так это определить пространство, которое вследствие исчезновения автора оказывается пустым, окинуть взглядом распределение лакун и разломов и выследить те свободные места и функции, которые этим исчезновением обнаруживаются» [10, 30]. По сути дела, автор — это всегда место, которое занимает тот или иной субъект в пространстве литературного процесса, естественно, что это место время от времени освобождается (как естественным образом, при буквальной смерти автора, так и во множестве символических замещений). Но если раньше оно не оставалось надолго пустым, то теперь пустота «авторского места» приобретает особое значение, оно становится пространством топологической организации структур знания, дискурсивной особенностью поэтики и прагматики текста [6, 34−36].
Дискурсивность создаваемого письмом пространства, как это ни странно, приемлет функцию авторства, но не в качестве демиургического или генетического влияния на произведение, а в качестве классификационного принципа. Автор становится общим местом, названием для некоторой группы текстов, объединенных в силу соположенности (перекрестного цитирования) в едином пространстве гипертекста. «Авторское имя есть не просто элемент дискурса, оно выполняет определенную роль по отношению к повествовательному дискурсу, выполняя функцию классификации. Такое имя позволяет группировать некоторое количество текстов, определять их, отличать друг от друга и противопоставлять другим текстам… Авторское имя служит для характеристики определенного способа бытия дискурса…» [10, 32−33]. культурный философский гуманитарный поэтика Характерной особенностью подобного «способа бытия дискурса», способом функционирования знания в обществе, является как раз особое положение автора в обществе и культуре. Но не автора в качестве конкретного человека, выражения субъективных установок в восприятии окружающего, а автора как классификационного принципа, как дискурсивной характеристики в организации пространства социального взаимодействия. В этом смысле понятно, почему «…авторское имя обозначает появление некоего единства в дискурсе и указывает на статус этого дискурса внутри общества и культуры… Авторская функция есть, следовательно, характеристика способа существования, циркуляции и функционирования некоторого числа дискурсов внутри общества» [10, 33]. Фуко совершенно справедливо заменяет здесь фигуру автора его функцией, поскольку это первично по отношению к способам существования единиц знания (дискурсов) в обществе, чем субъектная привязка текста, как это было в классическом литературоведении.
Дискурсы по определению множественны, их функционирование в обществе подчиняется в общем виде функционированию текстуальной среды, особенно в ее гипертекстовой оболочке. Авторство выполняет здесь, как сказал бы М. Бахтин, посредническую роль [2], связывающую воедино и разрозненное многообразие текстовых фрагментов, и разнообразие телесных практик, и модусов существования социального опыта в едином движении дискурсивной организации. Такое связывание производится посредством либо «техник письма», либо благодаря «функции гипертекста» [5, 43−46].
Говоря о дискурсе в качестве компонента социально-значимого текста, М. Фуко предлагает рассматривать следующие основные характеристики письма в процессе анализа прагматической функции философского текста в обществе и культуре.
Во-первых, «…дискурсы являются предметом присвоения… тексты, книги и дискурсы действительно начинали присваивать авторов, в той мере, в какой авторы начинают подвергаться наказанию, то есть в той мере, в какой дискурсы могут быть преступными…» [10, 33−34]. Речь идет о том, что любая более или менее последовательная объективация того или иного дискурса или текста, с неизбежностью сталкивается со вполне определенным сопротивлением внутри самого общества. Никогда нельзя заходить слишком далеко, не стоит публиковать все написанное, отстаивать собственные взгляды до конца, это наказуемо обществом. Отсюда и «преступность» дискурса, и те наказания, которым подвергается автор текста.
Появление «системы собственности на тексты» и такого понятия как авторские права, на самом деле породило больше проблем, чем об принято говорить. В частности, «…возможность нарушения закона, связанная с актом письма, стала принимать все более и более специфическую для литературы повелительную форму. Это выглядело так, как будто бы автор, начав с момента, когда он был помещен в систему собственности, характеризующей наше общество, платил за статус, который он таким образом получал…» [10, 34]. Функционирование данной системы приводит к тому, что автор сам становится не более чем функцией, неким организующим принципом, дискурсивной закономерностью, обеспечивающей легитимность существования того или иного текста, прагматика которого всегда стоит под вопросом. Однако защищать текст труднее, чем защищать свое доброе имя и право собственности, на которое посягают другие тексты и другие авторы.
Во-вторых, «авторская функция не воздействует на все дискурсы всеобщим и постоянным образом…», то есть вопрос об анонимности того или иного текста рассматривался, например, в Средние века совсем по-другому, чем сегодня. Анонимность литературного текста не вызывала никаких проблем, если данный текст (предание, эпос, повествование, трагедия или комедия) поддерживал свой статус опираясь на реальную или предполагаемую древность. В то же время, для текстов научной ориентации (медицина, астрология, география, естественные науки) первостепенное значение имело авторство и авторитетность источника получения данных сведений. И только в XVII или XVIII веке смена научной парадигмы или, как ее называет Фуко, «эпистемы» привела к тому, что научные тексты имеют собственную ценность, даже будучи анонимными, а тексты, принадлежащие литературному дискурсу, имеют значение, только будучи привязанными к автору. «И, если обнаруживается анонимный текст, — вследствие случайности или пожелания самого автора, — игра превращается в разгадывание автора. Так как литературная анонимность невыносима, мы можем принять ее лишь в качестве загадки» [10, 35].
В-третьих, «…характеристика функции автора состоит в том, что она не развивается спонтанно как отнесение дискурса к индивиду. Скорее, это результат сложной операции, которая создает известное разумное существо, которое мы называем „автор“» [10, 35]. Данная работа по описанию поэтики текста производится усилиями особой группы людей, называемой «литературными критиками», которые обеспечивают авторство тому или иному тексту, связывая его с мотивами, творческими силами, замыслами, условиями появления и средой, где происходит письмо. Вопрос не в том, насколько необходима такая работа, гораздо важнее связь конкретного текста (например, литературного) с функцией авторства как таковой. Фуко сравнивает данную функцию, инспирированную литературной критикой с методами христианской экзегетики св. Иеронима, который предлагал четыре критерия, определяющие связь автора с тем или иным текстом. В трактовке Фуко эти критерии звучат следующим образом:
Автор определен как постоянный уровень ценности для той или иной группы текстов (если какой-то текст выглядит слабее всех остальных, то его следует исключить из корпуса текстов, приписываемых данному автору);
Автор определен как область концептуального или теоретического соответствия (то есть исключению подлежат также тексты, противоречащие общей доктрине данного автора);
Автор определяется стилистическим единством собственных текстов (должны быть исключены тексты, в которых встречаются слова и выражения, обычно не употребляемые данным автором);
Автор должен рассматриваться как историческая фигура на перекрестках известного ряда событий (отрывки текста, повествующие о событиях, которые случились после смерти автора, должны считаться более поздними вставками) [10, 36].
Фуко настаивает на том, что современная литературная критика пользуется, по большому счету, теми же критериями при определении авторской позиции в литературном дискурсе и в отношении некоторого корпуса текстов, принадлежащих или приписываемых данному автору. Тем не менее, все усилия литературной критики, направленные на культивирование необходимости фигуры автора для легитимации самого факта существования текста встречают реальное сопротивление при появлении стратегий письма, обнаруживаемых постструктуралистской аналитикой. Данные стратегии меняют наши представления о способах существования текста, ставят под вопрос фигуру автора и предлагают принципиально иные возможности для развития поэтики и прагматики философского текста. В частности, функция авторства, вынуждена преодолевать анонимность виртуального взаимодействия, гетерономность стратегий чтения и ризоматичность письма, что с неизбежностью выводит текстуальную проблематику в область гипертекста, особенностей его функционирования и возможностей субъективной репрезентации. Можно без преувеличения сказать, что функция авторства, как ее описывает Фуко, вытесняется функцией гипертекста, особенно в вопросе о стратегиях чтения, техниках письма и особенностях текстуального взаимодействия в современном обществе и культуре.
Конечно, есть соблазн поверить Фуко, предрекающему появление ситуации, когда «…все дискурсы, каков бы ни был их статус, форма ценность, какому бы анализу они не подвергались, разовьются в анонимное бормотание» [10, 43], современный Интернет тому красноречивое свидетельство. Фуко, не знакомый с тем, что такое Интернет, говорит здесь о «трансдискурсивной позиции» автора (которую занимали в истории европейской мысли такие авторы, как Маркс, Фрейд и Ницше), и которая не только задает возможности для появления того или иного типа текстов, но задает параметры прагматической ориентации данных текстов. Иначе говоря, речь идет о текстах, которые «больше, чем тексты», которые выходят за пределы дискурсивной организации структур знания и потому востребованы другими практиками: экономическими, политическими, художественными. Такие тексты особенно взрывоопасны, а их авторы рискуют со временем стать фигурами non-grata.
Другой французский исследователь Ролан Барт в ставшей классической работе «Смерть автора» (1968) со всей определенностью говорит о смерти автора в современной гуманитарной науке. Ключевым механизмом в процессе исчезновения автора является письмо, понимаемое как процесс непосредственного превращения текста в дискурсивную структуру взаимодействия читающего сознания и языковой реальности (собственно, прагматика текста). В процессе письма автор теряет власть тождественного (попросту говоря, перестает быть самим собой), а его онтологическая функция в качестве создателя перестает оказывать влияние на дальнейшую судьбу текста. «Письмо — та область неопределенности, неоднородности, уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, черно-белый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь телесная тождественность пишущего» [1, 384].
Данный процесс представляется Барту вполне естественным и даже закономерным. «Очевидно, так было всегда: если о чем-то рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой, — то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь то начинается письмо» [1, 384]. По сути дела, Барт говорит о гипертекстовой функции письма, которая также посредством механики письма разотождествляет фигуру автора и происходит «рассказ ради самого рассказа», это те процессы, что мы можем наблюдать сегодня на просторах Интернета.
Барт также объясняет, откуда взялся такой образ автора, откуда выросла его фигура и почему она занимала такое прочное место в системе нашей культуры. «Фигура автора принадлежит новому времени, по-видимому, она формировалась нашим обществом по мере того, как с окончанием средних веков это общество стало открывать для себя (благодаря английскому эмпиризму, французскому рационализму и принципу личной веры, утвержденному Реформацией) достоинство индивида, или, выражаясь более высоким слогом, „человеческой личности“» [1, 385]. Это тот механизм, который Фуко называет институтом собственного имени, институтом авторства, который действительно сформировался в Новое время и является до недавнего времени доминирующим способом организации как литературного или философского, так и других дискурсивных процессов. Понять поэтику произведения (даже просто прочитать его со смыслом) означает в рамках этой парадигмы «засилья автора» понять жизнь автора, его судьбу, социальные, экономические и прочие обстоятельства его существования в качестве реальной (или воображаемой) личности.
Барт указывает также, кто впервые стал подвергать сомнению значимость фигуры автора, это был Стефан Малларме. «Малларме полагает — и это совпадает с нашим нынешним представлением, — что говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезличенная деятельность, позволяющая добиться того, что уже не „я“, а сам язык действует, „перформирует“; суть всей поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом, — а это значит, как мы увидим, восстановить в правах читателя» [1, 385−386]. Теперь, когда язык вступает в свои права, вернув себе власть слова (смысла, значения), автор растворяется в анонимной множественности читателей. Вполне резонный вопрос: ради кого существует текст, ради автора или во имя читателя, однозначно решается Бартом и другими постструктуралистами (включая также У. Эко) в пользу читателя. Об этом говорил еще В. Набоков, неоднократно утверждавший, что текст (произведение) делают читатели, «хорошие читатели» [9, 23−29].
Барт идет дальше и вместо фигуры автора предлагает фигуру «скриптора», который воплощает в себе высшую истину письма — быть здесь и теперь, отменить время или точнее, сжать его в точку чистого перформатива. «Что же касается современного скриптора, то он рождается одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; остается только одно время — время речевого акта, и всякий текст пишется здесь и сейчас» [1, 387]. Скриптор настолько сливается с самим процессом письма, что становится с ним единым целым: «…его рука, утратившая всякую связь с голосом, совершает чисто начертательный (а не выразительный) жест и очерчивает некое знаковое поле, не имеющее исходной точки, — во всяком случае, оно исходит только из языка как такового, а он неустанно ставит под сомнение всякое представление об исходной точке» [1, 388]. Можно было бы сказать, что это «точки вненаходимости» (терминология М. Бахтина), которые не только структурируют по своим законам язык, но и являются формами прагматических «игр сознания» читателей текста.
«Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные вида письма, ни одни из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников» [1, 388]. Вместе с изменением сущности текста, точнее, с проявлением истинной сути текста в процессе письма, радикально меняется и роль автора, он теперь лишь «скриптор», то есть тот, кто просто фиксирует движение смысла, рождение текста, жизнь языка. «Писатель может лишь вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось впервые; в его власти только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, ему все равно следовало бы знать, что внутренняя „сущность“, которую он намерен „передать“ есть не что иное, как уже готовый словарь, где слова объединяются лишь с помощью других слов, и так до бесконечности» [1, 388−389].
Барт сводит писателя (с его неповторимой «сущностью» и прочими сопутствующими аберрациями) к словарю, простой совокупности слов, которые отсылают только к самим себе до бесконечности. По сути дела, писатель не стоит даже того языка, которым владеет, поскольку никакой сущности у автора нет, он производное явление от произносимых и фиксируемых средствами письма слов, выражений и предложений. «Скриптор, пришедший на смену Автору, несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки, жизнь лишь подражает книге, а книга сама соткана из знаков, сама подражает чему-то уже забытому, и так до бесконечности» [1, 389].
Факт исчезновения автора имеет далеко идущие последствия, связанные с поэтикой и прагматикой философского текста в частности и процессом культурного воспроизводства знания в целом. «Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на „расшифровку“ текста. Присвоить тексту Автора — это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» [1, 389]. В этой ситуации больше всего потеряли литературные критики, которые занимались «расшифровкой» текста, переводом поэтики произведения на язык обывателей. Особенно когда эта расшифровка сводилась к поиску жизненных обстоятельств, якобы объясняющих смысл авторского текста, но теперь такая работа невозможна и фигура литературного критика, по мысли Барта, должна исчезнуть вслед за фигурой автора.
Множество текстов, которые традиционно сосуществовали в качестве культурного фона, теперь объединены в виртуальную целостность письма. Парадоксальным образом данное пространство образуется не вокруг фигуры автора, как было в предшествующие эпохи, а вокруг фигуры читателя, именно читатель оказывается пространством существования текста. «Так обнаруживается целостная сущность письма: текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» [1, 390].
Когда Барт говорит о том, что читатель — это пространство, сохраняющее цитаты и анонимное по своей сути (не имеет ни биографии, ни психологии), то он, сам того не зная, описывает способ существования субъективности в сети Интернет. В Интернете также исчезает автор, растворяется в анонимном бормотании и избыточном перекрестном цитировании, но и читатель не более чем «некто», который находится по эту сторону экрана, считывающий строчки букв и слагающий из них некий только ему доступный смысл. У такого читателя поистине нет истории, ибо запоминание больше не является необходимым умением, это автоматически делает машина; ни биографии, поскольку анонимность всегда приятнее и безопаснее для общения; ни психологии, поскольку производится «множественная личность», меняющая свой статус в зависимости от характера читаемого текста. Что же остается в итоге? Сам текст, правильнее говорить — текстуальность, поскольку это среда обитания читателя, Барт называет такой текст письмом, подчеркивая способ его производства, но не способ потребления. Можно согласиться с Бартом, который в последних строках своего манифеста пророчески предрекает: «Теперь мы знаем: чтобы обеспечить письму будущность, нужно опрокинуть миф о нем — рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора» [1, 391].
Говоря о смерти автора и рождении читателя, следует вспомнить известного итальянского исследователя Умберто Эко, который в своей, ставшей классической работе «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» (вышла в 1979 году на языке оригинала) говорит о том, что любой текст уже в момент своего производства (или происхождения) предполагает фигуру читателя. Причем не просто в качестве некоего «адресата», который потом будет читать (потреблять) этот текст, но именно как «со-творца», соавтора данного текста. Правда речь идет об «открытых произведениях», которые Эко отличает от произведений «закрытых» [11], принципиальная разница между ними, кроме всего прочего, заключается в роли читателя. Подобный взгляд на природу и структуру текста находится во вполне определенной оппозиции с классическими постулатами структурализма 60-х годов, где структура текста повелительным образом доминировала не только над читателем, но и над автором, что неоднократно указывают Р. Барт, М. Фуко и К. Леви-Стросс. Эко смещает акцент рассуждений на эту тему и, опираясь на идеи Р. Якобсона и Ч. С. Пирса, обосновывает принципиально иной взгляд на роль читателя и на прагматическую функцию текста в целом.
Эко исходит из вполне классической герменевтической установки, согласно которой текст становится таковым, только будучи понятым, то есть с одной стороны вписанным в социальный и культурный контекст жизни читателя, а с другой стороны подвергнутый интерпретации и прагматическому освоению. Более того, именно процесс интерпретации и придает тексту его смысл, подлинное значение. «Читатель как активное начало интерпретации — это часть самого процесса порождения текста» [12, 14]. Эко говорит в этой связи о некой «модели читателя» (М-Читатель), идеальный образ, который присутствует в сознании автора. Каков же механизм создания такого читателя?
«Создавая текст, его автор применяет ряд кодов, которые приписывают используемым им выражениям определенное содержание. При этом автор (если он предназначает свой текст для коммуникации) должен исходить из того, что комплекс применяемых им кодов — такой же, как и у его возможного читателя. Иначе говоря, автор должен иметь в виду некую модель возможного читателя, который, как предполагается, сможет интерпретировать воспринимаемые выражения точно в таком же духе, в каком писатель их создавал» [12, 17]. Прагматика текста связывается Эко с идеей коммуникации, речь идет об идеальной коммуникации между автором и читателем посредством существующего текст. Данная коммуникация будет успешной, если читатель обладает «энциклопедической компетенцией» (запасом знаний об используемом языке, системе образующих его кодов и субкодов), а автор не злоупотребляет доверием предполагаемого читателя и поэтому создает текст, который будет ему понятен.
Это идеальная модель коммуникации, но в реальности дела обстоят несколько иначе. «В реальных процессах коммуникации текст часто интерпретируется с использованием кодов, отличных от тех, которые имел в виду автор. Некоторые авторы не учитывают такой возможности, они исходят из представления о среднестатистическом адресате в заданном социальном контексте» [12, 19]. Такие тексты, которые предполагают среднестатистического читателя и в то же время ориентируют на определенный круг чтения (открытый для «ошибочных декодирований») Эко называет «закрытыми текстами». Чаще в реальной жизненной ситуации используются как раз закрытые тексты, подверженные ошибочным прочтениям, поэтому проблема коммуникации и правильной интерпретации встает здесь с новой силой и остротой.
Совсем другая ситуация с «открытыми текстами», которыми Эко называет такие произведения, «…когда каждая интерпретация откликается во всех прочих». «Автор может предвидеть „идеального читателя, мучимого идеальной бессонницей“ (как в случае „Поминок по Финнегану“), способного овладеть различными кодами и готового воспринимать текст как лабиринт, состоящий из множества запутанных маршрутов. Но в конце концов самое важное — не различные маршруты сами по себе, а лабиринтообразная структура текста. Читатель не может использовать текст так, как ему, читателю, хочется, но лишь так, как сам текст хочет быть использованным. Открытый текст, сколь бы ни был он „открыт“, не дозволяет произвольной интерпретации» [12, 21].
В таком положении вещей заключен вполне определенный парадокс — «открытый» текст предполагает «закрытого» читателя (лишенного свободы интерпретации), а текст «закрытый» бесконечно открыт для множества читательских интерпретаций (как в случае с циклом романов Иена Флеминга о Джеймсе Бонде). «Однако в обоих случаях сам текст и только сам текст, именно такой, какой он есть, говорит нам о том, какого читателя он предполагает. Если существует „наслаждение текстом“ (Р. Барт), то оно может быть пробуждено и изведано лишь с помощью такого текста, который сам прокладывает все пути к „хорошему“ чтению» [12, 23]. Таков «текстоцентрированный» вердикт Эко относительно прагматики текста в качестве процесса коммуникации автора и читателя посредством того текста, который они совместно создают.
Можно сказать, что и автор, и читатель являются не более чем текстовыми стратегиями (стратегиями чтения и письма), каждый со своей стороны «создает» текст и необходимый ему контекст. «В подобных случаях автор проявляется в тексте лишь как: а) узнаваемый стиль или текстовый идиолект, причем этот идиолект нередко может принадлежать не личности, а жанру, социальной группе или исторической эпохе; б) просто актантная роль; в) иллокутивный сигнал или перлокутивный оператор» [12, 24]. Эко категоричен в своих интерпретациях авторской и читательской функции текста, он следующим образом подытоживает динамику отношений между ними. «В дальнейшем я буду употреблять термин „автор“ лишь в метафорическом смысле, т. е. подразумевая под этим термином некий тип „текстовой стратегии“. То же относится и к термину „М-Читатель“. Иными словами, М-Читатель — это тот комплекс благоприятных условий (определяемых в каждом конкретном случае самим текстом), которые должны быть выполнены, чтобы данный текст полностью актуализировал свое потенциальное содержание» [12, 25]. В последующем развитии сюжета своего исследования Эко подробно показывает, как на различных уровнях текста происходит реализация автором и читателем стратегий по реализации поэтики и прагматики текста.
Подытоживая, следует сказать, что при анализе поэтики и прагматики философского текста ключевое значение имеет фигура читателя, также как в вопросе о производстве и воспроизводстве текста с неизбежностью всплывает фигура автора. Читатель интересен здесь не только своими интенциональными вмешательствами в «судьбу текста», но также в качестве своего рода конструктора, манифестатора и организатора поэтического пространства текста, а также особенностей его прагматического использования. Поскольку именно читателю надлежит устанавливать все многообразие возможных или воображаемых смысловых связей читаемого им текста и всей окружающей данный текст знаковой средой. Здесь можно говорить о некоторых «смысловыводящих прогулках» (термин У. Эко) [13], которые обеспечивают коннотационную и референциальную связь любого текста с другими текстами и именно читатель (а вовсе не автор) данного текста ответственен за установление этих связей. Читатель должен быть мечтателем, во всяком случае, читатель литературных текстов, но также и читатель текстов философских.
Чтение с позиции современной философии текста — это всегда текстуализация событий собственного опыта, поэтому читатель по отношению к тексту может занимать, по меньшей мере, три позиции: критическую, нарративную и генеративную [7]. Так или иначе акцент в процессе существования текста переносится с фигуры автора на фигуру читателя. Постструктурализм постулирует тезис о «смерти автора», который имеет в современной науке несколько различных интерпретаций.
С точки зрения М. Фуко автор всегда был лишь некой социальной функцией, которая реализовывалась в зависимости от культурного контекста посредством тех или иных стратегий. В современном обществе авторская функция заменяется функцией дискурса, поэтому для понимания текста важным является не автор (с его условиями жизни, мыслями и идеалами, а также культурным контекстом), а дискурс и его место в обществе, ибо тексты начинают циркулировать сами по себе, подчиняясь собственным законам и закономерностям. Р. Барт связывает смерть автора с возрастающим значением «письма» в процессе производства и воспроизводства текста. Письмо же предполагает читателя, который в качестве своеобразного «соавтора» создает текст не в меньшей степени, чем сам автор. Вместо фигуры автора возникает фигура «скриптора», который лишь фиксирует в письме необходимые знаки и смыслы, в то же время текст распадается на множество сосуществующих и конкурирующих друг с другом цитат, фрагментов, кусочков текста. Пространство, где эти фрагменты могут быть собраны воедино — это сознание читателя, который теперь и несет ответственность за судьбу текста и его смысл.
У. Эко также признает решающую роль читателя в процессе существования современного текста. Его позиция состоит в том, что любой автор в процессе письма создает модель идеального читателя, который в зависимости от типа создаваемого текста (открытый или закрытый) обладает свободой интерпретации. Чем более «открытым» является текст, тем меньше пространство для интерпретации у читателя и наоборот, «закрытые» тексты (рассчитанные на среднестатистического читателя) на самом деле весьма открыты для множества прочтений и самых вольных интерпретаций.
Таким образом, проблема чтения и письма в контексте поэтики и прагматики философского текста может быть рассмотрена не только сквозь призму постструктуралистских констатаций «смерти автора» и «рождения читателя», но также как процесс развития современного информационного общества. Сеть Интернет и другие коммуникативные возможности современной культуры естественным образом растворяют «авторскую функцию» в дискурсивном пространстве анонимного взаимодействия (анонимное множество высказываний), что проявляется в возрастающем значении гипертекста. Не столько «письмо», как пространство активного взаимодействия автора и читателя оказывается решающим в данном вопросе, сколько «гипертекст», понимаемый как множеств взаимодействующих текстов, безразличных как к автору, так и к читателю, бесконечно воспроизводит лишь самого себя. Данное обстоятельство требует самого пристального внимания со стороны современных аналитиков и потому предполагает дальнейшие исследования в области философии текста.
- 1. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994.
- 2. Бахтин, М. М. Работы 20-х годов. — Киев: «Next», 1994.
- 3. Делез, Ж. Логика смысла. — М.: Издательский центр «Академия», 1995.
- 4. Деррида, Ж. Письмо и различие. — М.: Академический проект, 2000.
- 5. Еникеев, А. А. Гипертекст в пространстве современного социально-гуманитарного дискурса: проблема философского обоснования // Гипертекст как объект лингвистического исследования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — Самара: СГСПУ, 2010. С. 43−46.
- 6. Еникеев, А. А. Методология топологической аналитики в социально-гуманитарном дискурсе ХХ века (исторический экскурс и постановка проблемы) // Культурная жизнь Юга России, 2014, № 3 (54). С. 34−36.
- 7. Еникеев, А. А. Событие, сознание, текст в пространстве социально-философского знания: дисс… канд. филос. наук. — Екатеринбург, 2003.
- 8. Лакан, Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. — М.: Гнозис, 1995.
- 9. Набоков, В. В. Лекции по зарубежной литературе. — М.: Издательство Независимая газета, 2000.
- 10. Фуко, М. Что такое автор? // Лабиринт/Эксцентр № 3. — СПб., Екатеринбург: Независимое издательское предприятие «91», 1991.
- 11. Эко, У. Открытое произведение. — М.: Академический проект, 2004.
- 12. Эко, У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. — СПб.: Симпозиум, 2005.
- 13. Эко, У. Шесть прогулок в литературных лесах. — СПб.: Симпозиум, 2003.
References
- 1. Bart, R. Izbrannye raboty: Semiotika. Pojetika. — M.: Izdatel’skaja gruppa «Progress», «Univers», 1994.
- 2. Bahtin, M.M. Raboty 20-h godov. — Kiev: «Next», 1994.
- 3. Delez, Zh. Logika smysla. — M.: Izdatel’skij centr «Akademija», 1995.
- 4. Derrida, Zh. Pis’mo i razlichie. — M.: Akademicheskij proekt, 2000.
- 5. Enikeev, A.A. Gipertekst v prostranstve sovremennogo social’no-gumanitarnogo diskursa: problema filosofskogo obosnovanija // Gipertekst kak ob#ekt lingvisticheskogo issledovanija. Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. — Samara: SGSPU, 2010. S. 43−46.
- 6. Enikeev, A.A. Metodologija topologicheskoj analitiki v social’no-gumanitarnom diskurse HH veka (istoricheskij jekskurs i postanovka problemy) // Kul’turnaja zhizn' Juga Rossii, 2014, № 3 (54). S. 34−36.
- 7. Enikeev, A.A. Sobytie, soznanie, tekst v prostranstve social’no-filosofskogo znanija: diss… kand. filos. nauk. — Ekaterinburg, 2003.
- 8. Lakan, Zh. Funkcija i pole rechi i jazyka v psihoanalize. — M.: Gnozis, 1995.
- 9. Nabokov, V.V. Lekcii po zarubezhnoj literature. — M.: Izdatel’stvo Nezavisimaja gazeta, 2000.
- 10. Fuko, M. Chto takoe avtor? // Labirint/Jekscentr № 3. — SPb., Ekaterinburg: Nezavisimoe izdatel’skoe predprijatie «91», 1991.
- 11. Jeko, U. Otkrytoe proizvedenie. — M.: Akademicheskij proekt, 2004.
- 12. Jeko, U. Rol' chitatelja. Issledovanija po semiotike teksta. — SPb.: Simpozium, 2005.
- 13. Jeko, U. Shest' progulok v literaturnyh lesah. — SPb.: Simpozium, 2003.