Символика игры в романах В. Набокова
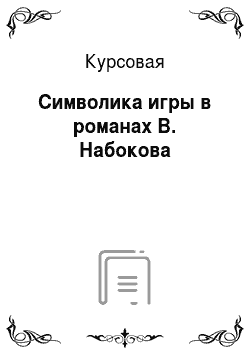
Итак, поначалу наш милый Франц не только чувствовал силу любви, а пользовался всеми ее благами. Но вот постепенно круг этих благ начал странно уменьшаться и преобразовываться, а вернее вбираться в образ Марты, которая, все-таки поборола в себе то новое, что вдруг (как ни парадоксально это «вдруг») обрушилось на нее. Марта и в любви остается прежней Мартой. Образ ее, как никакой другой, статичен… Читать ещё >
Символика игры в романах В. Набокова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Введение
Глава 1. Символика карточной игры в романе «Король, дама, валет»
Глава 2. Символика шахматной игры в романе «Защита Лужина»
Глава 3. Символика театра в романе «Приглашение на казнь»
Заключение
Библиография
К Набокову всегда приходишь, вернее доходишь со «всею мебелью». Мы просто обречены обставлять любой его текст своей мыслью, опытом, жизнью. Мы просто обречены не понимать его, а чувствовать. И в этой обреченности высшая сила его творчества. Уже не писателя — уже человека.
Слушать, но не слышать. Созерцать, но не видеть. Вопрошать, но никогда не утверждать.
Порой кажется, что все произведения Набокова — огромная насмешка над нами, просто великая шутка, великолепная игра. Порой появляется почти уверенность в том, что сам Набоков, водрузив на себя красный цилиндр, сидит на великом троне великого презрения и просто издевается над нами, — жалкими, пытающимися разгадать то, что он наворожил, то, что он создал. И сама попытка понять смешна. Ведь все так просто. Ведь ничего нет!
Но иногда приходит осознание и того, что в его текстах, его аллегориях — великий смысл, почти тайна, великая боль человека, сидящего на троне, но так и не нашедшего того самого «красного цилиндра». За Набоковым бездна, шестое чувство, четвертое измерение. За Набоковым «плоская пустота, страшная именно отсутствием глубины», отсутствием основных трех измерений. Набоков охватывает мир, «очень талантливо — но неизвестно для чего». Набоков говорит обо всем. Он говорит ни о чем.
Весь дар познания, осознания набоковской прозы щедро отдается читателю. Ведь только он, вооружившись накопленной «мебелью», должен разобраться в том, что серьезно, а что игра, что бездна, а что пустота, короче говоря — читателю дается полное право самостоятельно разгадывать намерения автора.
Роман-символ Белого «Петербург» Набоков считал одним из главных произведений XX века (помимо произведений Пруста, Кафки, Джойса). Вообще творчество прозаика Набокова опиралось на опыт прозы символистов. Прежде всего схож мотив поиска лирического героя (подчас в лице самого автора) истины, чего-то, что лежит за периферией сознания, также мотив призрачности, нереальности мира, и соответственно приходящее осознание полного одиночества (у Набокова это приобрело такую окраску, что П. Бицилли доминантой всего творчества Владимира Владимировича назвал именно это чувство нереальности, бессмысленности). Метафизический поиск, или, как выразился Ерофеев «вертикальный поиск» этой самой истины в силу сомнительного и совсем нетвердого, но все же агностицизма Набокова закрыт для его героев, но, как будет видно, главный персонаж «Приглашения на казнь» Цинциннат Ц. составит знаменательное исключение. Особым данное произведения, с точки зрения метаморфоз взглядов Набокова, можно назвать и в силу того, что Набоков как бы открывает для своего героя «горизонтальную плоскость» — «я» его героя не только сливается с неким «мистическим „мы“», но и тоскует по этому единству. Ранее яркая индивидуальность набоковских героев обрекала их на полное презрение этих самых «мы». Также знаменательно появление эпитета «мистический», так как доселе «мы» имело самую обыденную тональность, то есть воплощение всего самого что ни на есть земного, ни о какой метафизике и речи быть не могло. Козлова, делая вывод, что инобытие (которое, собственно, и выражается этим самым «мы») «телесно, пространственно, временно, изреченно», считает, что обращение Цинцинната к «существам, подобным ему» лишь «симптомы гаснущего сознания разрушающегося мозга». Это снова и лишь «» обманный ход", лакомая кость, брошенная чувствительному читателю в качестве компенсации за пережитый «садизм» автора". Но эти самые симптомы телесности, пространственности, временности, изреченности появляются именно после казни, когда предыдущий мир падал и расползался. А доселе не было ни времени, ни пространства, царило косноязычие, тела — абсолютно прозрачны. Тут не «лакомая кость», а самое что ни на есть утверждение. Тут не великодушием, а надеждой попахивает. Но об это позже.
Ключ к пониманию произведений Набокова лежит именно через раскрытие его символики, понимание аллегории, иносказания. У Набокова много дверей, но самую главную можно открыть именно этим ключом. Пресловутая «собственная мебель» в этом основной помощник. И в таком случае есть вероятность хотя бы приблизиться к осознанию не только его творчества, но и мира, как преломляющегося в сетчатке его глаз, так и раскинувшегося внутри гения.
В западном литературоведении предполагалось аллегорическое прочтение сиринских текстов именно с точки зрения раскрытия художественного творчества. То есть собственное произведение — средство самопознания собственного «я». Эгоцентризм Набокова, по мнению некоторых критиков, достигает такой замечательной силы, что автор уже не может (как бы ни хотел) видеть просто мир, — он видит именно «себя, склоненным над миром». Тот же Вейдле считает ничтожным даже «я» автора, пусть и творческое, в сравнении с «автономным механизмом» самого творчества.
Ходасевич, не считая Набокова столь эгоцентриком в художестве, полагает, что Владимир Набоков раскрывает «механизм творчества вообще»: «Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют… Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому не прячет, что одна из главных задач его — именно показать, как живут и работают приемы». И над всем этим отлично слаженным механизмом восседает великий и безумно претенциозный Сирин. И в данном случае он не склонен над миром, а мир склонен над ним — уже не цель, уже средство.
Распространено также толкование, согласно которому произведения Набокова рассматривались как метафизические аллегории. И главная тема их — мотив двоемирия. То есть существуют два мира, и один по крайней мере отражен в другом, один — идеален, другой — игра. Вернее, вариация на тему этой игры. А все без цели к цели. Люди, их отношения с миром, друг с другом — тоже элементы этой игры. Каждый день — представление. Все всегда одно и то же, меняются лишь декорации, свет. Меняются актеры.
О Набокове сказано многое. Надеемся, еще больше скажут потом, ведь это случай, когда всегда есть о чем говорить, хотя никогда не будет общего понимания, общего отношения. Цель данной работы — сказать немногое, но важное — раскрыть некоторые образы-символы Набокова (а как хочется написать Сирина), основываясь на сквозном и объединяющем мотиве — символе игры в трех романах: «Дама, Король, Валет», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь».
В этих романах символика игры показана по-разному. Разные герои, разные мотивы. Но всех их объединяет сама жизнь, которая-то и представлена автором в разных преломлениях, в разных трактовках, но с некими общими ключевыми понятиями, с неким общим игровым элементом.
Тема несвободы — также ключевая в изображении мира данных романов. Тема открывшихся глаз не только на эту несвободу, не только на жизнь — также общая для героев последних двух романов, приведенных нами выше.
Судьба, рок — также понятия для жизни-игры ключевые. Для писателя важен и человек, находящийся под гнетом, а может и благословением судьбы, важны также и действия людей, стремящихся просто жить, не замечая бездны вокруг, а также людей, эту бездну познавших.
Итак, Владимир Владимирович, все же не становитесь Сириным, потеряйте всю вашу претенциозность, и мы придем к вам, придем вместе с собственной мебелью, придем, чтобы наконец понять весь ваш смысл, затаенный в вашем великом символе. И если окажется, что все ваше творчество, вся ваша словесная ворожба — игра, то что ж, пусть так и будет, ведь у гениев игра — тоже очень занятный символ. А впрочем, этот мирок и не достоин большего…
Глава 1. Символика карточной игры в романе «Король, дама, валет»
Показано все. Оттого и легко. Показано с первых строк — в названии. «Король, дама, валет» — куда может отсылать заглавие очередного романа Набокова, в котором символика игры, нетрудно догадаться какой, просвечивает яснее некуда? Тут уже сам Набоков любезно направляет ход наших рассуждений. И добиться понимания того, что хотел сказать нам автор, можно только путем восприятия данного текста сквозь призму той самой игры.
При чтении романа приходит осознание того, что, в принципе, неважна какая именно эта карточная игра. Важен тот факт, что в любом виде карточной игры судьба, воля, случай — как угодно — занимает одно из самых важных мест. Если не самое важное. Прочитав данный роман, убедиться в этом нетрудно.
Каждый персонаж карточного мира — и король, и дама, и валет имеют реального прототипа в реальном мире. Не только в мире Набокова. Уверены — в нашем тоже.
Итак, игра началась.
В самом начале Набоковым показано время, как самый главный атрибут реальности. И именно с движением стрелки часов партию можно считать открытой. Некий карты уже сдал: Франц уже в пути, вместе с пока незнакомым дядюшкой и его женой. И вот уже закон игры в силе — волею судьбы и волею самого Франца, с помощью некого ужасающего господина, а точнее из отвращения к нему, герой наш совершает почти мистерию перехода «из мерзостного ада, через пургаторий площадок и коридоров, в подлинный рай». Прощался Франц не только с ужасным третьесортным вагоном, который символизировал не только его жизнь в родном городе — настоящую, прошлую, возможно, и будущую, не только с матерью, весьма интересной внешности «с бородавкой, как репейник, на щеке» (Т.1 С.119), но и с самим собой, старым Францем, бездействующим Францем. А теперь Франц включился, а может его включили в игру. И это его первый ход. В вагоне начавшаяся партия окончательно входит в игровое русло.
С легкой руки автора и с малейшей долей воображения, вернее соображения, можно узнать, что Марта, «в черном костюме, в черной шапочке с маленькой бриллиантовой ласточкой» (Т.1 С.118) и есть, если не забывать о названии, карточная Дама. Роли Короля и Валета уже намечены, но пока точно не могут быть определены.
Дама. Не только прихоть судьбы, но и привычки, расчета, долженствования, жизни. Имя Марты — полная противоположность ее сущности — постоянной, заранее все определяющей, подчиняющейся строгому закону долженствования: «В вагоне должно быть душно; это так приятно, и потому хорошо. Жизнь должна идти по плану, прямо и строго, без всяких оригинальных поворотиков». Оригинальные поворотики Марте все же предоставила судьба, но оформила их она сама. История ее жизни и замужества — совершенно обычная, с долей продуманности, с долей неожиданности, с долей прихотей судьбы и с совсем небольшой долей мужа. За «сумасшедшего идиота» (Т.1 С.124) Марта так и не взялась, но вот «пустой и на все готовый особняк» (Т.1 С.136) сотворила явно по своему образу и подобию: «Она приобрела и распределила картины по стенам, руководствуясь указаниями очень модного в тот сезон художника, который считал, что всякая картина хороша, лишь бы она была написана густыми мазками, чем ярче и неразборчивее, тем лучше. Потому-то большинство картин в доме напоминало жирную радугу, решившую в последнюю минуту стать яичницей или броненосцем», еще ярче: «На письменном столе … стоял, вместо лампы, бронзовый рыцарь (прекрасной, впрочем работы) с фонарем в руке. Были всюду фарфоровые звери, которых никто не любил, разноцветные подушки, к которым никогда еще не прильнула человеческая щека, альбомы, — дорогие, художественные книжищи, которые раскрывал разве только самый скучный, застенчивый гость» (Т.1 С.137).
Точным и холодноватым расчетом шла ее жизнь, и лишь только чудачества мужа Драйера немного смущали, но она на них закрывала свои, даром что большие, глаза. Да и собака была слишком живая. Остальное же было очень правильно, плавно и кругло. И только Бог знает какой ветер занес в ее такую форменную жизнь для нее нового, странного парня из провинции, находящегося в полной зависимости от ее супруга. И уже оттого, что последний явно «сумасшедший идиот», то простенький Франц явно нуждается в ее протекции. Но самое поразительное то, что Франц и есть тот самый «оригинальный поворотик», которого так боялась Марта. И вот она сама столкнулась с этим самым странным и непредвидимым ее расчетом чувством: «Чуть ли не в первый раз она чувствовала нечто, не предвиденное ею, не входящее законным квадратом в паркетный узор обычной жизни» (Т.1 С.139). И среди непредвиденного скрипа лестниц, среди фальшивого свиста мужа, который не понимает, что танцевать хорошо — «модно и необходимо» (Т.1 С.140), в Марту, в узор ее сущности и даже в узор ее жизни вписывается новая черточка в виде «близорукого провинциала с прыщиками между бровей» (Т.1 С.140).
Но это ощущение, это новое чувство не поработило Марту, не изменило ее, а просто внесло нечто в ее извечные расчеты, не случайно она Дама в жизни, в игре. И со всяким неожиданным Марта, со свойственной ей атрибутикой, справляется, расправляется очень своеобразно. Вот потому и уничтожающую частицу «ик» получает этот неожиданный поворот; вот потому-то и Франц для нее «теплый податливый воск, из которого можно сделать все» (Т.1 С. 207). И чувство, то новое, странное чувство, вселившись в Марту приобрело уже ее окраску, освоилось там, вселилось в ее берега. И даже это новое, странное, неизвестное было, точнее стало очередной линией в штрихованном мире Марты. Иначе говоря — Марта, побив внутри себя сначала неизвестность, а потом и вызвавшие ее причины, делает ход.
Но ход этот был подготовлен опять-таки очень расчетливыми мыслями героини. Мысли ее вели в весьма любопытном направлении, а именно — «смутная обида ей шептала, что вот у ее сестры было уже три любовника, один за другим, а у молоденькой жены Вилли Грюна — два — и зараз» (Т.1 С.166). Так вот Франц представился ее, на сей раз большим глазам, весьма подходящей кандидатурой на роль «очередного подарка» (Т.1 С.166). И совсем не помеха какой-то странный подарок судьбы — «какой-то приблудный ветерок, какая-то подозрительная нежность…» (Там же).
Вообще судьба уже явственно напоминает Марте, да и всем героям, о себе. Если бы не поезд, если бы не мать Франца, если бы не ее муж, по совместительству дядя ее «подпланового»… Так вот это «если» — одна из сути двойственной натуры всей жизни человека. Вторая — ход мысли последнего. Повторим вышесказанное — это также суть карточной игры. Не все зависит от планов, доводов, мыслей играющих. Важное место, почетное место занимает тот самый сдающий. Кто он — решать каждому. В это понятие входят все категории — начиная от Бога, кончая случаем. Также можно объединить все данные понятия в общую субстанцию. И весь ход игры-жизни героев данного романа с, повторимся, весьма красноречивым и щедрым названием представляется под углом игры именно карточной, игры воли и судьбы, разума и случая, планов и неожиданностей.
Даря себе Франца, Марта полностью проявляет свою сущность именно Дамы. С того знаменательного момента, когда «постель тронулась, поплыла, чуть поскрипывая, как ночью в вагоне» (Т.1 С.174), с нового, поистине нового во всех смыслах — и духовном и, как видим, физическом, слове «Ты», начинается первый, по-настоящему главный ход Марты. И Дама не только делает ход, но именно «бьет» карту-символ Франца. Следуя примитивным правилам карточной иерархии, легко сделать вывод, что Франц, соответственно, валет. Сущность «валета» во Франце проявилась позже, как и осознание того, что Дама действительно побила его.
Поначалу Франц даже «возмужал от любви. Эта любовь была чем-то вроде диплома, которым можно было гордиться» (Т.1 С.178). Это — счастье сущности молодого и именно провинциала, который словно победил город, все новое и высокое, которое представлялось ему поначалу таким расплывчатым, нереальным своей высотой. И тут, кроме появления новых черепаховых очков, появляется в них растворенная Марта, которая вдруг дарит ему не только себя, но и ключ к двери этого самого мира. Вот потому и диплом. Вот потому «весь день его разбирало желание кому-нибудь показать диплом», похвастаться новой степенью, свои ростом и своими такими возможными возможностями, которые воплотились в образе новой кушетки «в мелкий красноватый цветочек» (Там же), а еще пуще — в образ смокинга!
У Франца даже от такого нежданного подарка Марты-судьбы вскружилась голова. Да, в первые мгновения судьба, благосклонно склонившая свою руку над бедным юношей, представлялась последнему именно в образе Марты. И неважно, что у судьбы есть муж, имеющий еще большую значимость для Франца, неважно, что судьба вскоре поставит его в ряд однородных существительных, позже отметим каких, под эгидой собственнического местоимения, позже напишем какого… Все это неважно. А важно то, что «такое блаженство, — ведь это дается не каждому «(Т.1 С.188), а ему, Францу, удалось его заполучить. Вот потому это чувство можно назвать чувством любви. С маленьким эпитетом — карточной любви…
Набоков показывает узор их чувства в виде геометрической фигуры. С первичной обоюдной зависимостью каждого друг от друга: «существовала будто незримая геометрическая фигура, и они были две движущиеся по ней точки, и отношение между этими двумя точками можно было в любой миг прочувствовать и рассчитать, — и хотя они как будто двигались свободно, однако были строго связаны незримыми, беспощадными линиями той фигуры» (Т.1 С.203). Может быть, первоначально это было правдой. Может быть, внутренне для Марты это правдой так и осталось. Ведь настолько сильно полонил ее «паркетный узор» не только жизни, но и всего жизнь составляющего, что она просто не сообразила, что Франц встал в ряд «моя столовая, мой сервиз, мой Франц» (Т.1 С.191). И как нужно было ей организовать все вокруг, так и нужно было ей полюбить кого-либо. По случайности это оказался Франц.
Но снова по той же случайности к чувству долго готовящейся любви прибавились какие-то новые и странноватые для Марты нотки. Поначалу даже мысль Марты, такая ясная, четкая, на зависть любому архитектору, «попадала в тупик» (Т.1 С.183): «Нельзя было представить себе, что Франца нет, что кто-нибудь другой у нее на примете. И нынешний день, и все будущие дни озарены (какое новое слово, странное и даже страшное для Марты! А.М.) — Францем. Она попыталась подумать о прошлом, о тех годах, когда она Франца еще не знала, — и вдруг у нее в воображении встал тот городок, где она как-то побывала проездом… То немногое, что ей рассказал Франц о своем детстве, было ярче и важнее того, что она и впрямь пережила; и она не понимала, отчего это так, спорила сама с собой. Уязвленная в своей любви к простоте, любви, ясности» (Т.1 С. 183). Вот они, эти великие понятия, который были уязвлены, все же, как ни странно, но любовью. Вот они, эти великие понятия, которые Марту составляли и составили окончательно. И, наконец, вот они, эти великие понятия, которые преодолели даже все же не такие же по силе понятия любви. И в этом вся Марта. В этом вся ее сущность настоящей, карточной, бумажной Дамы.
Итак, поначалу наш милый Франц не только чувствовал силу любви, а пользовался всеми ее благами. Но вот постепенно круг этих благ начал странно уменьшаться и преобразовываться, а вернее вбираться в образ Марты, которая, все-таки поборола в себе то новое, что вдруг (как ни парадоксально это «вдруг») обрушилось на нее. Марта и в любви остается прежней Мартой. Образ ее, как никакой другой, статичен. И в этом кругу, под именем, под эгидой Марты, Франц начал постепенно растрачивать то, что некогда было им. Потому огромную нагрузку в этом плане несет образ танцующего Франца под руководством (а как хочется написать «под дудку») Марты. И постепенно «прямая, стройная, но искусственная поступь, которой она учила его, поработила его всецело» (Т.1 С.207). И это уже не просто танец, это уже образ жизни, обретенной и вскоре обреченной вместе с Мартой. Франц уже не просто тот, кто «с ней заодно» и даже не тот, «кто сделает так, как нужно» (Там же). Франц постепенно утратил себя поначалу физически: «внешне он очень изменился за эти последние месяцы, потощал, побледнел» (Т.1 С.237); позже — растратил себя и духовно: Марта забрала сначала его волю — он уже «преломлял ее волю по-своему» (Т.1 С.214); ненавистное Марте воображение он тоже растратил — оно хоть и работало по инерции, но «готово было работать на нее», причем даже «толчок должна была дать она» (Там же) и, наконец, Франц окончательно потерял даже душу, которая даже не завяла, а просто-напросто осипла. Но любимейшее Мартой «принято» Франц до мозга костей усвоил. Это вошло и в его движения: «он читал газету, — потому что газеты читать принято» (Т.1 С. 237); и в его мысли: «Тупой клинок; порезался. Нынче девятое, нет, десятое, нет, одиннадцатое июня. Поезд на две минуты опоздал. Есть дураки, которые дамам уступают место. Чисти зубы нашей пастой. Чисти зубы — Предпоследняя остановка. Улыбаться будешь часто. Улыбаться будешь часто. Улыбаться будешь — Приехали…» (Там же); и, наконец, в его существование: «он существовал только потому, что существовать было принято» (Там же).
Образ той молоденькой девушки в дверях, образ близорукого юноши-провинциала остался далеко позади. Теперь вся жизнь была поначалу освещена, а позже ослеплена обжигающим, палящим, убивающим и опустошающим, безжизненным солнцем Марты. Франца уже нет окончательно. В игре он просто валет, да еще и побитый, практически убитый валет.
И мертвые, а точнее неживые Марта и Франц всю силу их мертвенности направили против слишком живого, невозможно живого (Т.1 С. 239) Драйера.
Образ последнего очень привлекателен, очень ярок, и в прямом смысле светел. Не только внешность Драйера отдавала желтизной, желтыми были его мысли, действия, его жизнь. То, что так было далеко от Марты — а именно воображение, чудачества, вечное преобразование жизни и себя, вечное искание именно жизни и именно себя в ней — составляло Драйера. Весь мир был большим подарком, любезно предоставляющим свои неисчерпаемые блага любому, умеющему их видеть.
«Ничего неизвестно, и все возможно», за каждым изобретателем — великое изобретение, за каждым светом — солнце, одинаково светящее всем, ведь «если ему приятно солнце, то и другим оно должно быть приятно», приятно и то, что это самое солнце освещает такую веселую и такую человечную жизнь (во всех значениях приведенного эпитета), ведь за каждым лицом кроется такая же большая и неизвестная как у него судьба: «все эти люди на улице, снующие мимо, ожидающие на трамвайных остановках — какое собрание тайн, поразительных профессий, невероятных воспоминаний» (Т.1 С.241). Искать в лицах прохожих не только признаки их жизни, но и признаки жизни чужой, представлять себя гуляющим по тюремному двору, в ожидании казни «похлопать солидного палача по животу, приветливо помахать на прощание всем собравшимся, поглазеть на побелевшие лица магистратуры», почти сокровенно произнести такое знаменательное, такое замечательное и такое живое «хорошо» и, наконец, не упустить не только удовольствий существования, обильно переливающихся за край и так большой чаши (в глазах Драйера, естественно), но и удовольствия «с любопытством отнестись к тому, что само по себе — скучно» — это и составляет Курта Драйера. И среди «коллекции дурацких физиономий и дурных вещей» (Т.1 С.242), которые, по сути, являются не только экспонатами кунсткамеры, а и жизни вокруг, господин Драйер самым что ни есть удобным и живым образом устроился в мире, не только собственным его воображением созданным, но и просто вещей.
И если признаки живости дошли до Франца только отдаленным воплем странных снов, то в Драйере «жизнь так и пылала» (Т.1 С.239). Как и поначалу, так и в конце мертвенность Марты не смогла побороть такую жизненность мужа.
Снова законы карточной игры направляют волю, да и создают ее, управляют событиями, строят канву жизни.
С пришедшим осознанием такой желанной мертвенности Драйера и волею случая, эту возможную мертвенность показавшего, Марта и ее подопечный пришли к плану наконец физического умерщвления того живого, которое мешает им быть по-настоящему живыми. Снова волею логики и волею случая подобраны ими были цели и средства. Снова случаем и разумом канва сплеталась. В конце концов такая незначительная и маленькая черточка такой большой и сильной Марты, как алчность, сгубила ее. А еще помог случай. Такой живой и такой симпатичный Драйер давно измерял бы просторы водного и потустороннего мира, если бы не судьба, благосклонно окольцевавшая его и пославшая не только американца с отвратительным портсигаром в виде золотой раковины, не только черту характера его жены, нами выше названную, но и такую же отвратительную, но ярким факелом дарящую жизнь ему, и смерть жене, болезнь.
Примечательно то, что смерть Марты подарила жизнь и Францу: «Приложив ладонь ко рту, чтобы как-нибудь удержать смех, душивший его, разрывающий ноздри, распирающий живот, он мимоходом приказал лакею принести в его номер ужин. Продолжая скрывать дрожащее лицо, поправляя танцующие очки, он поднялся к себе… и мельком подумал, что, пожалуй, можно было ее ущипнуть сейчас, не откладывая до завтра» (Т.1 С.279). Валет не только стал Францем, но и сам Франц заметно увеличился в размерах, он сразу заполнился, заполнив и мир вокруг собой, своей вновь обретенной радостью, живой, ожившей радостью: «Барышне в соседнем номере показалось спросонья, что рядом, за стеной, смеются и говорят все сразу несколько подвыпивших людей» (Т.1 С.280).
Жизнь идет своим чередом. Направляя человека. У последнего есть воля, разум. В конечном счете, ход жизни происходит благодаря сплетению законов жизни и свойств человека. Так совершается судьба, так происходит случай. Все они наполняют жизнь и людей. Но что бы ни было, воля к жизни, заложенная в людях, несмотря ни на какую символику, побеждает, и даже не важно, что именно — смерть, обыденность, закостенелость, пошлость, рутину.
Потому-то ожил хоть и внешне, но омертвелый Франц, который был Францем только в глазах Марты, в своих глазах он был лишь тем, что от ее глаз исходило, преломлялось, как точно было отмечено. Валет, в силу своей значимости в данной партии позволил себя побить, но не убить. Судьба снова позволила себе вмешаться.
Драйер же, в полном смысле и есть Король. Все виды силы есть у него, но все они сходятся именно к силе жизни, дающей и позволяющей брать все, что она дает. Драйер это видит. Драйер этим пользуется. Потому на его стороне не только его внутренняя, человечная сущность со всеми полагающимися атрибутами последней, но и сущность, как громко ни сказано, самой жизни, в сравнении с которой холод, мертвенный холод его псевдоблаговерной веет незначительным для него ветерком, легко убиваемым лучами жизни, за которой стоит Драйер, за которой светит вечное солнце. Надо просто подставить, предоставить ему себя.
Примечательно и то, что все ходы и нити ужасающего мысленного узора, так долго сплетаемого Мартой, так и не были замечены Драйером. Это бы причинило ему неимоверную боль, возможно, круто бы поменяло его. Но снова жизнь, случай, судьба на его стороне, Драйера, ставящего людей «на полку» и думающего, «что он будет сидеть там вечно» (Т.1 С. 222), но именно не позволяла ему видеть то, как эти самые люди с полочки сваливаются. Драйер «и в ус себе не дует» (Там же), и в этом его спасение. Жизнь дарит ощущение жизни. Жизнь оберегает от ощущений жизни с приставками «не». Марта была его женой. Любимой. Пусть и холодной. Марта дарила ему радость. Нечасто, но оттого эта радость была еще краше. Такой она для Драйера и осталась. Ее нежизнь вначале хоть и огорчила Драйера, (применительно к его ощущениям употреблять слово «смерть» кажется чуть ли не стилистической ошибкой) но, приходит уверенность, впоследствии станет просто очередным этапом, открывающим чуть яснее просторы не только мира, но и его самого.
Мир для Драйера открыт. Люди для Драйера интересны. И жизнь просто не может быть плохой только потому, что она есть. И надо, забыв о законе притяжения, да и прочих других законах, сковывающих человека, просто «скользить» (Т.1 С.222) по миру. И знать, что дальше всегда больше, всегда.
И вот она игра. Не просто людская. Шекспир не предвидел, что мы, люди, пойдем дальше. Теперь наша жизнь слагается по законам и карточной игры, все равно какой, важны именно ее законы — законы свыше людей и законы в людях. Они образуют действия людей, и, соответственно, их жизни.
Водимые свыше, движимые внутренними побуждениями, решениями и мыслями, люди век от века будут шагать по планете. Кто-то мирно, кто-то нет, кто-то с радостью, кто-то с холодом… Но шагать мы будем. А кто-то гениальный будет нас показывать. Отрадно, если бы он сумел сделать это так же, как и Набоков.
Глава 2. Символика шахматной игры в романе «Защита Лужина»
64 клетки. Притом черно-белые. И в них расположились разные по величине своего значения люди. Фигуры. Люди-фигуры. И все должно быть соответственно количеству извилин нашего великого мозга и, с другой стороны, дальнозоркого наблюдения игры-жизни, представленной в романе «Защита Лужина» в виде шахматной партии. Это и игра самого героя романа. Это и игра жизни его. Это игра, наконец, вне него. Самое мучительное — наличие доминанты игры последней. И в этом-то и странная и парадоксальная особенность партии, представленной Набоковым, где ход, казалось бы, такой значимый от именно ума человеческого ход, в принципе, предрешается как раз и вне ума его. Тот, кто это осознает — может быть и гением, и безумцем. Но вот так просто жить — не сможет уже никогда.
В мире, где все расчерчено и как бы предопределено, у нашего героя нет имени. Он просто «с понедельника станет Лужиным» и Лужиным будет жить. Ничего кроме, довольно и Лужина. Само имя — символ безымянности, когда даже, казалось, самые близкие и родные ему люди будут обращаться к нему именно так — Лужин. И неискушенный жизнью ребенок эту боль, боль инициализации, но однобокой, чувствительно осознает. Это и плач, это и угрюмость, ставшая позже привычным атрибутом просто Лужина и Лужина — гения. Обряд становления ребенка, его превращения в Лужина примечателен и тем, что этим он, безымянный, вступает в такую же безымянную партию других, подобных ему людей. Безымянным, в вихре повторения всего, кажется и его детство, хотя к нему герой и будет искать путь как физически, так и духовно, дабы не только осознать повторяемость всего сущего, но так же, как и в детстве, спастись на чердаке от людей, от жизненных перемен, от жизни, в конце концов.
Примечателен также и тот факт, что после становления Лужина и сразу вступления на новую стезю, отец предлагает сыну «пустить марионеток» (Т.2 С.7) в автомате. Эти самые марионетки олицетворяют собой людей, которые займут место в жизни Лужина, которая ими обставлена, да и сам Лужин тоже со временем придет к осознанию того, что марионетка — и он сам, искусно находящийся в чьих-то властных и твердых руках. Это очень яркий образ несвободы, сквозь которую сперва слепыми, а потом и страшными глазами смотрит на Лужина его же судьба, игра с которой составляет целостный замысел его жизни. Марионетки выпущены, сломанный аппарат в жизненном обличии явно заработал, ребенок хоть и нашел спасительную тропинку домой, но спастись от жизни, или хотя бы идти по ней «тихими ходами» (Т.2 С.256) Лужину так и не удалось.
Причем интересно, что на первый взгляд парадоксальным с точки зрения последующих комбинаций Лужина и его жизни, кажется стремление ребенка-Лужина к простоте, «гармонической простоте, поражающей пуще сложной магии» (Т.2 С.217), но позже это стремление героя будет своеобразным выходом из не только черно-белого, заранее практически предрешенного пространства реальности, да и бытия, но и выходом из себя самого, ставшего полноправным гражданином мира-игры.
Отец Лужина, представляет мир, а в особенности людей, и в еще более сильной особенности сына своего, героем дела всей его жизни — повести «Угар». В романтических мечтах сентиментального отца вырастает образ «вундеркинда в белой рубашонке» (Т.2 С.11). Этот образ вундеркинда, отсылающий нас прямо к великому Моцарту, иронически обыгрывается Набоковым. Образ будущего гения разрастается в добрых, уже стареющих глазах отца Лужина, имеющего почти сравнимый с талантом великого музыканта талант, но пошедшего в сторону обратной наклонной и в жизни, и в браке, и в деятельности, дельности. И если поначалу вундеркинд в белой рубашонке — явление, применительно к герою нашего романа, довольно-таки яркое, то позже этот вундеркинд представляется только в виде гравюры, подле жены уже мертвого, убитого гения, в ожидании совместного именно сожительства, не брака. Вся живость Моцарта убивается гениальной мертвенностью Лужина, жизнью и реальностью. Это уже наш мир. Это уже наши реалии.
Обыгрывается Набоковым, по отношению к интерпретации жизни Лужина как жизни Моцарта и образ его антрепренера, образ его жены, образ его последнего детища, да и жизни в целом.
Сперва антрепренером Лужина был некто Валентинов. Странный, непонятный, вечно крутящийся субъект, который вобрал в себя, казалось, весь фарс, а с другой стороны, всю действенность мира вокруг. Он даже этот мир в коей-то мере и символизирует — такой же загадочный и обновляющийся на первый взгляд, и такой вычурный и пустой при более зорком преломлении в наших глазах. Как бы весь Валентинов исчерпывается плоскеньким сюжетом своего фильма, где все люди-муляжи заняли свое место, и где место было любезно предоставлено Лужину. В «Приглашении на казнь» образ куклы становится показательным для мира-игры, но находящегося вне главного героя, причем Цинциннат не только видит этот мир, но и старается с ним бороться, но уже в данном романе именно эти марионетки и составляют большую часть квадратов доски не только реальности, в которой призрачно обитает Лужин, но и его самого.
Если знаменательное присуждение человеку атрибута, символа причастности к миру, — фамилии — это этап начальный, то полное вовлечение Лужина в действительность осуществляется под покровительством Валентинова. Последний «Лужиным занимался только поскольку это был феномен, — явление странное, несколько уродливое, но обаятельное, как кривые ноги таксы» (Т.2 С.52). Но на то, что эти самые «кривые ноги таксы» представляют собой не только именно одаренного человека, но и человека вообще, никто не обращал внимания, «казалось не только Валентинов, но и сама жизнь проглядела» (Там же) Лужина.
Как только ребенок стал Лужиным, от его образовавшейся, а точнее сформировавшейся сущности отвернулась мать: «уже давно у нее началось странное отчуждение от сына, как будто он уплыл куда-то, и любила она не этого взрослого мальчика, шахматного вундеркинда, о котором уже писали газеты, а того маленького, теплого, невыносимого ребенка, который чуть что, кидался плашмя на пол и кричал, стуча ногами» (Т.2 С.40). Чуткое материнское сердце словно не хотело отдать свое создание новой жизни, и навсегда сохранило в памяти именно образ ребенка, пока еще только-только ставшего тем, что будет Лужиным, пока живого и живущего, чувствующего и восхищающегося: он «чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину» (Т.2 С.18), чертя, разъединяя линии пока еще не своей жизни, а жизни просто грифеля на бумаге он «чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума зеленые линии» (Там же).
Эстафету великолепной и великой заботы о великом Лужине взяла теперь некто, кто впоследствии станет женой гения. Слащавая тяга к деятельности и даже сила, выработанная ею, оправдание в полной мере высказывания, по которому жалость в женщине сильнее любви, — вот Она вся, также как и патриархальные тургеневские девушки, всю себя отдала неуклюжему, потерянному и, живя, умирающему Лужину, у которого есть, благодаря его гениальности, не только его фамилия, но и Она сама. У последней же, в силу ее полной и самоотверженной до неприличия отдачи, исчезает, а вернее даже и не появляется не только имя, но и какая-то хоть одна существенная мысль, выходящая за пределы постепенно увеличивающегося в обоих смыслах Лужина. Но ей он казался неким таинственным человеком, чуть ли не чародеем, одиноким и угрюмым, нуждающимся в ее поддержке, заботе. Романтические мечты привели переросшую явно романтический возраст девушку в аллею тучной и таинственной личности Лужина, в аллею гениальных людей, образ которых «знаешь так же определенно и так же смутно, как образ римского императора, инквизитора, скупца из комедии» (Т.2 С.49).
И снова материнское сердце, сердце ее матери чувствует гибельность Лужина, заразную гибельность, ради которой отдает себя единственная дочь ее, отдает себя не любя. Набоков снова явно высмеивает этот самоотверженный, обезличивающий героизм своей героини, теряющей себя во имя, неполноценное имя, полноценного гения. Но образ последней имеет функцию не только оберегающую, но и попечительную. Невеста, а впоследствии жена Лужина — тоже воплощение всего того, что вокруг, всего того, от чего надо придумывать вечную, выигрышную и спасающую защиту. Но об этом немного позже.
Итак, герой наш, в весенний день, в сезон всяческого обновления, встретил на своем пока еще малопонятном и выжидательном пути главную страсть свою, впоследствии оправдавшую его существование. И вот тогда уже началась именно защита Лужина. Защита во имя своей страсти сначала против отца, который вобрал в себя все мешающее и противодействующее наслаждаться его любви. Отец мечтал видеть сына шагающим по другой дороге. Сын вошел в клетку. Сына заполонила страсть и навсегда выбила его из той колеи, в которую вступали романтические, сентиментальные герои писателя. И Лужин победил. Победил в партии — победил и отца. «Он священнодействует» (Т.2 С.35) — вот вердикт противника, уже с трепетом относящегося к дарованию сына своего. Уже с неким восторгом, развивающим дар этот.
Сам ребенок также к страсти своей относился с трепетным волнением, храня ее как некую тайну, обнаженную и в то же время скрытую, сверкающую на черно-белом фоне миллионами красок, чувств и впечатлений. Лужин чувствовал жизнь, она жила и в нем, и за его пределами, но словно «шелестом проходила мимо» (Т.2 С.28), но она существовала, а тем пуще — шелестела, и шелестом своим не только напоминала о своем присутствии, но и контрастировала с «заветным квадратом» (Там же) его страсти.
К «поспешному шелесту относились» и «красные грибы по елками» (Т.2 С.30) и отец, и мать… Нет грибов, нет елок, когда ребенок «не просто забавляется шахматами, он священнодействует».
И незаметно вся жизнь героя превратилась в огромную шахматную партию. Партию с непостоянным соперником, меняющимся по ходу жизни героя и героя самого.
Поначалу — это просто страсть, страсть одолеть неважно кого, а самое главное — одолеть как бы старого себя и окончательно вступить на новую стезю. Потому-то и такое священнодействие. Ведь это лучше, чем сидеть на поленьях и наблюдать, как жизнь, хоть и глупо, но с играми и с криком проносится мимо.
Лужин любил тихие ходы. Они были настолько тихи, никогда четкая победа, победа в нападении не сверкала над 64 клетками, и над склоненной над ними головой гения. Они были настолько тихи, что «между вечерами на веранде», связанными с детством героя и «тем днем, когда появилась фотография Лужина, как будто ничего не было, ни дачной осени, моросящей на астры, ни переезда в город, ни возвращения в школу» (Т.2 С. 36). Тихими ходами Лужин пришел и к осознанию того, что «города, ровные ряды желтых фонарей, проходивших мимо, вдруг выступавших вперед и окружавших каменного коня на площади, — были той же непривычной и ненужной оболочкой, как деревянные фигуры и черно-белая доска, и он эту внешнюю жизнь принимал, как нечто неизбежное, но совершенно незанимательное» (Т.2 С.52). И постепенно жаркая страсть Лужина превратилась в просто привычку, проявление желания глупой игры вслепую. Ладно бы с судьбой, нет, с простым противником в совсем человеческом обличии. Тихими ходами он встретился и с будущей женой своей, и с партией, приведшей к окончательному осознанию бессмысленности всего происходящего и его самого. Тихими ходами Лужин приходил всегда к победе через защиту. Почти всегда.
Как самая точная, выверенная рассудком партия, текла медленно и томно жизнь Лужина. Все в свое время. Каждый ход — как точный ход самой точной партии. Недаром Лужин дарит фигурку короля невесте своей. Осознание того, что вот он и есть король, двигающийся четко лишь в пределах одной клетки. Он не только дарит ей скрытое признание в своей тихой защите и тихой несвободе, он дарит ей себя. И она, благодарная, но властвующая, жалеющая, но берущая, просто вобрала в себя, в жизнь свою не только жизнь Лужина, но и его самого.
И если поначалу защита Лужина — это только его пресловутые «тихие ходы» в выработке защиты против дебюта Турати, который не только своей игрой, но и, что очень важно, своим существованием переродил, возродил Лужина, это не только защита его жизни — кажется такой продуманной и выверенной, не только защита даже от «шахматных бездн, в которые погружался» (Т.2 С. 80), теперь это уже защита во имя этих самих шахматных бездн, в которые он не только погрузился, он на них водрузился, в которых он властвует, которыми он дышит, в которых он живет. Эта защита — оберегание себя, ведь Лужин живым был только в этом пресловутом черно-белом пространстве. Там он истинный, пусть и несвободный, требующий постоянной защиты, но король. Пусть у него всего лишь пространство одной клетки, но это пространство было для него самой прекрасной свободой. Он был как раз свободен в своей невольности.
А в жизни ему не остается ничего более, как фигурке короля, символизирующей его же, преподнести себя кому-либо и снова прочить защиты. Защиты в жизни от жизни, но от его жизни, в которой он просто деревянная фигура, в которой он просто тучный, обрюзгший человек. Но сколько бы жизнь Лужина не постигала, след его былых волнений и страстей не может затушиться ею. И он снова тихими шагами к ней возвращается.
К Лужину пришло страшное осознание существования самой главной и сильной партии — партии его жизни с некой силой, которая только шепотом и криком говорит о своем существовании. К этой силе принадлежит и отец его, и Валентинов, его жена, и, наконец, сама жизнь. Это сила рока, судьбы, но представленная уже открыто и со всею своей разрушающей и объясняющей силой, не только показывающая, но и доказывающая себя, свою победу низвержением противника в собственные же просторы — просторы бездны.
И снова несвобода Лужина, правление его в пространстве клеток, таких свободных клеток, несло ему спасение, несло ему истинную жизнь, «ибо что есть в мире кроме шахмат? Туман, неизвестность, небытие» (Т.2 С.80), везде и всюду его окружают «шумные призраки» (Т.2 С. 81). Жизнь же вокруг, вне его просто временно его спасает, и Лужин «давал себя укачивать, баловать, щекотать, принимал с зажмуренной душой ласковую жизнь, обволакивающую со всех сторон. Будущее смутно представлялось ему, как молчаливое объятие, длящееся без конца, в счастливой полутьме, где проходят, попадают в луч и скрываются опять, смеясь и покачиваясь, разнообразные игрушки мира сего» (Т.2 С.103). И с этим туманом Лужину надо бороться.
Лужин заметил жизнь. Лужин заметил, может, бытие и спасающее, но самого Лужина разрушающее повторение: «смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время, ход за ходом, образы его детства (и усадьба, и город, и петербургская тетя), но еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для души ужасно» (Т.2 С.125). Лужин увидел, что в этом повторении и заложена сама жизнь. И сколько бы он ни хотел «остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть», он все время, то неотступное и вечность дарящее время, будет осознавать, то что он «продолжает существовать, что-то подготовляется, ползет», и, несмотря ни на что, «он не властен что-то сделать» (Т.2 С.126). Лужин даже просто заметил жизнь, он от нее проснулся и всю ее увидел. Теперь для него «ключ найден. Цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит к той же страсти, разрушающей жизненный сон». И Лужину хорошо известно, что будет после пробуждения — «Опустошение, ужас, безумие» (Т.2 С.146).
В шахматах Лужин нашел спасение, ограду от той жизни, которая неумолимо, но также и неинтересно даже для ребенка идет вокруг. В шахматах ребенок стал гением. Гений — королем. Шахматы подарили Лужину ощущение именно его реальности, за пределами которых все кажется смутным и туманным. За пределами которых никому не нужные мысли расположились в, по сути, никому не нужном и неинтересном человеке, ведь все познают Лужина только для их собственных целей: Валентинов — для обогащения и жажды вечной интриги, невеста Лужина — дабы удовлетворить свою попечительскую и жалостливую страсть, страсть деятельности, которая поможет чувствовать себя не только нужной, но и просто чувствовать себя живой.
За пределами шахмат Лужин тоже просто пешка, с внешним видом короля. За пределами черно-белой доски Лужина настигает жизнь, настигает время, настигает бездна. И от бездны Лужин слабо ищет спасения тоже в шахматах, но он уже понимает, что тут он бессилен. Лужин превращается уже просто в соглядатая.
Теперь отчетливо видна сущность защиты Лужина — это не столько выработка защитных ходов противников, это именно отсутствие нападения.
Нет нападения против бездны. Нет от нее и защиты. Лужину уже не уснуть, он понял и увидел судьбу, понял и увидел свою жизнь, протекающую на шахматном поле с заранее обреченной ролью пешки, с заранее обреченным поражением. Во сне Лужин — король. В вечности — пешка. И королю этого не выдержать. Король просто «выпадает из игры» (Т.2 С. 149).
Только тогда появляется имя у героя. Только тогда осознается, что «никакого Александра Ивановича не было» (Т.2 С.152). Просто-напросто никогда не было. Был Лужин. Был несвободный, шахматный гений, который в самой главной партии своей так и не победил.
Человеку это недоступно. Может быть пока.
Глава 3. Символика театра в романе «Приглашение на казнь»
Виктор Ерофеев, во вступительной статье к четырехтомному изданию произведений Набокова не без иронии воспроизводит изречение Владимира Владимировича: «Спираль — одухотворение круга». Как-то в уме не укладывается, что данное высказывание можно отнести просто к высокопарной ворожбе Сирина. Тут что-то большее.
Гномы и эльфы Набокова работают отлажено. Выверено все — даже название. Стремясь воссоздать действительность, стремясь показать нереальность, Набоков создает сложный язык, дабы усилить впечатление от композиции. Обыденность и фантастика не просто дружно соседствуют друг с другом, но именно смешиваются, сливаются. И самым что ни на есть житейским, обыденным языком, тоном передаются вещи, мягко говоря, не совсем обычные: «В коридоре на стене дремала тень Родиона, сгорбившись на теневом табурете… Далее, у загиба стены, другой стражник, сняв свою форменную маску, утирал рукавом лицо».
С помощью двух трех слов создается действительность, сводящаяся к яркой картинке «синяя, сложная, многобашенная громада крепости поднималась в тусклое небо, где абрикосовую луну перечеркнула туча. Темнота над мостом моргала и морщилась от летучих мышей». И это детище его мастерской позволяет создать самый главный символ всего творчества Набокова — символ реальности, вобравший в себя как раз идею нереальности, призрачности, кукольности мира.
В автобиографической прозе «Другие берега» Набоков пишет о двух безднах, о двух вечностях — «передней» и «обратной», и о человеке, уютно устроившемся между ними. Воображение помогает нам очнуться от вечного сна жизни — но наслаждаться им могут только «бессонные дети или какая-нибудь гениальна развалина». В одном предложении Набоков раскрывает все, связанное с пониманием реальности — это «мираж, принимаемый за ландшафт», а жизнь — это сон. И все эти определения нашли место в мире и жизни героев «Приглашения».
Вернувшись к начальной фразе Набокова, приведенной нами вначале главы, можно понять то, что спираль потому и есть одухотворение круга, что представляет собой не застой, в любой его форме, не апатию, а именно движение, бесконечной движение, дорогу к той самой обратной вечности, имеющей форму круга, но совсем иного. Жизнь и данная ею нам реальность — это как бы остановка. Страшно и то, что остановка не в середине. Цинциннат потому и мучительно переживает отсутствие центра, который представлял бы собой символ хоть и сомнительной, но все же гармонии здешнего мира — «В центре квадратной площади, — нет, именно не в самом центре, именно это и было отвратительно».
Основной центр романа, стержень — это мотив игры. То есть реальность представлена в виде ассоциации с бесконечным театральным представлением. Мир крутится по законам игровой символики. Но, одновременно, сама театральность говорит о том, что герою данного романа, в отличие от двух других нами изученных, мир преподнесет, хоть и ограниченную обстоятельствами, но свободу.
Сам по себе мир — огромная декорация, люди — куклы. Природа — муляж. На дворе разыгрывается «просто, но со вкусом поставленная гроза» (Т. 4. С. 73), у директора тюрьмы — восковой пробор и тряпица на парике, слезы матери — вода, сам мир «наскоро сколоченный и покрашенный» (Т.4. С. 28), полосатый, как и яркое его олицетворение — Мсье Пьер. Примечательно варьирование первых букв имени Родриг — Родион — Роман. И сами герои расплывчато преобразуются друг в друга. То есть по сути эти начальные «РО» и составляют целостный персонаж.
Персонажи игрыабсолютно прозрачны. Это символично — по сути, за ними просто ничего нет! Именно пустота, даже не страшная, а просто пустота. Прозрачность также символизирует гениальность их актерского мастерства — абсолютная покорность неведомому режиссеру, которого снова нет. Утрачено то самое волшебное зеркало, о котором Цинциннату говорит его мать, и в котором уродливые «нетки» превращались бы в нечто, пусть и не прекрасное, но имеющее форму. Это самое зеркало и мир созданных им вещей — символ именно настоящего мира — как раз не того идеального, а нашего, здешнего. А без него реальность представлена в виде этих самых ужасающих, бесформенных и бессмысленных неток, в самом корне которых заложено отрицание. Их просто нет — и в этом их уродство. Люди же, обложившись ими, создали ужасный мир ужасных пустых вещей. И сами стали пустыми, и сами стали прозрачны. Они даже не актеры жизни-игры. Они — декорация. Сцена для них не несет свободу мысли, чувств, свободу игры. Потому этот мир и полосатый. Потому полосатые его люди. Нет никакого варьирования, выходящего из строгой, определенной системы. Черным по белому устроен этот мир. Белым по черному — его люди.
Мир этот утратил связи с миром иным, идеальным миром. Тема утраченного рая является сквозной в творчестве Набокова. «Не умея пробиться в свою вечность, — пишет писатель в „Других берегах“ — я обратился к изучению ее пограничной области — моего младенчества». Прошедшее счастливое детство символизирует как раз утраченный рай и именно земной, не метафизический. Но уже в мире, где живет Цинциннат, земной рай отсутствует — у героя счастливого детства не было: «Еще ребенком, еще живя в канареечно-желтом, большом, холодном доме, где меня и сотни других детей готовили к благополучному небытию взрослых истуканов … еще тогда, в проклятые те дни…» (курсив мой, А.М.). А канареечный дом — это клетка, красивая желтая, но клетка.
Цинциннат выпадает из окна детства в жизнь. Окно символизирует созерцание, а вхождение в мир «взрослых истуканов» — конец просто созерцания и начало действия, мнимого действия в «мнимом мире мнимых вещей». Мир от Цинцинната, вернее Цинциннат от мира был отгорожен стеклом того самого окна. Это была хоть и ненадежная, но защита. То есть реальность пока как бы преломлялась через сущность этого стекла, делая Цинцинната просто созерцателем. Но вот «в печали, в рассеянии, бесчувственно и невинно» Цинциннат покидает старый мир и падает в новый. И возникает лишь чувство, «полуощущение босоты» (Т.4. С.55), и только «необыкновенная, оглушительная тишина» приветствует героя. У Цинцинната не было рая, который он потерял, потому-то и его утрату он не переживает. Полосатый, круглый мир встретил Цинцинната равнодушно. Это было взаимно.
Самое главное его достоинство — это его воображение. Сценировка сама по себе представляет богатство образов, поступков, ролей. Но Цинциннат как раз роли своей и не следует. Да, сцена большая, но и сам Цинциннат большой. Ему просто-напросто не хватает места. И в общем место само по себе не его: «ошибкой попал я сюда — не именно в темницу, — а вообще в этот страшный, полосатый мир: порядочный образец кустарного искусства, но в сущности — беда, ужас, безумие, ошибка…» (Т.4. С.51). Мир — ошибка, но явление Цинцинаата в это мир — ошибка куда большая. Потому Цинциннат постоянно переступает через «кулису воздуха» (Т.4. С.69) именно в тот самый идеальный мир, связь с которым герой постоянно и мучительно осознает. А в реальности герой живет мгновением, когда тень отстает от человека, когда «сердце, как пух», когда среди всеобщей прозрачности он мыслит, он чувствует. Но Цинциннат в свою роль вносит нечто большее. И это помогает ему передвинуть несдвигаемый, «от века привинченный» стол, дабы видеть в «намалеванном в нескольких планах, выдержанном в мутно-зеленых тонах и освещенном скрытыми лампочками» ландшафте окна окно настоящее, в котором можно созерцать хоть и «только», но «жаркое небо в тонко зачесанных середина, оставшихся от облаков, не вынесших синевы» (Т.4 С.15), в котором можно видеть любимое место, в котором отражается любимое время в этом страшном мире: вид на Тамарины сады которые вот, казалось бы, и есть это самое «там»: «Там, где, бывало, когда все становилось невтерпеж и можно было одному, с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами… Зеленое, муравчатое (не переливчатое, но все-таки — А.М.) Там, тамошние холмы, томление прудов», и даже двойное «тамтам тамошнего оркестра»; это помогает ему закружиться в туре вальса с одним из своих тюремщиков, «каковыми в сущности были все», не только персонаж «РО».
Воображение — вот символ свободы Цинцинната, символ его жизни, его непрозрачности. Свобода помогает герою уйти от реальности круга в дни, когда трение отсутствовало, что убирало силу сопротивления свободе, когда «самые простые предметы сверкали молодостью», когда «все было глянцевито, переливчато, все тяготело к некому совершенству, которое определялось одним отсутствием трения». Трение отсутствует — а значит и отсутствует сила сопротивления свободе. Наконец, тогда «упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности…, очутившись как бы в другом измерении…"(курсив мой — А.М.)…(Т.4. С.28) Цинциннат не договаривает, договорим мы — и оказалась свободной!
Как прекрасен язык Цинцинната в то время, когда он говорит о прекрасном, и каким косноязычным он становится в круглой башне времени: «Эпохе…придаю… Это богатство… Потоки… Плавные переходы… И мир был вовсе… Точно так же как наши» (Т.4. С.52). Цинциннат не может сотворить цельное из своей речи, когда бывает окружен этим миром: «Любезность. Вы. Очень «(Т.4. С.7). И лишь «какой-то добавочный Цинциннат» складывает слова воедино. Образ этого самого другого Цинцинната своеобразен. В данном случае он как бы представляет собой Цинцинната, умеющего говорить, складывать, мыслить в реальности. Но иногда «другой Цинциннат, поменьше, плакал, свернувшись калачиком». То есть эти два Цинцинната составляют целостную его сущность, собирают его воедино. И именно даром считает Цинциннат сочетание всего в «одной точке». И как ему достаточна эта самая точка, «неделимая, твердая, сияющая», осознание того, что «я есмь» (Т.4. С.50) и никто этого не может отнять. Эта самая точка, «другой» Цинциннат — душа ли это, может что-то другое, обрастая телом, и начинает проявлять свою двойственную сущность. Потому-то герой и выполняет «преступное упражнение» (Т.4. С.51) — постепенно снимает с себя все земное и как раз доходит до этой самой точки, которая помогает наконец увидеть, войти, окунуться в «тайную среду», наконец почувствовать радость и … свободу.
В этой двойственности Цинцинната, символизирующей дуализм духа и материи, выражена многогранность истинной сущности истинного, живого человека, «ошибкой попавшего» в этот мир и живущего среди «плотных на ощупь привидений «(Т.4. С.39). Тот самый «другой» Цинциннат потому-то и складывает слова воедино, потому-то и не страдает косноязычием, потому-то и умеет страдать и плакать, что сам из другой реальности, он-то и есть та самая пуповина, которая соединяет целостного Цинцинната с миром иным, миром идеальным.
На микрокосмическом уровне тюрьма, в которой очутился Цинциннат — это собственно его тело, в котором томится та самая точка-душа, символ причастности героя, да и человека ко всему истинному, прекрасному, свободному и настоящему. «Само строение его грудной клетки казалось успехом мимикрии, ибо оно выражало решетчатую сущность его среды, его темницы» (Т.4 С.36). Несуществующий автор писал в какой-то несуществующей книге, которая была лишь достоянием головы Набокова, что «как сумасшедший мнит себя Богом, так и мы считаем себя смертными» (Т.4 С.5). А философию уже существующего Лаланда, который считал, что «глубинный закон действительности — стремление к смерти», наш автор явно позаимствовал, прибавив к фамилии приставку «de», что как бы переворачивает ход движения «глубинного закона» от «к смерти» к «из смерти» (судя по все той же приставке «de»), с добавлением слова «выход».
Страх смерти явно должен присутствовать при характеристике Цинцинната, и это нормально, ведь он все тот же человек, обросший не только плотью, но и жизнью, заботами, проблемами, а еще любовью. А еще сладкой пеленой мирного сна: «Холодно будет вылезать из теплого тела. Не хочется, погодите, дайте еще подремать» (Т.4 С81). И этот самый страх смерти, боязнь наконец полностью проснуться от долгого сна жизни — тоже символизирует тюрьма. То есть, материализация этого страха. Но постепенно к Цинциннату, вернее, к одной сущности его, приходит осознание (в то время, как другая бьется головой об стену), что смерти нет, по крайней мере Цинциннат вычеркивает слово «смерть», что также символично — это как бы преодоление не только страха метафизической смерти, но и смерти как таковой, смерти, как знака, который имеет буквенную оболочку.
В «Даре» тот же самый Делаланд писал, что жизнь человека подобна дому, вернее сидению в доме. А наиболее доступное постижение «окрестности» — то, что лежит после, за жизнью, является «освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря, сверхчувствительное прозрение мира при нашем участии». Причем интересно то, что в доме-жизни нет окна, есть лишь зеркало. То есть, постичь, подсмотреть действительность «за» никак не возможно. Все потустороннее — лишь отражение реального, но это самое отражение потому и является потусторонним, что является отражением. Очень в стиле Набокова. Итак, один из домов Цинцинната — его собственное тело. Но мы живем не на холме, вдали, а, видимо, в городе, неважно какого размера. Потому у нас много убежищ.
На макрокосмическом уровне тюрьма — это символ всей жизни вообще, земной жизни. А еще точнее — человеческими руками сделанной. Жизнь каждого героя гармонично сливается с прозрачной жизнью другого, при этом образуется очень мирная картина весьма состоявшейся утопии. И тут появляется Цинциннат — то ли родственник фараона, то ли фонетический двойник известного насекомого — мухи Цеце, и, соответственно, только своим физическим видом может разрушить все, потому и выбрали ему, негодяю, соответственное наказание, причем объявили приговор шепотом — вот каков культ смерти! И вот этот самый дом опять-таки материализовался, а вернее сжался в образе-символе тюрьмы, которая весьма добросовестно вобрала в себя все характеристики окружающей Цинцинната (боюсь, нас тоже) реальности — как в людском в плане, так и в хронотопе: снова те же «плотные на ощупь привидения» (хотя охранники тюрьмы пошли еще дальше — носят собачьи маски, для страха, видимо), то же пространство, которое, подобно людям, постоянно взаимопроникает в себя (все коридоры тюрьмы ведут снова в камеру) и то же время, которое просто рисуется часовым, профессия которого ну идеально точно названа.
Точнее было бы сказать, что эти самые взаимопроникающие персонажи РО полностью и очень качественно вобрал в себя Мсье Пьер, который играет ну очень солидную роль — он не только своим образом и подобием символизирует окружающих людей, он вобрал в себя, по сути, все качества мира, в котором так уютно устроился, который весьма недурно им управляется. Такой же кругленький, полосатый, почти съедобный палач-весельчак, который искренне желает подружиться с подсудимым, так печется о шее его, старается получить от жизни все удовольствия, и получает их — будь то гастрономические, или любовные, или физкультурные. Самое удобное и правильное положение человека в мире, по Мсье Пьеру — это просто смотреть на отражение в зеркалах. То есть, что за ними, что они сами собой представляют, что они, в конце концов, отражают — это абсолютно неважно, и даже вредно для нормального человека. Долой воображение, ведь это удел беспокойных детей, в доме очень уютно. И вот потому-то Цинцинната, осмелившегося заглянуть, а вернее просто попробовать заглянуть, а еще вернее — просто почувствовавшего, что есть куда глядеть, и обвинили в гносеологической, да еще и гнусности. И почитают не только преступником, но и бунтарем.
Самое ужасное то, что носителем этого громкоговорящего слова бунтарь является ну абсолютно ничем не примечательный человек, погрязший в семейных проблемах, быте, работе, изменах жены, и собственном страхе и никчемности. Проявлять, а точнее доказывать свою истинную непрозрачность Цинциннат начинает только в тюрьме — в данном случае в прямом смысле изоляторе не только физически, но и духовно. А в сонном городе его «атрибут» — только физическая черта, даже дефект, помеха спокойному герою. Только какими-то осколочными мыслями и конструкцией «я кое-что знаю» (Т.4. С.51) выражается своеобразность героя. Хотя это не Мсье Пьер, не Марфинька, и, есть подозрения, в отличие от других людишек города — у Цинцинната есть моральные устои, качества. Но он слаб, безумно слаб — на измены жены он отвечает все усиливающейся любовью и воплями в уборной (даже не воплями, а имитацией их звуками воды), оброс не только скверной и постоянно ворчащей семьей, но и непонятно какой работой, непонятными и никчемными сперва даже для него самого чувствами, дарованиями. И если даже такой «маленький» (соответственно его реальности) Цинциннат не может найти себе место в мире, то что бы делал истинный художник, творец??? До этого места в реальности не могли дойти Печорины, Базаровы, Онегины — а они, в отличие от убеждений авторов, не были «героями времени» — это были личности, поистине своеобразные, сильные. Теперь же даже совсем немножко человеку места в мире не найти… Вернее, ему этого места не дают. «Сократись, Сократик» — тоже почти символ эпохи. Здесь Сократ не столько представляет собой, философское, объективное начало, сколько нечто мыслящее, имеющее разум. Ему и предлагают сократиться. Фонетически — бесподобно. На практике — видимо не получилось.
Если образ тюрьмы вобрал в себя двоякую трактовку, то саму тюрьму, в свою очередь, символизирует очень прожорливый, имеющий аппетит на зависть паук. Постоянный житель, почти хозяин тюрьмы, он, подобно Молоху, требует некой дани, которая, в принципе, является просто кормежкой. Паук, как и все вокруг, — искусственный, но ведет он себя, как настоящий, требующий питания, внимания, наблюдающий, работающий. Паук, следуя вышесказанной цепочке следований, тоже символ мира, в котором живут герои «Приглашения». И так же, как и антиподом Цинцинната является Мсье Пьер, — антиподом паука является бабочка — единственное существо, которое так и не сумел заполучить властитель тюрьмы. Не далась. Спас случай.
Бабочка вобрала в себя не только символ души мира, но, в частности, это также образ души Цинцинната, оказавшейся неподвластной нападкам мощного орудия действительности. Как-то даже и об орудии, и о действительности забываешь, когда Владимир Владимирович, входя в любимые круги, описывает прекрасную бабочку. Для Набокова — это метасимвол. Для Цинцинната — все его достояние, вся его красота, сила, смысл. В этимологии Набоков нашел хоть какую-то, но замену потерянному раю, вернее способ его хоть как-то воссоздать где-то далеко — в другой реальности, с другим временем, другой жизнью. Для Цинцинната — это красота, спасенная, сбереженная им. Волею случая. Но все же. Бабочка — это еще и надежда. На спасение. Не столько для Цинцинната она важна, сколько для нас. Этим образом Набоков успокаивает нас. Хотя тоже «брошенной костью» может быть, но доверимся писателю, ведь он абсолютно искренен с нами. Да и неспроста на сцене появляется любимое автором существо.
Бабочка — надежда далекая, скрытая. Более явно она проявляется для Цинцинната в образе Эммочки. С одной стороны, предшественница знаменитого создания Набокова, с другой — почти невеста, почти спасительница Цинцинната. Опять-таки при катализаторе воображения. Примечательно, а вернее логично, что совсем земная и совсем Эммочка, судьбу которой может предсказать не самый великий астроном Мсье Пьер по фотогороскопу, олицетворяет именно самое земное спасение. И это не далекое «там» Тамариных садов — это именно осознание способности ужиться с реальностью, найти место в ней, а вместе с тем оставаться таким же «особенным», «с какими-то лазейками для мысли». Образ Эммочки овеян даже неким, пусть и болезненным, но, как ни странно, пришедшим весьма к месту романтизмом: «напоила бы сторожей… спасла б меня. Кабы вот таким ребенком осталась, а вместе повзрослела, поняла, — и вот удалось бы: горящие щеки, черная ветреная ночь, спасение, спасению… И напрасно я повторяю, что в мире нет мне приюта… Есть! Найду я! В пустыне цветущая балка! Немного снегу в тени горной скалы!» Марфинька, которую Цинциннат несмотря ни на что любит, ну никак не годится для этой высокопарной роли спасительницы. Но вот Эммочка, ребенок, который может играть с круглым, очень подходяще круглым мячом, представляется в воображении Цинцинната выходом и началом новой жизни, в которой Эммочка будто бы даже и официальная невеста, приводящая безумно смущенного, ошалевшего от свободы возлюбленного на «самый бессмысленный» чай (как скажет Набоков, переводя «Алису в стране чудес»).
И опять-таки все, что дарит Цинциннату надежду, все, что помогает ему чувствовать себя сильным, чувствующим и просто живущим, — все это обязано воображению, богатому воображению Цинцинната, которое является словно даром его, которое обусловлено театральностью всего происходящего, вымышленностью, чьей-то забытой постановкой. Мир начинает рушиться с уходом последнего человека. Люди просто растворились. Палач превратился в бессмысленную личинку, страшно то, что может для следующего перерождения, для следующего Цинцинната, для следующего круга. Но это не важно — наш Цинциннат уходит, успев довести себя до последней точки — перечеркивания смерти не только в душе, но и физически. Перейдя, наконец, за те самые кулисы, оставив опустошенную и разваленную сцену.
И бабочку пощадил Набоков, и ее денотата Цинцинната.
На фоне безмерного пессимизма, на фоне ужасающей действительности и ее восприятия, поистине мефистофелевского смеха автора, на фоне всех ужасов, бессмыслицы и бутафорий мира, возникает хоть и маленький, но человек: с душой, пусть и корявыми, поначалу ему самому непонятными, но мыслями, с вечным знанием того, что есть нечто сокрытое, нечто прекрасное, нечто по-настоящему существующее. Этот человек символизирует начало ищущее, мыслящее, чувствующее. Как-то высокопарно будет сказано, что Цинциннат проснулся от вечного сна жизни — не тот герой, не те действия. Хотя… обстановка соответствует. Нет, правильней будет сказать, что Цинциннат проснулся именно от сна его реальности, порождающей соответствующие жизни соответственных героев. Наказанный за свою особенность, Цинциннат должен воспринимать заточение в тюрьме как некую милость, подарок мира, так как именно обособившись в своих четырех стенах, Цинциннат явно почувствовал истинную сущность своей особенности, своих желаний, мыслей. Своей свободы. И в общем-то неважно, в какую сферу перешел Цинциннат после того, как реальность исчезла, точнее сломалась. Она сломалась именно для Цинцинната. Потому что зачеркнуто самое страшное слово. Потому что ушел сам страх. Потому что человек стал свободным.
И если не вдаваться в метафизику, гносеологические теории и даже теории двоемирия, то можно, будучи находясь в нашей реальности, просто сказать, что Цинциннат нашел себе место в ней. Убил все мешающее. Сломал все назойливое. Преломил все сопротивляющееся. И просто стал живым, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Живым среди живого мира живых, подобных ему существ.
Вот она надежда. И именно реальная. И именно существующая. И самая гуманная.
Заключение
набоков роман проза В нашей работе мы, объединив три романа Владимира Набокова — «Король, дама, валет», «Защита Лужина» и «Приглашение на казнь» — в метароман по стержневому символу игры, попытались, таким образом, раскрыть ключевые образы и понятия, отталкиваясь именно из игровой интерпретации.
Жизнь каждого романа, жизнь героев романа развивается именно в игре. И строится, что самое главное, именно по игровым законам. Названия первых двух романов, приведенных нами выше, прямо отсылают нас к соответствующей игровой действительности. «Приглашение на казнь» — роман, стоящий немного особняком не только в нашей работе, в жизни его создателя в общем-то.
Герои романа, название которого прямо отсылает нас к игре карточной, живут в неосознанной ими партии. То есть, законы ее им неведомы. Примечательно, что туз, как высшая карта, отсутствует. Туз — это именно судьба, вернее карта судьбы, которая сильнее и валета, и дамы, и, соответственно короля. Туз, хоть и отсутствует, но он все время незримо в игре, которая строится как бы синтетически — и из воли играющих, и из воли жизни. И, в данном случае, в выигрыше тот, кто этой жизни добродушно и жадно отдается. Драйер — дитя жизни, баловень судьбы. Судьба постоянно и именно зримо с ним. Судьба сделала его не только живым, живущим, но и жизнелюбивым. Так неужели эта судьба и отнимет у него жизнь???
Герои романа «Защита Лужина» действуют в заранее ограниченном пространстве, закрытом как в количественном плане, так и цветовом. Их жизнь протекает в соответствии с номинацией той или иной шахматной фигуры. Примечательно то, что некоторые персонажи силу шахматной номинации именно осознают, в принципе косвенно себя с ними и сравнивают. Старик называет самую сильную фигуру ферзем. Он им и является. В своей свободе. Он полностью подчинился власти поля. Точнее сказать, он просто следует течению разворачиваемой на его глазах игры. Он свободен именно в своем стремлении быть тем, чем он является, в своем нестремлении к вершинам. Примерно то же осознание появляется и у тети Лужина. Сам же герой пытается найти защиту именно у дамы. Это свойственно его роли в игре. Шахматной игре. Лужин, понял то, что всю партию, всю жизнь, он всего лишь король, который отчаянно пытается стать ферзем, и, одновременно, отчаянно и судорожно ищет защиту сначала от себя, от жизни. Потом и от судьбы. И только в смерти Лужин не только становится ферзем, не только становится свободным, но именно становится самим собой, ведь только в конце автор показал нам Лужина именно как человека, имеющего имя.
«Приглашение на казнь» — роман особенный во многих планах. Это именно своеобразный гимн человеку-фигурке, гимн участнику игры, который может быть передвигаемым, но который может, при огромнейшем желании, передвигаться и самостоятельно. Важно и то, что человек в этом романе может прийти к осознанию своей игровой роли, но именно эту тяжесть преодолеть. Лужин этого сделать не смог. А Цинциннат — сумел.
Это не только физическое перечеркивание смерти, не только освобождение от смерти моральное, а, что самое главное, именно выход за пределы игрового поля. Выход из заранее кем-то сделанного и ограниченного пространства.
Мир, в котором живет Цинциннат — это огромное театральное представление, театральная игра. И именно такая игра хоть и приветствует актеров, играющих строго согласно кем-то написанным ролям, но жаждет и рождает самых что ни на есть творческих, и, что важно, творящих людей, которые не просто выходят за пределы сценического пространства, а именно переносятся по воздуху в новое измерение. Которые не только видят, что есть что-то «за», а именно к этому потустороннему (в самом прямом смысле слова) стремятся.
Цинциннат не один, подобных ему много. Жизнь не одна, их много. Даже в единичности. И роль свою человек может писать сам. А может и вовсе от роли отказаться. Что будет тогда — решать только ему. Набоков просто лишил Цинцинната одиночества. Может кто-то одиночество таким образом приобретет.
Библиография
1. Вейдле В. «Triquarterly», № 17, 1970.
2. Дарк О. Загадка Сирина. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 1.
3. Ерофеев В. Русская проза Владимира Набокова. Собр. соч.: В 4 т.М., 1990. Т. 1.
4. Козлова С. М. Утопия истины и гносеология отрезанной головы в «Приглашении на казнь». http://magazines.russ.ru/zvezda/1999/4/kozlova.html
5. Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе, М., 2000.
6. Ходасевич В. О Сирине, «Возрождение», № 1957, 1934.