Философский анализ проблемы диалога культур
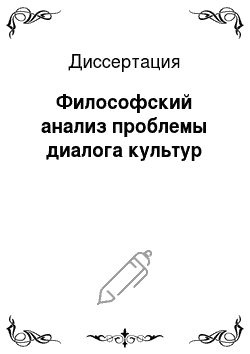
О том, насколько переход к генеративной семантике мотивирован экспериментальной работой в области психои нейролингвистики, может дать представление книга Т. В. Ахутиной «Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса», 1989. Но прежде отметим, что в СССР еще Л. С. Выготский в книге «Мышление и речь», 1934, задолго до Хомского, сформулировал идею генеративной грамматики, исследуя детскую… Читать ещё >
Философский анализ проблемы диалога культур (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- Объяснение соглашений
- Общая характеристика работы
- Постановка проблемы, принятая в этой работе
Цели и задачи исследования.10.
Методы исследования и разработки поставленной проблемы.11.
Новизна исследования.14.
Введение
в проблему.15.
Обзор мнений антропологов, культурологов и лингвистов по проблеме диалога культур.15.
Объяснения методологического характера.28.
Возможности логического анализа сообщения: понимание как уяснение связи.32.
Начало логического анализа.32.
Формализация логической аналитики.35.
Границы формализации теории.38.
Логический синтаксис.42.
Генеративная грамматика в ее синтаксическом варианте.46.
Вопрос о преемственности в генеративных исследованиях.51.
Идея семантики.53.
Синтаксические категории и логические типы.55.
Интенсиональные модели.63.
Композиционность значения.68.
Контекстуальность значения.70.
Промежуточные выводы.71.
Сближение модельной семантики и трансформационной теории.73.
Глубинные падежи.76.
Структурные трансформации.83.
Необходимость перехода к лексической семантике. Лексическая семантика и всеобщее взаимопонимание.
Поиски простых выражений.
Краткий итог сказанного в этой части.
Власть непонимания.
Сцена.
Эллипсис.
Традиция.
Идеология и очевидность.
Диалог.
Дискурсные формации.
Эффекты.
Неочевидность наличия.
Дилемма.
Вопрос об иной культуре.
Выводы.
Библиографический указатель литературы, на которую тексте диссертации имеются ссылки.
Объяснение соглашений.
Ссылки на цитируемую или упоминаемую литературу даются в квадратных скобках. Заглавные буквы в квадратных скобках являются аббревиатурой издания, полные данные о котором приводятся в Библиографическом указателе в конце работы. Цифры, следующие за аббревиатурой, обозначают номер страницы (при необходимости дается указание на том — «т.», книгу — «кн.», часть -" ч.").
Общая характеристика работы.
1) Постановка проблемы, принятая в этой работе.
В диссертации поставлена проблема достижения понимания участниками диалога, стоящими на взаимно не сводимых культурных позициях. Постановка проблемы, принятая в предлагаемой работе, отличается тем, что исследуется не способность человеческого существа к диалогу вообще, а только способность к межкультурному диалогу человека, представляющего «европейскую», или «западную» культуру. Сформулируем наш подход еще точнее. Нами изучается научная оснащенность «западного» человека для ведения понимающего диалога с представителем другой культуры. Поскольку диссертация разрабатывает эту проблему как философскую, основное внимание уделяется методам ведения и понимания диалога, которые может обосновать философияоднако, мнения специалистов других наук, имеющих прямое отношение к проблеме (в первую очередь, лингвистики, антропологии, культурологии), также учитываются и обсуждаются по мере необходимости.
Мы отличаем наш подход, во-первых, от историко-эпистемологического подхода, представленного, Карлом Поппером, Теодором Куном или, к примеру, Мишелем Фуко. Каждый из этих исследователей, а также многие другие историки и философы науки, представляют западный тип рациональности в развитии, учитывая противопоставления и разрывы, исторически имевшие место в научном мышлении Запада. В отличие от них мы сосредоточили свое внимание на выработке аналитического аппарата исследования мысли и языка в 20 веке и на ее критике, практически современной ей. Во-вторых, мы хотели бы указать на расхождения нашей постановки проблемы с тем, как вопросы диалога культур трактуются основателем «Школы диалогики культуры» В. С. Библером. Последний ставит цель выделения иных, чем современный, типов разумности, определявших европейское мышление, — к примеру, античного эстетического разума, средневекового причащающего разума, новоевропейского познающего разума [КГК, 14] - изучения «трансдукции», то есть решающего перехода от одного типа к другому, и на этой основеизучение их продуктивного «диалога», суть которого в том, что каждый из этих типов «обосновывает» другие. Утверждение взаимной несводимости типов разумности близко структуралистским идеям выделения «релевантных» признаков для каждой культуры, а полагание возможности диалога как самой глубокой характеристики человеческого разума отсылает к диалогизму постформалистской школы в России (прямая ссылка на Леви-Стросса и Бахтина как двух «значительнейших мыслителей» [КГК, 21] подтверждает эти наблюдения). Однако мы обязаны В. С. Библеру привлечением внимания к эпохе великих географических открытий как переломной для большинства культур мира, не исключая европейскую, и пониманием того, что «соотношение и противопоставление. культурных типов не требует и не терпит никакой метакультуры», и что именно «индивид, в котором культуры сталкиваются и который их сталкивает и который уже поэтому обречен не включаться полностью ни в одну из них» -это и есть преимущественный субъект культурного синтеза после того, как традиционные культуры пришли в соприкосновение, разъедающее каждую из них [ОНКЛК, 88]. Наконец, в-третьих, мы не следуем в этой работе компаративистскому подходу, сравнивающему культуры или преобладающие в них типы рациональности. Отказ от такого подхода обоснован нами в тексте диссертации (разделы 1.1 и 1.2), но здесь мы хотели бы оговориться, что в специально очерченных частных сферах корректный и компетентный анализ, продемонстрированный, например, в статье А. В. Смирнова «Соизмеримы ли основания рациональности в разных философских традициях? Сравнительное исследование зеноновских апорий и учений раннего калама» [ВФ № 3 1999], представляется нам интересным и полезным.
Итак, мы исходили из того, какими преимущественно теориями на деле пользуются люди современной нам «западной» культуры, пытаясь осмыслить пути достижения взаимопонимания с представителями иных культур. И вот поэтому на первый план в нашей работе выходят вопросы логического анализа языка и вопросы анализа дискурса. Это, в первую очередь, поиск универсальных оснований человеческого мышления (lingua mentalis) и изучение их представленности в естественном языке. Ведь если такие общезначимые основания мышления могут быть обнаружены, можно утверждать взаимную переводимость всех языков, поскольку все они, в таком случае, по-своему репрезентируют одни и те же мыслительные конструкции. Одно из центральных положений диссертации — тезис о понимании как возможности перевода: как внутриязыкового (парафразирование), так и межязыкового. В диссертации на широком материале, охватывающем обсуждение этих вопросов переводимости и парафразирования философами, логиками и лингвистами в 20 веке, показано, каким образом можно подойти к их положительному разрешению. С другой стороны, в диссертации изучаются возражения против оптимистичного логико-лингвистического решения проблемы возможности межкультурного диалога. Показывается, что постановка проблемы диалога в более широком — социальном — контексте высвечивает трудности, с которыми не может справиться логико-лингвистический анализследовательно, требуются иные методы исследования проблемы, возможно, и не приводящие к столь же оптимистичным результатам. В конечном счете наше изучение этих дискуссий приводит к выявлению специфической ограниченности «западной» культуры, дающей основания для философской критики так называемого «логоцентризма» Запада и к рассмотрению возможности выхода за эти границы. С целью наглядного представления этих «границ», «западная» модель понимания другого человека, практически используемая в нашей культуре, эксплицитно развернута в конце работы.
2) Актуальность темы диссертации.
Актуальность исследования проблемы возможности понимания в диалоге культур видится нам в двух главных аспектах: это практическая насущность взаимопонимания в поликультурном мире и теоретическая необходимость уяснения как нашей способности к ведению понимающего диалога, так и ограниченности наших попыток оптимизации такого диалога (которую требуется, по меньшей мере, учитывать).
Мир людей, включающий множество культур, динамично меняется в горизонте глобальных вызовов и угроз, затрагивающих все культуры. Поэтому остро необходимо смягчение факторов непонимания, препятствующих сотрудничеству представителей разных людских сообществ. Не имея права предписывать представителям других культур, как им разговаривать с нами, мы обязаны предпринять усилия по выработке собственной стратегии межкультурного диалога, устанавливающего общие перспективы, выясняющего намерения, уточняющего сближения и расхождения всех его участников. В современном мире, несмотря на постоянные призывы к ведению и расширению такого диалога, достаточно свидетельств его дефицита. Разумеется, власть объективных интересов часто оказывается сильнее желания и способности достичь понимания, и диалог оказывается встроен в стратегии отстаивания интересов и подчиняется им. Так что существуют объективные ограничения на желание понять и принять позицию противной стороны. Но в то же время жесткое отстаивание этих интересов приводит к противоречиям такой остроты, которая вплотную подводит человеческое сообщество к планетарному кризису. Необходимость замены модели последовательной защиты узко-прагматического интереса на другую модель, которая в полную меру и в первую очередь учитывала бы зависимость положения каждого от общего положения дел на Земле, принимала бы несводимую ценность каждой культуры в качестве принципа своих действий ясна и давно обсуждается в мировом сообществе. Очевидно, что многосторонний полилог может приблизить практическую реализацию этой новой модели планетарных отношений. Коротко говоря, чем больше люди размышляют над проблемами диалога и понимания, над своей ролью в этом общении, тем реальней возможность того, что противоречия в мире будут смягчаться благодаря мысли до, а не после силовой конфронтации. Нам кажется, что осознание собственной ограниченности как ничто другое способствует готовности допустить правоту за другим, даже если мы не понимаем этой правды. Поскольку предлагаемая работа является вкладом философа в подобные размышления, ее практическая актуальность нам кажется разъясненной.
Очертим теперь теоретическую актуальность работы. Можно утверждать, что с осознания странности и непонятности людских судеб в превышающем человека мире, с поиска причин непонятости лучших устремлений человека для окружающих и с установления катастрофических для отдельных лиц или целых сообществ последствий непонимания начинается западная философия. Так, смерть непонятого Сократа стала началом диалога Платона с образом учителя и поиска Платоном оснований истинной жизни. С тех пор эти вопросы никогда не вытеснялись из проблемного поля философии, они разрабатывались философской этикой и социальной философией. Проблемы непонимания ставились и на другой линии философского мышления. Вспомним, какое значение для развития диалектики и логики имела зеноновская апоретика — рассмотрение высказываний, имевших убедительное логическое обоснование, но очевидно расходившихся с наблюдаемыми фактами, — а также парадоксы типа «лжеца» — в Средние века для разрешения логических парадоксов (insolubilia) вырабатывались специальные методы, составившие в схоластической логике отдел de insolubiliis [см. ФМЛ, 167−180]- в 20 веке к разрешению новооткрытых логических парадоксов (в частности, в математической теории множеств) вернулся Бертран Рассел, семантическими парадоксами занимались Ян Лукасевич и Альфред Тарский [см. напр. ФЛЛВШ, 25], а также многие другие. Но ведь это ни что иное, как обнаружение того, что непонятность внедрена в наш повседневный язык и требуются специальные методы, чтобы избежать формулировки высказываний, не поддающихся рациональному пониманию. Не является ли и вообще всякое непонимание следствием недостаточно продуманного, небрежного использования языка в повседневной жизни? Такая постановка вопроса стала возможной для аналитиков в 20 веке — по словам Дж.Р.Серля, «золотого века философии языка» [ВФ № 4 1992, 67]. Мы думаем, что наша работа показывает, что это не так. И в этом нам видится ее теоретическое значение и научная актуальность. Подводя итог дискуссиям уходящего столетия, мы утверждаем, что непонимание, являясь, безусловно, эффектом мысли, разговора, диалога и полемики, отнюдь не сводится к недостатку внимательности при употреблении языка, а имеет социальные корни, упираясь, в конечном счете, в проблемы властных отношений или, говоря конкретней, идеологии обществ. Иными словами, изоляция логического направления в философии от философской теории общества оказалась невозможной именно с точки зрения проблемы достижения понимания людей. Поскольку осознание этого факта влечет важные следствия для философской теории, вырывающейся за пределы анализа языка и логики мышления в мир силовых взаимодействий индивидов, обществ, культур, в мир интересов, власти и труда, согласия и борьбы, коренных противоречий и проблематичного единства, постольку обоснованное утверждение этого вывода из философских дискуссий 20 века представляется нам особо значимым на пороге следующего столетия (и, кстати, позволяет дать взвешенную оценку философскому процессу в России в 20−80-х годах, что, правда, не станет нашей специальной темой). Мы убеждены, что важные направления будущей философии будут исходить из актуальности в современном мире проблемы (не-)понимания и предлагаем свою трактовку этой проблемы, появившуюся в результате изучения философских споров века и в свою очередь выводящую к новым проблемам, открывающую перспективу новых философских исследований.
3) Цели и задачи исследования.
Основной научной целью диссертационного исследования является обоснование такого философского подхода к проблеме понимания речи, обращенной к нам другим человеком, который не был бы сводим к логико-лингвистическому анализу знаков, но требовал бы выхода в проблематику идеологии и культуры общества. Тем самым вновь и, пожалуй, еще шире раздвигается проблемное поле философии, к середине 20 века крайне сузившееся вследствие преобладания логико-позитивистских концепций. Для этого нужно (1) решить задачу комментирующего изложения главных логико-лингвистических идей, имеющих отношение к проблеме понимания и межкультурного диалога. Тем самым будет описан мощный аппарат логико-лингвистического анализа, выработанный в 20 столетии. Следующая задача — (2) выявление философских оснований логико-лингвистического анализа. Отчасти она решается в ходе описания его аппарата, отчасти — в ходе продумывания критических выступлений, направленных против традиционно-логического подхода к проблеме понимания человека человеком. Задача, тесно связанная с предыдущей, — (3) изучение основных положений критики логико-лингвистического подхода к проблеме. Наконец, из проведенного в ходе решения этих трех задач обсуждения нужно (4) сделать выводы, имеющие прямое отношение к центральной проблеме диссертации — возможности или невозможности для «западного» человека понять представителя иной культуры с помощью выработанных в нашей культуре методов.
Тем самым объектом диссертационного исследования выступают имевшие место в «западной» философии 20 века дискуссии вокруг возможностей логико-лингвистического анализа решить проблемы взаимного понимания (то есть понимания позиции другого человека и объяснения ему собственных взглядов): утверждения как апологетического, так и критического характера. В качестве предмета исследования выступают тексты, созданные философами аналитического направления (Расселом, Виттгенштейном, Айдукевичем и другими), а также в рамках феноменологии (Гуссерль), тексты лингвистов, значение которых однако выходит за рамки лингвистики и прямо относится к нашей проблематике (Хомского, Филлмора, Вежбицкой и других), тексты представителей философской герменевтики (главным образом Гадамера, а также Рикера), тексты критиков идеологии (Адорно и Хабермаса), аналитиков дискурса (Пеше, Орланди и других) и философов «постструктуралистского» направления (Фуко, Деррида, Делеза) — как мы уже говорили, в поле нашего зрения будут находиться также работы антропологов и культурологов, таких как Леви-Стросс, Малиновский, Элиаде и других.
4) Методы исследования и разработки поставленной проблемы.
Методика решения поставленной проблемы по сути должна сочетать историко-философское изучение (уясняющее прочтение первоисточников) с философским анализом проблемы, так как в практически необозримом море текстов необходимо произвести отбор, реконструировать логические отношения цитируемых текстов (а часто и хронологический порядок их появления) и таким образом представить обсуждение поставленных в диссертации проблем как дискуссию, развивавшуюся последовательно и давшую определенные результаты. Отсюда очевидные трудности. В самом деле, исследование, ставящее в центр определенный текст конкретного автора и дающее его максимально полное истолкование с учетом контекста его появления и последствий опубликования, в большей степени гарантировало бы строгую научность решения этой задачи. Однако строгому ограничению темы соответствует и ограниченная значимость полученного решения. Не ставя под сомнение оправданность и необходимость частных изысканий, их научные состоятельность и результативность, мы все же уверены, что в науке существует потребность в более широки подходах, ставящих в центр своего внимания не конкретную персоналию, а п /ip о б л е м у. Свой подход мы и определили бы как проблемный. Думаем, что следование логике раскрытия проблемы поможет отобрать тексты, ключевые для нее, а методичное проведение границ и подчеркивание реальных различий поможет не впасть в эклектичное соединение несоединимого. Наша цель — вовсе не в унификации результатов философской работы, проделанной в 20 веке, ради встраивания их в единую концепцию, а наоборот, в демонстрации сложности «западной» рациональности и ее самокритичности. Последнее мы полагаем ее главным достоинством и, в определенной степени, связываем с этим надежды на новое понимание.
5) Структура диссертации.
Предлагаемая работа состоит из 4 частей и библиографии.
В 1-й части, озаглавленной «Введение в проблему», дается обзор мнений специалистов — антропологов, культурологов и лингвистов — по вопросу межкультурного диалога и обосновывается наш собственный подход к постановке и решению этой проблемы.
2-я часть («Возможности логико-лингвистического анализа: понимание как уяснение связи») содержит реконструкцию аппарата логико-лингвистического анализа, созданного в западной культуре в 20 веке. Сюда включаются разработки логического синтаксиса и генеративные синтаксические теории, теория типов и логическая семантика — как модельная, так и трансформационная, а также лексическая семантика с особым вниманием к поиску семантических «примитивов». Заканчивается эта часть работы выводами относительно общих для всех этих теорий допущений философского характера.
3-я часть («Власть непонимания») ставит под вопрос упомянутые допущения (наличие смысла выражения в интуитивном схватывании его). Вводится понятие «идеологии» как запрета на вопрос. От возможностей критики частных «идеологий» мы переходим к критике «идеологии» как таковой — это понятие связывается с концептом «очевидности». Разбираются философские результаты такой критики и ее последствия для «западного» человека и культуры Запада.
4-я часть диссертации («Выводы») обобщает и развивает результаты, полученные в ходе предшествовавшего обсуждения. Они состоят в том, что анализ как таковой еще не решает проблему понимания, а значит, «аналитический» уклон западной культуры не только служит источником ее силы и приобретений, но и ограничивает ее возможности, направляя сверхусилия на поиск максимально достоверных оснований суждений (в ущерб, к примеру, развитию способности к эмпатии). Проблема состоит в том, действительно ли преимущества западного пути перевешивают его недостатки. Если на этот вопрос ответ будет отрицательным, то каковы возможности западной культуры по трансформации себя самой во что-то иное? В самом общем виде мы отвечаем на это в конце исследования, указывая возможное направление сдвигов.
Библиографический список, помещенный в конце работы, содержит, в согласии с «Рекомендациями», подготовленными в СГУ-СГИ, только те издания, на которые в диссертации имеются ссылки.
6) Новизна исследования.
На наш взгляд, (1) не опробованной в литературе является уже сама постановка проблемы, предложенная в нашей работе: изучение «диалогической» компетенции человека западной культуры, оснащенного методами, выработанными в деталях в ходе философских дискуссий 20 века. Хотя каждый из поднятых в работе вопросов получал достаточное освещение в философской литературе, что отражено в тексте диссертации, разработанность поставленной в диссертации проблемы в целом никак не может быть признана удовлетворительной. Кроме того, (2) обсуждению — с точки зрения их философской значимости и в контексте проблемы взаимопонимания — подвергаются учения, до сих пор редко разбиравшиеся в отечественной философской литературе (например, падежная грамматика). Это приводит к тому, что наша реконструкция логико-лингвистического аппарата, построенного в 20 веке, представляет этот процесс более целостным и многомерным, чем в более традиционных изложениях. И наконец, (3) демонстрация того, что атакующая критика логико-лингвистического анализа это общая тенденция, развивающаяся в западной культуре и по сути размывающая ее основания, и выводы настоящего исследования подводят к видению дальнейших перспектив западной культуры и направлений ее «самотрансцендирования», обосновывая дальнейшие предположения по этому поводу, которые могут стать темой последующих исследований, настоятельность которых нам представляется бесспорной.
1.
Введение
в проблему.
1.1. Обзор мнений антропологов, культурологов и лингвистов по проблеме диалога культур.
Скепсис антропологов по поводу реальной возможности равноправного диалога культур общеизвестен. Можно выделить два главные основания, по которым оценка антропологов оказывается такой грустной. Это 1) природные различия и 2) чувство превосходства европейцев (этноцентризм) и вытекающая из него неблаговидная практика. Еще Жан-Жак Руссо, при своей настроенности понять и принять своеобразие другого человека, писал в «Эмиле»: «Местность, в которой живет человек, не безразлична для его культурылишь при умеренном климате люди способны полностью раскрыть свои способности. Очевидно, что климатические крайности крайне неблагоприятны для человека. Представляется, что устройство мозга при крайностях климата менее совершенно. Ни у негров, ни у жителей Лапландии нет рассудочного мышления, которым наделены европейцы. И потому, если я хочу, чтобы мой ученик мог стать гражданином вселенной, я должен был бы перевезти его в умеренную зону, лучше всего — во Францию» [цит. по Г, 394]. Таким образом, «понимание» естественных причин культурных различий между европейцами, с одной стороны, неграми и лапландцами, с другой, соединяется у Руссо с приписыванием европейскому «мозгу» развитой способности к космополитичному мышлению и признанием за таким мышлением универсальной ценности (в отличие от мыслительных действий негров и лапландцев, за которыми в лучшем случае признается локальная ценность). Исторически это убеждение трактовалось как право «гражданина мира» учить жить цивилизованно и гуманно всех остальных: «не-граждан мира» (или «граждан не-мира» ?), что, как правило, сопровождалось изъятием у них материальных ценностей, поруганием культурных традиций и лишением жизни тех, кто не хотел «учиться». Завершая в 1942 году свой очерк, посвященный памяти сэра Джорджа Фрэзера, Бронислав Малиновский в главе «Куда идет антропология» подводил итог цивилизующей «миссии» европейца: «Теперь мы начинаем видеть, насколько опасно говорить о бремени белого человека и заставлять других взваливать его себе на плечи и нести его вместо нас. Все обещания, которые мы даем, заключены в нашем понятии братства и равенства в образовании, но как только дело доходит до богатства, власти и самоопределения, мы отказываемся делиться этим с другими» [НТК, 198]. Зато мы заставляем делиться богатствами с нами. Богатства эти — не только материального свойства. Один из самых ярких феноменологов религии, Мирна Элиаде отмечал в работе «Религии Австралии», 1973: «Мы начинаем понимать, насколько западное сознание выиграло от встречи с экзотическими и незнакомыми культурами. Я не говорю об объеме полученной в итоге информации. Я думаю только о творческих результатах подобных встреч (например, Пикассо и открытие африканского искусства и т. д.» [РА, 10]. Разумеется, проблема (нео-)колониализма не так проста, чтобы быть исчерпанной моральным осуждением ограбления аборигенов и констатацией того, что мы у них в неоплатном долгуразумеется, и здесь не было одной стороны, которая всегда отдавала, и другой, которая исключительно получала. Во всяком случае, коренные жители земель, куда приходили европейцы, могли рассчитывать на смягчение некоторых своих проблем в результате этих контактов. Клод Леви-Стросс, в «Печальных тропиках» говоря о положении мелких ремесленников в перенаселенной Индии, отдавал себе отчет в том, что налаживание для них условий, которые европейцу показались бы несправедливой эксплуатацией, для самих индийцев оказалось бы благом, поскольку стало бы реальным улучшением их участи, о которой он пишет: «Казалось, что 14, 18 и 20 века назначили здесь встречу, желая поиздеваться над идиллией, декорацию которой представляет собой тропическая природа» [ПТ, 190]. И кто изменил положение, какими методами это было достигнуто, являются ли формы внедрения технических средств, облегчивших жизнь местному населению, приемлемыми с некоторой не доступной ему сейчас точки зрения — все эти вопросы отходят для него на второй план перед лицом нужды. Проблема состоит, скорее, в подчиненности диалога — практическим целям извлечения выгодыа где обмен — там и обман, как напомнил, рассуждая об истории культуры, Ю. М. Лотман [ВММ, 358]. В таком случае, в подлинной коммуникации здесь нет потребности, и это одна из причин, по которой такой коммуникации не обнаруживается. Правда, имеется заинтересованность (с обеих сторон) в поддержании среди местного населения уровня образованности, который позволил бы комплектовать штаты местных учреждений и предприятий и внушить уважение к космополитичной культуре Запада. Уже такая коммуникация ставит языковые проблемы, о которых Леви-Стросс писал: «В настоящий момент непонимание между Западом и Востоком является главным образом семантическим: в определениях, которые мы пытаемся туда внедрить, присутствуют понятия, имеющие иные элементы или не имеющие таковых вовсе» [Там же, 191]. Иначе говоря, существует проблема языкового барьера, упирающаяся в несовпадения типов культур. Обратимся теперь к этому затруднению.
Всякий анализ нуждается в подходящем орудии — языке", -констатировал в «Апологии истории» Марк Блок, представитель школы «Анналов», обосновавшей переход от истории великих личностей к истории народных масс [АИ, 89]. Это утверждение становится абсолютно бесспорным, когда речь идет об изучении чужой культуры. Поэтому невозможно закрыть глаза на сомнения лингвистов по поводу возможности взаимопонимания (она будет подробно анализироваться в основной части работы). Проблема состоит в том, чтобы передать смысл речив отличие от вещи, переданной из рук в руки, смысл не нагляден и не весом, его можно объяснить, только заменив неясные слова другими в надежде, что они окажутся понятней. Поэтому хотя бы какие-нибудь выражения должны быть универсально понятными. Но даже если найдутся такие общепонятные слова и составленные из них фразы, «дух языка», как говорили романтики, тесно связанный с «духом народа», останется непереведенным. В известном письме Шлегелю Вильгельм Гумбольдт обрекал переводчика разбиться об один из двух подводных камней: либо слишком точно придерживаясь подлинника в ущерб собственному языку и вкусу, либо уступая своему языку в ущерб точности передачи языка оригинала. Расхождения культур и языков представляются чрезвычайно значительными. Еще американский лингвист и антрополог Франц Боас указывал во введении к «Руководству по языкам американских индейцев», 1911, что применение к ним грамматических категорий «слово» и «предложение» встречает серьезные затруднения. Например, выражение ania*lot из языка чинук членится на: а (время), п (я), i (его), а (ей), 1 (к), о (направление прочь), t (давать) — и все вместе значит «я дал его ей» [ИЛУ, 154]. Но дело не только в ином типе грамматики языка, который вполне может быть описан, если не навязывать описанию неадекватных для этого языка средств. Гипотеза лингвистической относительности Эдуарда Сепира, поддержанная Бенджаменом Уорфом, настаивает на решающей связи между языком, психологией и культурой. «Когда лингвисты смогли научно и критически исследовать большое число языков, совершенно различных по своему строю, — писал Уорф в 1940 году, -.они столкнулись с нарушением тех закономерностей, которые до того считались универсальными. Было установлено, что основа языковой системы любого языка. не есть просто инструмент для воспроизведения мыслей, напротив, грамматика сама формирует мысль» [ЗЛ I, 97]. Факт преформации в языке логики мышления и картины мира в целом действительно препятствовал бы переводу смыслов с языка на язык. Хотя представление о фатальности этой преформации не разделяется в современной лингвистике, не подлежит сомнению сама разница грамматических систем, как и то, что лексические системы различных языков по-разному членят внеязыковую действительность. Конечно, «утверждение, что глагольные значения типа „докричаться“, „надышаться“ могут быть выражены на английском языке совершенно правильно, но только такие значения носителями английского языка обычно не выражаются» , — в 1994 году замечала Е. Петрухина в статье «Грамматические значения и языковая модель мира» [JT4, 146], свидетельствуя, что гипотеза Сепира-Уорфа (в ее ослабленном толковании) остается, по меньшей мере, не лишенной смысла. Добавим сюда то, что язык должен рассматриваться не только в том, что в нем имеется, но и с точки зрения того, чего в нем нет: его специфической неполноты и системы действующих в нем запретов. Из-за них формально точный перевод каждой единицы одного языка в соответствующую единицу другого, на чем настаивали теоретики машинного перевода (даже если он окажется возможным), может исказить исходную мысль. Запреты на сочетания слов изменчивы и часто обусловлены неязыковыми переменами. Простой пример: перевод английского ш-г русским «г-н» нес бы оттенок иронического отстранения примерно до 1989 года и утратил бы его приблизительно после 1993. Этнография речи показывает, что сам процесс говорения может иметь неодинаковую значимость в непохожих культурах. Наконец, и степень изученности языков мира крайне неравномерна.
Итак, даже если стремление к пониманию человека другой культуры налицо и не отодвигается корыстными соображениями, перед нами вырастает культурно-языковой барьер. Прежде чем обратиться к более оптимистичным высказываниям специалистов по этому поводу, упомянем о чисто субъективных трудностях взаимопонимания. «Великий исследователь человека» — антрополог и этнограф, полевой исследователь и теоретик, сэр Джеймс Джордж Фрэзер, по словам Малиновского, — редко бывал способен к взаимодействию с другим человеком" [НТК, 167]. Помимо всех научно обоснованных сомнений, эта короткая констатация личного свойства наводит на размышления о пределах понимания одним человеком другого.
Оптимизм способна внушать сама традиционность для западной культуры ориентации на понимание другого, ее озадаченность этой проблемой, которая имеет для западных мыслителей этическое (уважение к человеческому образу), эстетическое (красота странности, архаичности и экзотичности, к которой так чутки были романтики: Шлегель, Шлейермахер, Шелли, Карлейль, — и модернисты), экологическое (сохранение произведений природы в естественной среде их обитания) и, наконец, познавательное измерения. Последнее из них интересует нас тут больше, чем остальные. Признание принципиальной возможности диалога опирается обычно на представление о единой схеме развития всех мировых культур (этот взгляд отстаивал, например, Освальд Шпенглер, говоря о «синхронных» стадиях развития культур, разнесенных во времени и пространстве: мифо-символической, метафизико-религиозной и цивилизационной) или об общем для них структурно-функциональном фундаменте (скажем, с точки зрения Бронислава Малиновского, все культуры функционируют ради удовлетворения базовых потребностей людей в обмене веществ, продолжении рода, в телесном комфорте, безопасности, движении, развитии, здоровье). Если все культуры развиваются примерно одинаково на одной и той же основе, то понимание представляется возможным. Что касается представления о взаимной непереводимости разноязычных текстов, любопытно, что сам В. Гумбольдт перевел трагедию Эсхилла «Агамемнон» и написал к переводу предисловие, объясняя свой метод преодоления возникших трудностей. Обсуждая возможность сравнения разных культур «без этноцентрической предвзятости», Анна Вежбицкая в статье «Концептуальные основания психологии культуры» пишет: «Последние исследования по межязыковой семантике обнаруживают, что если одни из широко используемых в межкультурных исследованиях понятий являются сугубо западными., то другие распространяются на различные культуры в гораздо большей степени, а некоторые, по всей видимости, оказываются универсальными» [ЯПК, 380]. Даже если универсальность семантических категорий ограничена лишь самыми общими из них: аспектуальность, темпоральность, таксис, временная локализованность, модальность, бытийность, персональность, залоговость, субъектность/объектность, одушевленность/неодушевленность, определенность/неопределенность, качественность, количественность, компаративность, посессивность, локативность, обусловленность (группировка категорий причины, цели, условия, уступки, следствия) [см. МСИЯ, 12], нельзя не заметить, что они же и самые важные для построения осмысленной человеческой речи. Никто не будет спорить с тем, что влияние природной среды, преобладающего рода занятий, своеобразия преданий и религиозных культов накладывает отпечаток на систему языковых значений, но едва ли это может стать непреодолимой трудностью перевода. Характерный пример приводит французский лингвист и переводовед Жорж Мунэн: хотя средний француз знает всего лишь одно слово со значением «снег», французские лыжники используют целый ряд наименований для разных видов снега, и этот ряд по числу слов не уступает лексике эскимосов или лапландцев [ОТП, 37]. Различие грамматик также преодолимо, поскольку имеется возможность передачи языковых смыслов путем замены отсутствующих единиц их функциональными эквивалентами. Решению всех этих переводческих задач способствует быстрое развитие сопоставительного изучения языков, в задачи которого входит определение системных соответствий/несоответствий между сопоставляемыми языками (межязыковых эквивалентов и лакун). Остается только заметить, что проблема межкультурного понимания не исчерпывается вопросами, которые решает теория перевода. Даже передачу переведенного текста нужно уметь оформить в соответствие с принятыми культурными нормами, куда относятся ритуальные формы вежливости, нормы красноречивых обращений, а также особенности графики, включая трудноуловимые нюансы: например, разные смыслы японского глагола kaku («писать/рисовать») передаются разными китайскими иероглифами. Поэтому успехи сопоставительной лингвистики не избавляют от этнографического познания.
Мы хотели бы еще раз обратить внимание на то, что основанием «культурологического оптимизма», о котором мы только что говорили, служит выделение «универсалий» — общезначимых элементов или функций, наблюдаемых во всех человеческих культурах и служащих основой взаимопонимания людей. Однако сам «универсалистский» подход может быть поставлен под сомнение. А. Вежбицкая неслучайно оговаривает необходимость выделения универсалий «без этноцентрической предвзятости». Но можно ли ее избежать, когда сам концепт «универсалий» имеет довольно очевидную историю и связан с конститутивными чертами западных науки и цивилизации? Очевидно, что акцент на «общем», «закономерном» и универсально «тождественном» выделяет в качестве важного то, что важно для европейского ума. А если вспомнить рассуждение Руссо о «гражданине мира» с счастливо устроенным (благодаря умеренному климату) мозгом, то окажется, что выделение желательной «универсалии» (рассудочное мышление как свойство, имеющее универсальную ценность и позволяющее стать истинным космополитом) может происходить даже в том случае, когда аналога «универсального» свойства не обнаруживается больше ни у кого. Роль Европы (шире: Запада) как выделенного центра сказывается и в том случае, если универсальным полагается просто то, что у других оказывается таким же, как у нас. «Мы» здесь явно выступаем точкой отсчета, а наши свойства — основанием для сравнения. В конце концов, согласно неявно работающему тут предположению, «другие» это те, кто вошли в историю благодаря тому, что были «открыты» нами. Об этом пишет, к примеру, бразильский лингвист Эни Орланди, когда она говорит: «Европейцы конструируют нас, как „других“ „, но при этом сами „они всегда в центре“. Тем самым „Бразилия дисквалифицируется в качестве специфического места производства смыслов. Вместо этого производится этнографический дискурс, являющийся частью европейской истории, причем последняя действительно мыслится как история или, лучше, История с заглавной буквы, единственная и настоящая“ [КС, 218, 210]. Это навязывание „периферийности“ как часть стратегии подчинения осознается не только лингвистами и философами. Бразильский священник Клодовис Бофф в 1984 году на конференции, организованной журналом „Тестимонианце“, в докладе „Теология освобождения: вызов западной культуре“ говорил о том, что идеи, родственные южноамериканским (широкое народное движение за освобождение, социальную и культурную эмансипацию), охватили также Африку и Азию: „В Африке была подчеркнута проблема культурного отчуждения, которое там назвали антропологической бедностью народа, открывшего свою культурную сущность. Негры потеряли способность быть неграми-африканцами и восприняли основные черты других народов“. Народы Азии, со своей стороны, „нашли смысл, надежду в своей религии“, но дело не только в религиозном и мистическом подъеме -“ для них было важно восстановить исторический, культурный. капитал» [РЦ, 141−2]. Прибавим к этому наблюдения Р. Берндта за событиями на австралийском континенте, вносящие новый момент в складывающуюся картину. Коренной житель Арнемленда Бурамара в начале 60-х годов выстроил там Мемориал, где открыто выставил священные предметы аборигенов («ранга», обычно скрытые от глаз).
— этот акт должен демонстрировать аборигенам Австралии их крайнюю нужду в единении: «У нас есть наши песни и наши танцы,.
— сказал Бурамара в одной из проповедей, — и мы не оставляет ихмы должны хранить их, потому что это единственный способ оставаться счастливыми. Если мы откажемся от них, это будет опасно для всех." До этого места проповедь содержит обычные призывы к сохранению коренной традиции и привычное предупреждение об опасности ее утраты, причем «для всех», в чем ухо белого человека может расслышать угрозу и для себя. Дальше, однако, Бурамара учит так: «У нас есть два ума, чтобы думатьмы поклоняемся двум богам. Европейская Библия — это один путьно эти ранга здесь, на Мемориале — это наша Библия» [РА, 290−1]. Итак, культурное отчуждение и антропологическая бедность осознаны в качестве таковых, и это осознание недвусмысленно формулируется Боффом как вызов западной культуре, а Бурамарой — как призыв использовать силы европейской цивилизации (Бога европейцев), не отказываясь от священной силы собственных богов, по его словам «не далекой от европейской». Здесь перед нами две стратегии: культурное возрождение в отталкивании от западной культуры или культурное возрождение с усвоением того, что выработано ею и что может быть полезным аборигенам. Но и во втором случае (возможно, это более благоприятный для белых поворот мысли) речь не идет об унификации на базе универсальных ценностей или общезначимых оснований культуры, тем более не идет разговор о признании за Западом статуса универсальной точки отсчета. Между прочим не лишне будет заметить, что поиском своей идентичности заняты и в самой Европе. Усилия историков школы «Анналов» (третьего поколения, таких как П. Шоню) направлены на нахождение исторических предпосылок единства западноевропейского (прежде всего) региона, для этого исследователи углубляются в многовековую историю, когда в 13 веке регион превратился в «полностью распаханный и заселенный мир» [ИСН, 350]. Эта проблема имеет экономический и политический аспекты (европейский федерализм), но несомненна также ее культурологическая значимость. В самом деле, является ли Европа лоскутным одеялом, сшитым из 25 национальных культур, или представляет собой единую культуру? Для нас сейчас важен не столько ответ на этот вопрос (впрочем, европейское единство нам кажется реальным), сколько сама его актуальность. Процессам глобализации на всех континентах сопутствует постановка вопроса о культурной идентичности. И Европа — не исключение. Так складывается понимание поликультурности мира, лишенного центра в смысле универсальной точки отсчета, дающей основание для сравнения культур и суждения об их большей или меньшей «развитости» .
Выработанный между 30-ми и 60-ми годами структурный подход к действительности, как нам кажется, способен преодолеть точку зрения первостепенности «тождества» для культурологического анализа, уравновесив ее особым, теоретически обоснованным вниманием к «различиям». После структурализма различие становится категорией не менее важной, чем тождество, а главное (для нашей темы) намного более интересной философски. Для структурализма было характерно выделение у всех элементов изучаемой системы «дифференциальных (отличительных) признаков», релевантных (значимых) для различимости элементов. Например, фонемы «д7″ т» различимы потому, что составляют оппозицию по дифференциальному признаку звонкости/глухости (у фонемы «д» признак звонкости налицо, а у «т» он отсутствует). Таким образом, важными становятся различия, — организованные в оппозиции, составляющие структуру, так или иначе реализующуюся в материальных элементах системы, каждый из которых определяется как «пучок дифференциальных признаков» (формулировка принадлежит Роману Якобсону). Разумеется, разные структуры, включающие неодинаковые наборы отличительных признаков, не могут быть в полном объеме сравниваемы по общим критериям и не могут быть сводимы друг к другу. Распространение структурного подхода на антропологию позволило Леви-Строссу заключить, что структуры, определяющие различные типы цивилизаций, несоизмеримы между собой. А это приводит к императиву: «Следует допустить, что в диапазоне возможностей, открытых перед человеческими обществами, каждое общество делает определенный выбор и что эти выборы несопоставимы между собой, но равноценны друг другу» [цит. по СЗП, 371]. Как-замечает Леви-Стросс в «Структурной антропологии» [СА, 147−8], количество этих возможностей небеспредельно, и это дает возможность составить более или менее полное описание структур, реализованных в различных человеческих обществах. Почему же, однако, возможна ситуация, описанная у Жана-Поля Сартра в «Проблемах метода»? — Задумываясь о проблемах структурной антропологии, Сартр спрашивает: как получается, что «невозможно найти „человеческую природу“, общую, скажем, для муриа и для исторического человека наших современных обществ», но «реальная коммуникация, а в определенных ситуациях и взаимопонимание, напротив, устанавливаются или могут быть установлены даже между столь различными сущими (например, между этнологом и молодыми муриа, рассказывающими о своем гхотуле)» [ПМ, 208]? С точки зрения Сартра, важно то, что оба существа, этническая культура которых, возможно, несопоставима по одному, равно существенному для того и другого основанию, являются сущим, которое само для себя стоит под вопросом. То, что вообще существует и сознается «вопрос», или «проблема» (скажем более элегично: возможность задуматься — в том числе над «тождеством» и/или «различием» двух существ — и не найти готового ответа), определяет человека как человека. Но если у нас и найдется общая проблема, решения ее мы даем взаимно несводимые.
1.2. Объяснения методологического характера.
Мы привели разноречивые мнения лингвистов и антропологов, профессионально связанных с проблемами межкультурного диалога и взаимопонимания. Теперь нам хотелось бы обрисовать свое понимание проблемы и свой подход к ней.
Мы думаем, что не нужно закрывать глаза на описанные выше трудности, как не стоит ни перечеркивать отысканных совпадений в мыслях, речи или поведении людей разных культур («универсалий» и «почти универсалий»), ни забывать о несоизмеримости людей по общему основанию (потому что любое из них будет иметь для них неодинаковую значимость). Ведь все это очерчивает возможные подходы человека «европейской», или «западной», культуры (которую мы ощущаем как «нашу») к вопросам, встающим при попытках понять человека другой культуры.
Центральное место в нашей работе будет занимать оценка способности человека европейской культуры к пониманию человека, не похожего на него. Дело не в том, чтобы обосновать возможность интеграции западного человека в другие культуры — по типу билингвистичности. Ведь в таком случае проблема межкультурного понимания была бы просто снята. Однако, даже если другая культура перестала бы быть «чужой», едва ли возможно для человека освоить все земные культуры. Так что снятая на уровне общения двух (может быть, больше) культур проблема опять возникла бы при обращении к незнакомой культуре. Словом, «экстенсивное» решение проблемы не кажется нам привлекательным, тем более, что оно относится, скорее, к проблемам практического характера и к сфере личных талантов. Дело, мы думаем, и не в том, чтобы выработать и занять «метакультурную» позицию: ее чисто формальный характер исключает поддержание содержательной коммуникации. Дело в том, чтобы уяснить, чего мы, как представители культуры «Запада», или.
Европы", можем достичь в попытке понять другого человека в рамках выработанных нашей культурой установок, методов и техник.
При том, что изнутри культуры стратегически направляется, концептуально оформляется и методологически оснащается сама попытка исследовать понимание человека человеком, выбранный подход кажется нам единственным, не отрывающимся от реальной ситуации исследователя и вместе с тем позволяющим добиться теоретически (да и практически) значимых для нас результатов: насколько человек нашей культуры способен к диалогу? в чем наша специфическая сила и слабость? В конце работы мы представим модель понимания человеком нашей культуры другого существа, которое он опознает как «тоже человека». Мы постараемся объяснить как сильные стороны, так и ограниченность этой модели. Наша культура выработала методы, которые мы систематически применяем для достижения понимания, и задача состоит в том, чтобы оценить их действенность. Иными словами, мы хотели бы выяснить нашу компетенцию в вопросе о взаимопонимании в ходе диалогического обмена сообщениями — наш образ действия при возникновении непонятности, сферу применимости наших методов и степень пригодности результатов, получаемых с их помощью, для разрешения проблемы, ради которой они были созданы. В этом вопросе мы хотели бы достичь ясности.
Отдавая себе отчет в производности теоретической проблемы «понимания» от практической проблемы непонимания, мы считаем полезным оговорить, что мы будем называть «непониманием». Мы будем отличать непонимание от ошибки, от некомпетентности и от несогласия. Например, если мы не расслышали, чего от нас хотят, то есть имело место неверное распознание сигнала из-за ошибки органов восприятия, то этот случай мы не будем считать случаем «непонимания». Если мы отчетливо восприняли сообщение, но не смогли его дешифровать из-за незнания кода (например, когда использована азбука Морзе, а мы ее не знаем), то правильней говорить о некомпетентности. То же самое, если нам кричат сверху «- Вира!» — а мы не знаем, что это значит, но поняли бы, если бы нам махнули рукой в нужную сторону. И обратные случаи неправильной кодировки (допустим, вместо «Вира!» нам кричат «Вера!) мы отнесем к той же группе. Если наш собеседник прекрасно слышит, что от него хотят, понимает все выражение так же, как и мы, но не согласен выполнить предъявленное требование, мы сказали бы, что тут имеет место расхождение в оценке ситуации, а не то «непонимание», о котором мы будем говорить в этой работе как о неуловленности смысла сообщения. Это просто несогласие, а не настоящее «непонимание». Наконец, отбросим и те случаи, когда мы упорствуем в попытке понять то, где понимать нечего: например, смысл узоров древоточащих жуков, как если бы они были надписями. Определим теперь, что мы будем считать впредь «непониманием». Это случаи, когда сообщение, то есть цепочка знаков, составлено со знанием кода, предъявлено так, как было составлено, воспринято четко и код (язык) этого сообщения нам известен, а в наши намерения входит уяснить для себя смысл сообщенного — но мы не можем этого сделать. В этом случае непонимание формулируется как логико-лингвистическая проблема, находящаяся в тесной связи с общей проблемой знака и его смысла. Именно так она и будет ставиться в предлагаемом исследовании. А именно, мы ставим перед собой цель добиться ясности по вопросу: каковы логико-лингвистические методы понимания сообщения, выработанные в западной культурной традиции (преимущественно в 20 веке), как они используются, и (это важно!) что можно противопоставить утверждениям об их оптимальности (тут основным предметом нашего внимания станут т.н. «постструктуралистские» направления).
Поставленная здесь проблема, разумеется, никак не может быть названа неразработанной. Но в таком именно виде она, насколько нам известно, прямо не ставилась. А потому все необходимые ссылки и разъяснения, касающиеся критического обсуждения отдельных «блоков» интересующих нас проблем, будут делаться прямо в тексте.
2. Возможности логического анализа сообщения: понимание как уяснение связи.
2.1. Начало логического анализа.
Логический анализ начинается с прояснения понятия хорошо построенного предложения. Во всяком случае, исторически это так: Аристотель начинает «Категории» с рассуждения о том, что «из того, что говорится, одно говорится в связи, а другое без связи» [А, т.2, 56]. И только связное высказывание может быть истинным или ложным. Поэтому важно выяснить, что, с чем и как можно связывать, чтобы получить осмысленное предложение. За этим следует экспликация правил необходимой связи хорошо построенных предложений, — иными словами, требование связности подчиняет себе уже не отдельное предложение, а их цепочку. «Первая аналитика» в первой главе утверждает: умозаключение «есть речь, в которой, если нечто предположено, с необходимостью вытекает нечто отличное от положенного в силу того, что положенное есть» [А, т.2., 120]. По сути дела, это две разные задачи: 1) описание нормальной пропозиции и 2) описание правил вывода из множества пропозиций новой пропозиции, отличной от них. В принципе, первая задача выполнима средствами структурного описания языка. Правда, построение логической грамматики приводит логиков к выводу о несовершенстве школьных правил: «Грамматика настоящего времени. с ее искусственными классификациями и необоснованными конструкциями основана на очевидном непонимании структуры языка,» — писал Рейхенбах в «Элементах символической логики», 1952 [ЭСЛ, 255]. Но, как видим, он все равно аппелирует к структуре языка, сетуя на ее плохое понимание лингвистами. А решение второй задачи выходит за эти рамки, предъявляя к отрезку речи дополнительные требования. В самом деле, выражение Аристотеля «с необходимостью» означает, что из многих вариантов продолжения речи, допускаемых языком и узуальной речевой нормой, должен быть выбран особенный, подчинившийся дополнительно наложенным условиям. Это вызывает вопрос: способны ли мы обосновать наложение новой системы ограничений? От характера обоснования зависят свойства ограничений, целесообразность следования им и степень строгости. Мы насчитали 6 типов обоснования теории умозаключения, возможно, их предложено больше: логическое (явное принятие предложений некоторой формы равносильно неявному утверждению предложений другой формы, как и неявному отрицанию предложений третьей формы), диалектическое (ограничения на связи высказываний в интересах полемической доказательности), внутриязыковое (неявное функционирование важных структур языка по заложенным в них логическим правилам), научно-иследовательское (соответствие производимой пропозициональной структуры природе вещей), общебиологическое (действие правил умозаключений на всех уровнях жизни), антропологическое (необходимость ограничений на связь суждений ради практического выживания человеческого организма или коллектива людей), причем эти обоснования не находятся в отношениях взаимного отрицания.
Естественно близок поставленному вопросу другой: в чем смысл нелогичности и в чем, до какой степени и с какими последствиями должна быть урезана коммуникация, если она должна быть подчинена результатам логического анализа? Но ответить на него можно только после описания операций, носящих название «логического анализа», и действительных результатов, к которым они приводят.
Исследованию происхождения логической аналитики посвящена книга Я. Хинтикки и У. Ремеза «Метод анализа. Его геометрические истоки и всеобщее значение», 1974 [МА]. Обычное понимание анализа как разделения на составляющие относится к «инстанциональному» анализу, — авторы поясняют: мысленному разложению предмета на части. Полное понятие анализа в геометрии, которое реально работает уже у Евклида, но детально описано Паппом Александрийским в 3 веке, более сложно. Это метод нахождения оснований, из которых доказывается утверждение теоремы. То есть задача состоит в том, чтобы подыскать утверждения, из которых, как из посылок, истинность которых известна, следует интересующий нас тезис. Поскольку мы имеем дело с высказываниями, такой анализ носит название «пропозиционального». Мы не будем разбирать геометрические приложения этого методаобщая теория его разработана Аристотелем в «Аналитиках». В «Первой аналитике», первой части, главе 38 [А, т.2, 191] Аристотель называет анализом раскрытие заключения — в смысле нахождения такой фигуры силлогизма, из которой получалось бы заключение нужного типа с взятыми терминами. Для этого, как известно, нужно отыскать средний термин — понятие, через которое оказываются соизмеримы термины заключения. Получается, что силлогистика — вид анализа, отличительный признак которого в том, что для обнаружения основания данного заключения ищется средний термин. Как выше по тексту говорит Аристотель, «Необходимое простирается на большее, чем силлогизм» [А, т.2, 186]- а сами «Аналитики» посвящены не только категорической и модальной силлогистике, содержа, например, умозаключения логики высказываний. Это значит, что основание высказывания может быть найдено и другими (кроме силлогизма по фигурам) методами «науки о доказательстве» -так определяет аналитику Аристотель. На этом определении стоит остановиться дольше. «Прежде всего следует сказать, о чем исследование и дело какой оно науки: оно о доказательстве и это дело доказывающей науки» [А, т.2, 119]. Получается, что наука о доказательстве — сама «доказывающая». Ее предмет и метод совпадают. Каков же в таком случае этот метод самоописания? Очевидно, что аналитике необходим метод автодемонстрации, который не сводился бы к проведению образцовых доказательств, но имел бы обобщающую силу, убедительно показывая необходимость распространить способ доказательства на все подобные случаи, а значит, и то, в чем именно такие случаи подобны, то есть давая их общее представление. Этим методом самоописания «доказывающей науки о доказательстве» является формализация.
2.2. Формализация логической аналитики.
То, что превышает геометрию, превосходит и нас," - сказал Блез Паскаль в трактате «О геометрическом уме», начав его первую часть словами: «Чтобы лучше понять метод ведения убедительных доказательств, надо лишь продемонстрировать тот, которому следует геометрия» [ЛР, 210]. Здесь снова ставится задача демонстрации метода. Под «демонстрацией» в логике издавна понимали полное и четкое выявление построения рассуждения. Для этого оно избавляется от всех дескриптивных терминов, которые заменяются переменными.
Введение
переменной — и было методом аналитической демонстрации, придуманным Аристотелем. Это способ, каким говорящее мышление показывает и объясняет себя себе: «Формы мышления были высвобождены из того материала, в который они погружены», как выразился Гегель [НЛ, 12]. Все случаи подстановки подпадают одному образцу, в котором место для подстановочных терминов оставляется «пустым». (В принципе, вместо буквенных переменных можно использовать местоимения -" переменные" естественного языка).
Переменные в логическом анализе играют ту же роль, что в геометрии чертеж, который тоже выступает и конкретным случаем начертания фигуры в пространстве, и обобщенной репрезентацией ее. Только переменные репрезентируют фигуры рассуждений в «логическом пространстве», по выражению Витгенштейна [ФР, ч.1, 8]. В том же «логическом пространстве» существуют фигуры рассуждений и вообще языковых выраженийоб уподоблении этого «пространства» логико-грамматического схематизма геометрическому пространству говорит сама терминология: взять хотя бы риторический термин «параллелизм», обозначающий тождество моделей построения двух соседних выражений. Обсуждая утверждение одной из них равносильно неявному утверждению и другихе) есть ли среди набора структур, которые мы можем выделить, универсальные — или разные типы характерны для разных языковж) есть ли среди них набор таких, что одинаково подходят для выстраивания всех наук — или каждый изучаемый регион реальности требует своей структуры или набора структур? и т. д.
Если вспомнить выявленные задачи логической теории (определение связного предложения и установление правил связи разных предложений «по необходимости»), то кажется очевидным, что первая из них разрешима методом формализации. Что же касается второй задачи, то попытка найти общезначимый метод ее решения указала границы формализации.
2.3. Границы формализации теории.
Основной принцип логического умозаключения, сформулированный в цитированном определении Аристотеля, можно переформулировать так: принять предложение (или группу предложений) — это то же самое, что принять одни и не принять другие предложения. Выражение «то же самое» указывает на тавтологичность. В самом деле, утверждать пропозицию «Сократчеловек» это то же самое, что утверждать такую, например, пропозицию как «Среди людей существует по крайней мере один, именуемый Сократом» и отрицать такую как «Сократ не является человеком» (при условии, что мы имеем в виду того же самого Сократа). Заменяя дескриптивные термины переменными, мы получили бы группу тавтологичных моделей различных пропозиций. Особо отметим, что их переводимость друг в друга в общем случае ограничена по направлению: к примеру, от второго из это подобие в знаменитой статье «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» Р. Якобсон ссылался на Уорфа, выдвинувшего идею «геометрии формальных принципов, лежащих в основе каждого языка» и — неожиданно — на Сталина, заметившего: «Грамматика напоминает геометрию, которая дает свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы как тела, лишенные конкретности, и определяя отношения между ними. как отношения тел вообще» [С, 473]. Учтя все сказанное о формализации — как способе самопоказывания говорящего мышления, мы лучше поймем весомые основания, которые были у Паскаля для вынесения суждения о пределах нашего постижения.
Итак, логическая аналитика не просто задает норму хорошего мышления. Логика — это учение о его пределах. По крайней мере, так она себя понимает. Тем самым логическая проблематика имеет прямое отношение к теме нашей работы: осознанию принципов и пределов нашей способности понимания.
Коротко говоря, значение формализации в том, что она позволяет поставить ряд важных вопросов и предлагает одновременно инструмент для разрешения некоторых из них: а) как построить метаязык для обобщенного описания событий мысли и речи, с помощью которого неопределенное количество подобных событий может быть обозреваемо в конечное время как один и тот же типб) какова структура этого событияв) описывается ли одно событие мыслящей речи единственной структрой — или к нему приложимо множество ихг) поскольку принимается, что существует разнообразие структур, возможна постановка вопроса о смысле этого разнообразия и целесообразности использования всего спектра структур или его ограниченияд) есть ли такие структуры, принятие которых обязывает к принятию других, то есть наших предложений уже нельзя вернуться к первому без принятия дополнительного условия, тоже выраженного предложением (скажем, «Существует единственный Сократ»). Итак, логическое следование указывает на модель, тавтологичную посылкам, и нужно только следовать направлению перехода, показанному стрелкой импликации, чтобы вынесенное суждение было логически обосновано. В таком случае можно построить формальные дедуктивные модели любой длины и разнообразных конфигураций, где все пропозициональные формы по направлению следования окажутся необходимо связаннымипри условии правильной подставки терминов на места переменных такая модель обеспечит «номологический» характер научной теории.
Идеал номологической теории, где понятия «истинно» и «формально-логическое следование аксиомам», как и «ложно» и «формально-логическое противоречие аксиомам» эквивалентны, выдвигали Эдмунд Гуссерль и логические позитивисты. О возможности вписывания наук в модель номологической теории Гуссерль писал так: «Это есть, стало быть, область, которая единственно и исключительно определяется тем, что она подчинена теории такой-то формы, то есть что для ее объектов возможны известные связи, подчиненные известным законам данной определенной формы (здесь это есть единственно определяющее). По своему содержанию эти объекты остаются совершенно неопределенными» [ФСН, 347]. Коллега Гуссерля по университету Давид Гильберт, глава Геттингенской школы логики (кроме него туда входили Аккерман, Бернайс и Беман, работавшие с Гильбертом в качестве соавторов и сотрудников), предложил программу обоснования непротиворечивости математики, основанную на рассмотрении ее языка. Этот язык нужно формулировать полно и roc-^ «точнок формулировкам на этом языке применяется логическое исчисления «гильбертовского типа» (указывается конечный запас эффективно определенных типов логических тождеств в качестве аксиом и правила, применяя которые можно получать из аксиом новые логические тождества — теоремы) — тогда «правильность их применения можно проверить, рассматривая сами символы как конкретные физические объекты, безотносительно к тому значению, которое они могли бы иметь» [OMJI, 31]. Выдвинутый идеал, как можно видеть, предполагал, что любое положение, введенное в теорию, может быть механически определено либо как аналитическое следствие ее аксиом, либо как аналитическое противоречие. Описавший эту ситуацию в своем исследовании феноменологии Гуссерля Жак Деррида иронизирует: «Подобная доверчивость весьма уязвима, да она, кстати, и не преминула быть обманутой, в особенности после открытия Геделем в 1931 году богатых возможностей неразрешимых высказываний» [НГ, 52]. (В качестве уточнения заметим, что предварительная сводка результатов Геделя была опубликована в Вене в 1930 году.).
Теорема Курта Геделя о неполноте формальных систем с рекурсивно определимыми аксиомами и правилами вывода [ТКГ, 173−198], сделавшая заключения из наличия формально неразрешимых предложений в Principia Mathematica [ПМ] Б. Рассела и А. Уайтхеда (в этом труде еще не была сформулирована теория типов, о которой речь пойдет ниже) привела к смене статуса «номологической теории». При семантической ее формулировке теорема Геделя о неполноте доказывает, что, если в множестве утверждений на некотором языке имеется подмножество истинных утверждений и задано точное понятие доказательства, истинность всех без исключения утверждений не может быть доказана. Но в п номологической теории по самому ее смыслу все утверждения полагаются истинными. Значит, при условии точной формулировки понятия доказательства в этой теории, по крайней мере одно из ее утверждений полагается истинными без доказательства (либо при некотором понятии доказательства найдется утверждение, доказуемое, но ложное). Результат Геделя в синтаксической трактовке означал, что для класса формальных систем, — о котором сам он писал, что это система, которая получается, если аксиомы Пеано надстроить логикой Principia Mathematica, — «устанавливалось неизбежное существование в каждой из этих систем неразрешимого утверждения — неразрешимого в том смысле, что ни оно, ни его отрицание не могло быть выведено из аксиом системы» [ТГН, 91]. Оказалось, что «третье» (не «истина» и не «ложь») — «дано» (неопределенное в данной формальной системе высказывание). Тем самым показано, что логическая форма теории, с одной стороны, не гарантирует истинности всех ее утверждений, а, с другой стороны, не дает убедиться в том, есть ли среди них ложные (противоречащие основаниям теории). А значит, если мы (следуя пути, намеченному Гуссерлем) содержательно проинтерпретируем эту логическую модель, так что между ее высказываниями и какой-то областью, знакомой нам независимо от теории, установится соответствие, невозможно будет делать однозначные предсказания относительно истинности или ложности любого из утверждений о фактах из такой содержательной области, пользуясь только дедуктивной моделью.
Именно здесь пролегает граница использования логической формализации языка описания. (Впрочем, существуют значительные расхождения в интерпретациях следствий из теоремы Геделя для формализма и, в частности, для программы Гильбертасм.напр. [OMJ1, 32]). Метод самопредставления мысли и языка оказывается не подходящим для предсказаний истинности или ложности утверждений, сформулированных на этом языке. Для их верификации нужно либо выскочить из формализма в другой, более богатый типами переменных формализм (эта возможность ничего не дает для решения нашей проблемы), либо совершить тот скачок, о котором говорит Альфред Уайтхед: «Язык не может быть никаким иным, как эллиптическим, предполагающим скачок воображения с целью понимания его значения в связи с отношением к непосредственному опыту» [ИРФ, 286]. Отметим к слову, что Уайтхед, которому написание вместе с Расселом Principia Mathematica, ставших для Геделя поводом к формулировке его теоремы, стоило 10 лет работы, пришел в итоге к выводу: по отношению к действительному философскому пониманию познанного «точность есть подделка» [ИРФ, 322].
2.4. Логический синтаксис.
Однако мы поведем обсуждение проблемы понимания последовательно. Вопрос «Истинно ли это суждение?» не имеет смысла для суждений с переменными на местах терминов. Можно сказать лишь, какого рода аргументы могут быть подставлены на свободные места и какого рода выражения при этом получатся. Таким образом выделяется область вопросов, которые могут получить решение без выяснения истинности или ложности утверждения и референции (предметной отнесенности) его составляющих. Это область синтаксичеких характеристик языка. Значимость проблемы синтаксиса языка Казимеж Айдукевич, представитель Польской логической школы, идеи которого о соединении синтаксического и семантического подходов стали актуальны через 30 лет после их первой публикации, формулировал так: «.наибольшее значение для логики имеет вопрос синтаксической связности. В этом вопросе речь идет о нахождении условий, при выполнениии которых словесное образование, составленное из простых осмысленных выражений, является осмысленным выражением, имеющим единое значение» [ФЛЛВШ, 283]. Иначе говоря, ставится аналитический вопрос об основаниях осмысленности. Отметим, как семантическая проблема несколько отодвигается в этом описании: сложное выражение составлено из простых, относительно которых заведомо известно, что они осмысленны, то есть критерий осмысленности простых выражений уже выработан, и этот критерий имеет, как выяснится ниже, синтаксический характер: это — правильная построенность выраженияставится задача найти условия, соблюдение которых позволило бы заключить, что и полученное сложное выражение осмысленнопоказателем такой осмысленности выступает «единство значения». Единство означает подчиненность построения выражения одному правилу. («Ведь речь едина не оттого, что слова произносятся непосредственно друг за другом» , — говорил еще Аристотель [А, т.2, 96]). Имеется в виду правило, в соответсвии с которым составляющие распределены по позициям в выражении, в которое они входят. Мы можем полностью отвлечься от значений выражений и работать по формальным правилам, регулирующим расстановку слов в высказывании и обеспечивающим осмысленную связность итогового выражения. Сам Айдукевич пишет, что идея выявления таких правил принадлежит Гуссерлю (у которого К. Айдукевич учился в Геттингенском университете в 1913). «В своем произведении Логические исследования Э. Гуссерль замечает, что отдельные слова и составные выражения языка можно разделить на такие классы, что два принадлежащих к одному классу слова могут взаимно заменять друг друга в контексте, обладающем единообразным значением, причем измененный контекст после этого не становится какой-то несвязанной последовательностью слов» [ФЛЛВШ, 284]. (Принцип контекстуальной взаимозаменяемости обсуждался еще Фреге.) В таком случае решение задачи сохранения связности высказывания состоит в том, чтобы при подстановке вместо одного выражения другого не менять роль выражения в организации высказывания. Если в предложении «Солнце светит» глагол заменить глаголом, то получившаяся конструкция сохранит осмысленность своего построения (например, «Солнце танцует» — гораздо более изощренные, но с детства знакомые примеры можно найти у Л. Кэррола), так что мы сможем сказать, как связаны его слова и выражение какого типа получилось (пропозиция). То же получится, если существительное будет заменено местоимением среднего рода, поставленным в единственном числе, третьем лице. Обратим внимание на то, что правильность этой подстановки не имеет отношения к понятиям истинности и ложности высказывания. Таким образом, правильность конструкции отделяется от истинности пропозиции (или последовательности пропозиций). В случае замены существительного местоимением «Оно» мы даже перестаем понимать, о чем, собственно, ведется речь, мы только констатируем, что она ведется связно.
В чем смысл выработки отчетливых правил синтаксической связности? Они не помогают установить, истинно или ложно высказывание, и не помогают точно установить его референцию (к какому предмету оно относится). Но они объясняют нам, в чем состоит возможность понимания. Если в высказывании нет синтаксической связности, его смысл понять нельзя (хотя и можно строить догадки о причинах или целях искажения рациональной речи). Нам может встретиться пересказ мифа, предметом которого служат существа и события, в существовании которых мы не верим и, таким образом, отказываем выражениям этой речи в том, что они имеют референцию к фактам нашего мира. Но выявление факта осмысленной связности самого построения этой речи докажет нам, что это речь разумного существа, а не случайный набор звуков. Можно искать взаимопонимания на уровне речи с разумным существом, умеющим произвольно строить осмысленные высказывания, и нельзя с существом, не умеющим этого делать. Клод Леви-Стросс рассказывает в «Печальных тропиках» о комиссии монахов ордена св. Иеронима, высланной в Санто-Доминго, теперь Гаити, в начале 16 века с целью определить, являются ли индейцы Америки разумными существами и способны ли достичь уровня разумности кастильских крестьян. «Все ответы были отрицательными» , — замечает Леви-Стросс [ПТ, 86]. Дальше он предлагает этический критерий для установления того, кто был человечней и тем самым разумней — индеец или испанский конквистадор. Но минимальным критерием человеческой разумности является синтаксическая связность.
Отсюда следует, что первое предписание, которое может предложить нам логико-лингвистический анализ, сводится к установлению возможности 1) выделения классов выражений языка, на котором происходит общение, 2) определения правил расстановки выражений, принадлежащих к выделенным классам, в высказываниях на этом языке, и 3) анализа высказываний на предмет их синтаксической связности.
Однако, как только такая задача ясно поставлена, сразу выдвигается проблема универсалий: существуют ли универсальные, общие для всех языков классы языковых выражений и правила построения из них связных высказываний? Если да, то такие универсалии стали бы всеобщим критерием разумной связности знаковой последовательности. Они послужили бы нижним пределом «терпимости» логики к правилам получения одних выражений из других, представ общим для всех говорящих (производителей знаковых последовательностей) логическим «минимумом». Однако в логическом позитивизме был выдвинут и защищался принцип конвенционального (условного) характера правил логики и математики. Это утверждение означало, что 1) ответственность за принятие той или иной системы правил берет на себя субъект, 2) после акта принятия вступает в действие объективная механика вывода, от вмешательства в которую субъект должен устраниться. Это несколько напоминает вопрос Канта о совместимости субъективной свободы и всеобщей необходимости (самих логических позитивистов эта аналогия едва ли устроила бы, и все-таки в этом вопросе нам она кажется уместной). Тот же вопрос стоял перед генеративной грамматикой: что кладет пределы субъективному творчеству в языке? Но ответ на него был дан иной. Именно поэтому он нам интересен.
2.5. Генеративная грамматика в ее синтаксическом варианте.
Генеративная грамматика — лингвистическая теория и, помимо теоретического, имела выраженное прикладное назначение. Ю. С. Степанов называет порождающую грамматику Ноама Хомского «исторически первой формой компьютеризации в лингвистике» [ЯН, 25]. Поэтому рассмотрение технических деталей этой теории, представленной к тому же во множестве вариантов, ставшей к настоящему времени составной частью широкой программы когнитивных исследований, не входит в нашу задачу. Но в таких работах Н. Хомского как «Логические основы лингвистической теории», 1965, обсуждались логические и гносеологические принципы генеративной грамматики, которые имеют отношение к решению поставленной проблемы экспликации логико-лингвистических принципов понимания.
В самом деле, общей для традиционной и порождающей грамматик целью Хомский считает «дать читателю возможность понимать», а также «самому строить и правильно употреблять» предложения на описываемом языке. Особой целью порождающей грамматики является попытка «построить правила, сформулированные в явном виде и полностью описывающие ту структурную информацию, которой располагает и пользуется зрелый носитель языка» [ЛОЛТ, 472]. Исследование направлялось гипотезами, выходящими за рамки только лингвистики. Перечислим их:
1) существуют универсальные синтаксические конструкции, управляющие порождением высказывания, о чем бы и на каком языке ни говорил человек;
2) они не относятся к явлениям, наблюдаемым эмпирическиповерхностный синтаксис разных языков не дает оснований для универсальных обобщений, они относятся к «глубинной структуре» языкового процесса;
3) методом их выявления поэтому не может быть эмпирическое описание языков, принятое в дескриптивной лингвистике, таким методом должно стать выдвижение гипотез, дедукция из них всех необходимых следствий и эмпирическая проверка этих следствий;
4) по той же причине их усвоение не может быть эмпирическим: знание их относится к универсальной и врожденной «языковой компетенции» человека и связано со строением его разума.
Исследование языка мыслящего субъекта в генеративной грамматике проводилось как конструирование процесса синтеза речи с помощью синтаксических маркеров (обозначающих категории подлежащего, сказуемого, элементов при подлежащем и приглагольных элементов, и т. д.). Синтез высказывания рассматривался как переход от максимально абстрактных синтаксических структур к конкретному высказыванию. «Память» о том, какова была исходная структура мысли, сохраняется в поверхностной структуре высказывания благодаря важнейшему для синтаксиса всех языков мира принципу структурной зависимости частей выражения: хотя элементы глубинной структуры по мере ее расчленения и конкретизации сдвигаются со своих исходных синтаксических позиций, связь между ними сохраняется и управляет их взаимными смещениями. Предложений, которые могут быть порождены с использованием правил и ограничительных принципов — бесконечно много, считал Хомский, но выявление и классификация их синтаксических структур помогает дать конечное описание этого бесконечного класса, а связывание разных типов конструкций правилами взаимного перевода (так что одно предложение может быть парафразой другого и в то же время его глубинной структурой), превращает их из набора возможных грамматических конструкций в генеалогическое дерево. Это сведение к немногим структурам и принципам объясняет, почему индивид может понять предложение, которое он никогда не встречал раньше: ему знакомы правила, то есть он знает, почему предложение построено так и что это значит для его автора — представить его именно в такой формеи это знание врожденно людям. Формой репрезентации правил «порождения» высказываний служат «деревья» («древовидные диаграммы», строившиеся также в математической логике для строгого представления конструкций, возведенных за конечное число шагов с помощью определенного набора операций [OMJI, 723]), причем в узлах этих деревьев не встречается конкретных слов языка или указаний на то, что они могли бы обозначать — здесь находятся только символы синтаксических категорий. Таково сжатое описание генеративной грамматики в ее синтаксическом варианте.
Значение генеративных исследований ясно из их основной направленности на выявление языковых универсалий синтаксического порядка. Ни к отдельному человеку в его повседневной жизни, ни к культуре не приложимы строгие логические требования непротиворечивости и разрешимости, но можно предположить действие универсальных принципов онтогенеза речи. Это предположение было выдвинуто Хомским как гипотеза, подхваченная с энтузиазмом в лингвистике и за ее пределами. Подтверждение этой гипотезы означало бы получение универсального инструмента понимания поверхностных знаковых последовательностей через реконструкцию их глубинной структуры, общей для всех говорящих субъектов. В этом смысле генеративная грамматика могла быть истолкована как концепция «естественной» (врожденной) логики человека, логического «минимума», поскольку вывод поверхностной структуры предложения из глубинной представляет собой парафразирование — заключение формально эквивалентно исходной конструкции, что дает нам критерий правильности «вывода» (термин, принятый в трансформационной теории) — сводимость поверхностного предложения к базовой структуре через конечное число шагов.
Остановимся специально на отношениях логико-синтаксической теории и грамматико-синтаксической трансформационной теории. Обратим внимание: логический вывод основан не на отношениях эквивалентности, а на отношении следования. Иначе говоря, логический вывод в общем случае не обратим (если из, А с необходимостью следует В, то обратное не обязательно верно). Тогда как трансформации в генеративной грамматике образуют замкнутый цикл. В силлогистике, например, вывод дает предложение, конструкция которого не эквивалентна конструкции исходных посылок уже потому, что в посылках — две пропозиции, а в заключении — одна. В логике высказываний заключение, А из конъюнкции посылок, А и В тоже не позволяет совершить обратный переход, выведя, А и В из А. Различие, таким образом, принципиально: логический синтаксис изучает отношения между разными пропозициями, выявленная логическая конструкция которых считается установленнойгенеративный синтаксис изучает отношения между разными представлениями одной и той же пропозиции. Логический синтаксис работает как бы в горизонтальном направлении, а генеративный синтаксис — в вертикальном. Анализ структуры отдельной пропозиции является точкой их пересечения и возможного сотрудничества. Но в условиях, когда конвенционализм в логике зафиксировал отказ от разработки универсального, для всех единого и единственного, логического синтаксиса, генеративная «минимализированная» логика представления одной и той же пропозиции могла бы претендовать на установление хотя бы правил эквивалентности различных конструкций высказывания, а тем самым и правил перехода между ними, которые послужили бы «естественным» общим знаменателем всех логических систем, выведенным на основании знания работы всеобщего механизма языковой репрезентации мысли. Как писала А. Вежбицкая, интерес к генеративной теории был во многом обусловлен тем, что Хомский обещал сказать нечто общезначимое о человеческом разуме, а значит, это был по сути логико-философский интерес. Значение генеративных исследований для логики будет подробней рассмотрено при разборе положений современной семантики, включившей в себя трансформационный компонент.
2.6. Вопрос о преемственности в генеративных исследованиях.
Похоже, что трансформационная идея имеет тот же возраст, что и логическая теория. Но, отследив предысторию трансформационных теорий (теорий эквивалентности репрезентаций высказывания), можно выделить две линии.
Начало изучению глубинных структур высказываний положил Аристотель в трактате «Об истолковании», где предложил правильное сведение предложений к последовательности простых, состоящих каждое из подлежащего и сказуемого, в свою очередь разложимого на глагол и дополнительное имя («Идет красивый человек» представляется как «Человек идет и человек [есть] красивый», далее «Человек идет» разлагается на «Человек есть идущий», получается последовательность из двух одинаково моделированных простых пропозиций) — при этом получившаяся последовательность пропозиций эквивалентна начальному высказыванию, но яснее представляет его мысль. Как видно из этого примера, Аристотель выносит за пределы глагола ту часть его значения, которая именует признак предмета («идет» преобразовано в «есть идущий»), оставляя за глаголом («есть») грамматическую функцию указания на время и логическую функцию приписывания предмету признакатем самым категория глагола подвергнута у Аристотеля не только логико-грамматическому, но и семантическому анализу. Исходная пропозиция представлена в виде объединения двух простых с помощью союза «и», который явно не присутствовал в этом высказывании, но мыслился в нем, что обнаружилось именно потому, что у подлежащего, за счет выявления семантической составляющей глагола оказалось два признака («идущий» и «красивый»), которые ему по очереди приписаны. Таким образом выявление глубинной структуры мысли у Аристотеля использовало скорее семантические, чем синтаксические критерии, поскольку понятия «сущности» (субстанции) и «признака» (акциденции) указывают на противопоставление типов значений, а не синтаксических ролей. В таком случае надо ставить задачу выявления «глубинной» семантической, а не синтаксической структуры. К подробному анализу этого вывода, вытекающему у нас из рассмотрения аристотелевского подхода к преобразованию высказываний, а у самих генеративистов — из затруднений синтаксической теории, мы перейдем ниже.
Пока упомянем о разработках синтаксического подхода. К чисто грамматическому изучению предложения обратились грамматисты и логики Пор-Рояля, введя категорию прилагательного и выявив функции типов дополнения (прямого — без предлога и косвенного — с предлогом) в пропозиции. В предложении «Гнедая лошадь родилась больной» каждое слово описывается исходя единственно из его синтаксической роли в предложении — «гнедая» как прилагательное, «лошадь» как подлежащее, «родилась» как сказуемое и «больной» как прямое дополнение. При этом логические определения авторами — Арно и Лансло — утверждавшими, следуя перипатетической традиции, что порядок слов в предложении отражает устройство вещей (существительные как знаки вещей, самостоятельных субстанций, противопоставлялись прилагательным, знакам свойств, акциденций, этих вещей, не существующих отдельно от самих вещей) — перетолковывались с использованием чисто синтаксических критериев существительными оказывались любые имена, употреблявшиеся «в дискурсе сами по себе», даже если они обозначали акциденции, а в прилагательные зачислялись и обозначения субстанций, «если их значение требует присоединения к другим именам в дискурсе», как это происходит с обычными прилагательными [ГПР, 94]). Это и дало повод Хомскому утверждать преемственность разработанного им генеративного синтаксиса картезианскому направлению логико-грамматических исследований.
2.7. Идея семантики.
Выяснение синтаксической связности или бессвязности реального комплекса высказываний проводится как установление соответствия его конструкции введенным правилам построения языковых выражений. Но само введение правил предполагает истолкование: что именно мы понимаем под «подлежащим» и под «сказуемым», что означает их связь, какое значение придается логическим терминам: «Все», «Некоторые», «И» и т. п. Из многих интерпретаций этих слов, в выборе которых мы, отвлеченно рассуждая, свободны, мы предпочитаем одну (или группу вариантов, в принципе допустимых), видимо, полагая ее более верной, чем другие (а не только лучше отвечающей определенным конструктивным задачам), и критерием выступает представление о предложении как высказывающем что-то о чем-то и этим совершающим работу осмысления внеязыковой действительности. Иначе зачем бы нам нужно было это предложение? Итак, синтаксический подход к логическому анализу позволяет отвлечься от семантических проблем и описать преобразования общепринятой формы высказывания, но вовсе не снимает вопроса об интерпретации высказываний, а наоборот, закономерно приводит к его постановке, что мы и постараемся показать.
В логике ограничение правил преобразования одних высказываний в другие делалось исходя из того, сохраняется ли истинностное значение высказывания при переводе его в другое высказываниесамо истинностное значение увязывалось с отнесением описания состояния какого-то мира, данного в предложении, к положению дел в этом миреа значит, с набором требований, которым должно удовлетворять предложение, чтобы оказаться в этом мире истинным: истина — семантическое понятие и связано с предметной отнесенностью предложения. Недостаточно выяснить, при каких условиях цепочку знаков можно считать грамматически приемлемой (синтаксическую связность), поскольку для того, чтобы это знать, надо иметь представление об условиях истинности высказывания (связи с тем, о чем оно говорит). Синтаксис — это выполнение набора формальных условий, без которых предложение не соотносимо с реальностью. Синтаксическая структура семантически мотивирована.
2.8. Синтаксические категории и логические типы.
Для начала надо установить, что вообще нужно сделать для установления истинностного значения высказывания. Сначала всем единицам надо поставить в соответствие их значения. Для этого нужно уяснить, какие значения языковых выражений каким их типам можно соотнести. Как писал Б. Рассел в известной статье «Логический атомизм» (1924), все выражения языка относятся к одному типу объектов: всякое выражение «является классом [в том смысле, что во всех его экземплярах мы признаем существенное для нас сходство] ряда шумов или очертаний соответственно тому, слышатся они или читаются» [ФЛА, 155]. Однако мы различаем среди наших выражений разные их типы. Следовательно, основанием этой классификации служит что-то, к чему выражения относятся (ибо как ряды шумов их можно классифицировать только по физическим параметрам, речь же идет о классификации выражений по их функциям в языке). Этим основанием может быть: либо их роль в организации и членении на составляющие связного высказывания (синтаксическая функция), либо их способность обозначать разные типы объектов (семантическая функция). Традиционное различение между логическими и грамматическими субъектом и предикатом служит примером того, что синтаксическая и семантическая функции выражений могут расходиться в пределах одного и того же высказывания. Из этого следует, что оба способа категоризации языковых единиц имеют право на существование. Однако распределение составляющих выражения по синтаксическим категориям часто бессильно помочь в решении проблем интерпретации. Рассмотрим такой пример. Пусть на место подлежащего в предложении поставлено слово «отношение» («Отношение это третий член помимо двух его членов»). Это заставляет нас рассматривать отношение как сущность, наподобие таких сущностей как стол или палец. На самом же деле, комментирует Рассел, символом для отношения должно быть не называющее его слово (например, «предшествование»), но пропозициональная функция, включающая переменные для обозначения возможных сущностей, находящихся в таком отношении («х предшествует у»). Для обозначения качества также служит не отдельное имя, а пропозициональная функция, на этот раз одноместная («х желт»). И, наконец, для выражения факта служит целая пропозиция (к примеру, не слово «война», но пропозиция «Идет война»). Итак, если мы не хотим утонуть в ошибках, на которые провоцирует нас свобода отнесения того или иного выражения к любой синтаксической категории, имеющейся к структуре нашего языка, мы должны ввести классификацию выражений, основанную не на их синтаксической роли, а на их способности обозначать определенные типы объектов (простые субстанции, качества, отношения, факты). Причем в целях соблюдения требований, которые логический анализ предъявляет языку, нужно привести языковые выражения, которыми мы пользуемся, в соответствие со структурой того, что мы хотим ими обозначить. То есть для выражения субстанции пользоваться отдельными именами, для выражения атрибутов — одноместными пропозициональными функциями, для выражения отношениймногоместными пропозициональными функциями и для выражения фактов — пропозициями. Этот принцип классификации языковых выражений Рассел назвал «теорией типов» выражений. С ее помощью он считал возможным критически прояснить понятия, и пропозиции науки, превращая их, по выражению Л. Виттгенштейна [ФР, ч.1,12] в «полностью проанализированные». Как показал Рассел, однозначная корреляция между синтаксической категорией выражения и его логическим типом — это задача логико-философской критики языка, а вовсе не данность. Идеал подобного соответствия достигается только в искусственно построенном языке, структурированном по требованиям логики. При этом логический тип действительно «выражается» синтаксической категорией, поскольку она отражает логическую структуру данного типа объектовтем самым знаковая последовательность действительно становится «выражением», а синтаксическая категория — категорией семантической. Итак, семантическую категорию мы могли бы определить как однозначное соответствие синтаксической категории — и логического типа объектов, которые она выражает.
Кратко остановимся здесь на расселовском термине «структура». Как ни раз и справедливо замечалось, употребление этого термина в логике крайне запутано. Следует отличать его употребление в структуралистских теориях (где структура — это набор оппозиций дифференциальных признаков, значимых для взятых объектов) и употребление термина «структура» в смысле демонстрации строения объекта (например, пропозиции). Последнее из них четко разъясняет Рассел в «Человеческом познании», 1957, в главе 3-й части 4-й. В этой главе, так и названной — «Структура» [ЧП, 267−274], Рассел пишет, что понимает под ней отношения (бинарные, тернарные и т. д.), которые установлены между элементами определенного класса. Пропозициональная структура выявляется заменой всех дескриптивных терминов переменными, так что остаются только логические термины (связки, кванторы, союзы). После этого можно судить о тождественности или различии структур двух предложений и классифицироать предложения по их структурам. Между прочим, еще в статье «Логический атомизм», которой мы занимаемся в этом разделе, Рассел установил: «В науке структура — это главный предмет изучения» [ФЛА, 164]. Задача науки — сохранить структуру изучаемого факта, то есть различное в нем обозначить различными терминами, определив отношения между ними. Через это указание на различия расселовская трактовка сближается со структуралистской. С точки зрения структурализма (значение термина «структура» было уточнено в 1929 году на Первом международном конгрессе лингвистов в Гааге), во-первых, устанавливаются единицы — значимые отличительные признаки (различия индивидов), которые и сводятся в структуру противоставлений, во-вторых, дается описание допустимых сочетаний признаков и ограничений на них, и, в-третьих, выявляются реальные системы индивидов, так или иначе актуализировавшие структуру в согласии с ее правилами сочетаний признаков (так, система фонем языка реализует фонологическую структуру). Когда Рассел говорит о фиксации значимых различий объектов (например, оттенков цвета), он, сказал бы структуралист, рассматривает актуализацию этими объектами «структуры» — то есть изучает «систему» (как именно реализована структура различий данными объектами). Ничто не мешает, однако, казалось бы, заняться также выстраиванием самой структуры различий (к примеру, структуры различий цветов спектра через их противопоставление друг другу — так, собственно, и строится спектр, где красный конец противоположен фиолетовому). Тем не менее, мы не утверждали бы, что разные употребления термина «структура» вполне согласуются. В самом деле, чем, с точки зрения учения о логических типах, следует считать «единицы» структурного анализа то есть «дифференциальные признаки» индивидов)? Рассел не согласился бы считать их индивидами, поскольку индивид есть неделимая (для данного уровня рассмотрения) субстанция, а «дифференциальные признаки», подобно противоположностям пифагорейцев, выявляются отвлечением от субстанций. Да строго говоря, субстанции в структурализме просто исключаются из рассмотрения, поскольку (это говорил еще Аристотель в «Категориях») субстанции ничему не противопоставлены противопоставлены только признаки, поэтому вместо каждой субстанции рассматриваются «пучки» присущих ей «дифференциальных признаков». Будучи неделимой единицей анализа, «дифференциальный признак» не индивид, но в то же время член отношения (оппозиции). Помня, что у Рассела членами отношений выступают субстанции (индивиды), мы затрудняемся определить тот статус, который «дифференциальные признаки» могли бы получить в рамках теории логических типов. Возможно, Рассел описал бы отношение «привативной оппозиции» так: если и только если у некоторого объекта х есть признак В, а у некоторого объекта у, наоборот, нет признака В, то х находится в отношении R к у. Однако, ясно, что из этой формулировки невозможно исключить индивиды х, у. А раз так, нельзя с помощью предложений составить осмысленное описание языка как «чистой формы», в которой «нет ничего, кроме различий» (что требовал от лингвистики де Соссюр). Во всяком случае, с точки зрения Рассела это было бы искажением структуры фактов (можно говорить только о различиях чего-то, а не о чистых различиях) и влекло бы впадение в метафизические заблуждения: «Атрибуты и отношения, хотя они и могут не допускать разложения, отличаются от субстанций тем, что предполагают структуру и что не может быть значимого символа, который символизировал бы их в изоляции» [ФЛА, 161]. Огромные усилия, предпринятые в «постструктуралистских» трудах (а до того Хайдеггером) с целью уяснить, как следует мыслить различие, показывают нам, что мы правильно поступили, оговорив расселовскую точку зрения по вопросу о том, что означает термин «структура» .
С позиций теории типов Рассел критикует традиционную метафизику. Ее заблуждения он связывает с объективными трудностями пользования нашим языком, который, в отличие от языка математической логики, мало приспособлен к эксплицитному выражению структуры (в рассел овском смысле) мысли. А обсуждение слов «сущность», «качество», «отношение», «факт» это «тема, с которой язык по самой своей сути особенно не приспособлен иметь дело» [ФЛА, 160]. Дело в том, что, делая, предположим, «отношение» предметом речи, мы почти неизбежно ставим это слово в субъектную позицию формулировки. В такой синтаксической позиции может стоять слово «отношение», но при этом мы говорим именно о слове. Подразумеваемый же логический тип может быть только показан логико-синтаксической конструкцией «х имеет отношение R к у» (символически: xRy).
Мысль о том, что многое в языке может быть только «показано», но не «сказано» (и значит, показываемое можно только молча созерцать), принадлежит Виттгенштейну и служит одной из сквозных тем афоризмов «Логико-философского трактата», на который Рассел в свой статье делает специальную ссылку: «В этом вопросе я во многом обязан моему другу Виттгенштейну. Смотри его Tractatus Logico-Philosoficus. Я не принимаю всех его доктрин, но то, чем я ему обязан, будет очевидно тем, кто читал его книгу» [ФЛА, 157]. Смысл замечания Рассела о его несогласии со многими доктринами Виттгенштейна состоит, в числе прочего, и в напоминании о том, что в «Логико-философском трактате» критикуется теория типов [ФР, ч.1,16], на важности которой Рассел продолжает настаивать. Виттгенштейн согласен с тем аспектом теории типов, который связан с решением логических парадоксов, в частности, теории множеств (с тем, что «знак-предложение не может содержаться в себе самом», то есть что предложение не может описать, а может лишь показать само себя). Но он считает, что «ошибка Рассела обнаруживается в том, что при установлении знаковых правил ему требовалось говорить о значении знаков», между тем как «значение знака не должно играть какую-либо роль в логическом синтаксисе». (То есть понятие семантической категории излишне в теории знаков). Эти положения «раннего» Виттгенштейна, видимо, обсуждавшиеся им в беседах 20-х годов с Морицем Шликом, легли в основание программы Венского кружкавплоть до работы Карнапа Logische Syntax der Sprache [ЛСР], Wien, 1934 («под языком мы понимаем. систему правил образования и преобразования, касающуюся того, что называют выражениями, то есть конечную упорядоченную серию элементов любого вида» [ПН, 160]), можно говорить о синтаксической трактовке логики языка его участниками. В англоязычной работе Philosophy and Logical Syntax [ФЛС], 1935 Рудольф Карнап все еще утверждал, что все вопросы структуры пространства и времени являются вопросами синтаксиса. Эту позицию критиковали представители Польской школы, несмотря на то, что исследования в этой области, по словам Я. Лукасевича, «берут свое начало в Варшаве, где первый импульс им придал проф. Лесьневский, а систематически обосновал д-р Тарский, работы которого оказали влияние на последующие исследования Карнапа» [ФЛЛВШ, 212]. В частности, К. Айдукевич, к мнению которого присоединяется Я. Лукасевич, писал: «Безоглядных сторонников Венского кружка в Польше нет». Расхождения касались невозможности элиминировать проблемы значения. В невозможности отказа от разработки теории значения пришлось убедиться еще во 2-й половине 30-х годов, когда, по замечанию Ежи Пельца [С, 143], «последовало, как в логике, так и в философии, восстановление в правах семантики». Уже в работе Introduction into Semantics and Formalisation of Logic [ВСФЛ], 1959, Карнап писал, что проблемы философии относятся к семантической структуре языка науки [ПН, 139]. Словом, из этого исторического экскурса вытекает, что Рассел весьма предусмотрительно и проницательно связал типы выражений с типами выражаемого и его структурой.
Попутно заметим, заканчивая обсуждение темы отношений между синтаксическими категориями языковых выражений и логической структурой объектов, что мысль о лингвистической относительности — то есть о том, что устройство языка влияет на представление его носителей об устройстве мира, — высказанная В. Гумбольдтом, близка и Расселу. Перечитаем его фрагмент: «Я думаю, что влияние языка на философию было глубоким и почти неосознанным. Если мы не хотим, чтобы это влияние ввело нас в заблуждение, необходимо его осознать и обдуманно спросить себя, насколько оно законно. Субъектно-предикатная логика с субстанциально-атрибутивной метафизикой как раз представляет интересующий нас случай. Сомнительно, чтобы последние были изобретены и людьми, говорящими на неарийском языкепо-видимому, они определенно не возникли в Китае» [ФЛА, 154]. Но Рассел полагает тем не менее, что логико-философская критика навязываемых языком метафизических моделей может быть действенной, на каком бы языке она не велась, если она будет внимательной к структуре различий и сходств наблюдаемого мира, стараясь выразить (то есть «показать») эту структуру как можно яснее.
Из этого обсуждения мы можем вывести для себя следующее логическое предписание: 1) установить основные элементы структуры мира (Рассел в виде правдоподобной гипотезы предложил набор: субстанции, атрибуты, реляции и факты), 2) поставить им в соответствие синтаксические конструкции языка, 3) следить за тем, чтобы структура речи соответствовала структуре мира («показывала» ее).
2.9. Интенсиональные модели.
Следующий пример взят из статьи П. Анри в [КС, 165]: «Как объяснить, что высказывание „Профессор и Пьер поженились“ грамматично, в то время как „Кюре и Пьер поженились“ аграмматично?» Это невозможно сделать, основываясь только на анализе синтаксических категорий, но и указания того, к какой семантической категории относится выражение, тоже недостаточно. Семантическая категория выражения указывает, к какому типу объектов оно поистине приложимо. Но «профессор» и «кюре» обозначают объекты одного типа. Тут требуется разъяснение того знания, которое имеется у говорящего по поводу того, кто может занимать место профессора и потому называться словом «профессор» (а именно — в настоящее время — как мужчина, так и женщина) и кто может занять место католического кюре (в настоящее время — только мужчина, которому — в наши времена — не дозволено жениться на Пьере). Итак, к одному и тому же объекту в одно время и в одних обстоятельствах приложимы некоторые имена, а в другое и в других обстоятельствах — нет, зато, может быть, приложимы другие. Получается, что нужно учитывать не только то, каковы объекты, но и то, каковы правила приложения конкретных имен к этим объектам. Эти правила, приводящие пользователя языка от выражения к объектам, которые оно может обозначать, приходится отличать от самих объектов (уже потому, что они могут меняться). Это требует расширения теории значения за счет следующих различений: а) предметы, которые могут быть обозначены данной единицей (ее экстенсионал), б) набор параметров, известных пользователю языка и релевантных для обнаружения тех предметов, которые обозначаются данной единицей (интенсиональная модель), и в) сама зависимость обнаружения таких объектов от характера заданных параметров, то есть функция от интенсиональной модели к предметам (интенсионал).
Такое понимание процедуры установления значения выражения (от знака через интенсиональную модель к экстенсионалу) в современной логике берет начало от Фреге, писавшему, соответственно, о знаке, смысле и значении в известной статье «О смысле и значении», 1892 [СЗ]. Терминами «интенсионал» и «экстенсионал» заменил фрегевские понятия смысла и значения Р. Карнап в трактате «Значение и необходимость» [ЗН, пар. ЗО]. Но сами термины extensio («растяжение») и intensio («натяжение») употреблялись еще схоластами для различения предметной совокупности, которая «покрывается» понятием, — и знания о ней, которое использовано при формировании ее понятия. Когда в структуралистских теориях различаются, с одной стороны, параметры, релевантные для описания объекта (например, для описания фонемы) и для включения его в интересующий исследователя класс (класс фонем данного языка) — и, с другой стороны, сам объект (физический звук), то тем самым в теории задается интенсиональная модель этого объектаспособ ее заданиявыбор одного из противопоставленных параметров (например, из пары глухость-звонкость выбор звонкости) при сохранении соотнесенности с другимэта соотнесенность и образует «натяжение» (intensio), позволяющее фонеме пребывать в качестве различенного объекта мысли. Ясно вместе с тем, что причиной существования физического объекта (звука) выступает не это «натяжение» между членами выделенной в мысли оппозиции, а физиологические процессы артикуляции. Хотя причины существования и основания мыслимости — не одно и то же, между тем, как мы мыслим объект (интенсиональная модель), и тем, что мы в каком-нибудь из возможных миров обнаруживаем (или нет) такой объект (экстенсионал), имея его знак, есть зависимость — функция, которая, собственно, и называется «интенсионалом» (или «карнаповым интенсионалом») этого знака.
Рассмотрим теперь следствия, вытекающие из этой логической концепции для того учения о понимании, которое мы пытаемся обнаружить и отчетливо сформулировать, разбирая логико-лингвистические теории.
У Фреге функция, приводящая от знака к обозначенному объекту, как мы говорили, называлась «смыслом» (Sinn) этого знака. Поскольку все носители данного языка должны совершить указанный переход от знака к объекту, смысл слов языка не может считаться фактом индивидуальной психики (у нас об этом стабильном на некотором отрезке времени и общем для всех «языковом знании» писал Бодуэн де Куртене) — он имеет объективный характер и обладает собственным единством, так что все пользователи языка, если они хотят понять последовательность знаков этого языка, стремятся «исполнить» этот смысл. Психические обстоятельства конкретного индивида оказывают влияние на его способность к такому «исполнению», но не на сам языковой смысл. Очевидно, как важна эта концепция объективности смысла для обоснования возможности взаимопонимания.
Правда, полностью приложима она к проблемам взаимного понимания исследователей, работающих в науках, где наборы параметров, релевантных для опознания объекта, задаются эксплицитно, как можно более точно и однозначно, то есть где интенсионал термина задается правильным определением. Точное описание этой процедуры можно найти, например, в классической статье К. И. Льюиса «Виды значения», 1943 [С, 213]. Но, констатирует Б. Холл Парти («Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность», 1979), подводя итог разбору словоупотребления в повседневной речи, «когда термины не являются терминами объектов, для которых построена научная теория, то нет оснований говорить, что их интенсионалы полностью фиксированы» [С, 300]. Если возможность взаимопонимания предполагает распространение принципов построения интенсиональных моделей, принятые в точных науках, на возможно более широкие области, но неизбежно остаются области жизни, не охваченные действием принципов точного моделирования смысла, то взаимопонимание нужно признать принципиально ограниченным. Но действительно ли для повседневного взаимопонимания требуется научная точность выражений? Гуссерль, начавший с обоснования арифметики и в статье «Философия как строгая наука» подчеркнувший значение точных формулировок для взаимного понимания поколений исследователей, не связанных между собой личным общением, заметил, однако, что уже в ботанических классификациях не приходится говорить о точности терминологии, сравнимой с математической (например, записать «ланцетовидная форма листа» -не то же самое, что построить формулу соответствующей кривой), но что такой точности ботанике и не требуется: «И самая совершенная геометрия, и самое совершенное практическое овладение ею не в помогут описывающему природу естествоиспытателю выразить (в точных геометрических понятиях) именно то, что он — просто, понятно и вполне адекватно — выражает словами «зазубренное, насеченное, в форме чечевицы, зонтичное, -сплошь понятия существенно и неслучайно неточные и именно потому нематематические» [ИЧФФФ, кн.1, 155]. Так что математическая точность моделирования смысла нужна далеко не везде и не может выступать главным принципом взаимопонимания. Рассел тоже повторял, что наши выражения «заражены неточностью, в результате чего. не всегда ясно, применимы они к данному объекту или нет», но и он написал, что идеальный логический язык, «конечно же, совершенно бесполезен для повседневной жизни» [ФЛА, 161−2].
Итак, согласно этой логико-семантической концепции, для того, чтобы установить значение выражения, надо проделать в своем сознании путь (общий для всех, кто собирается правильно использовать данный язык), ведущий от набора точных или неточных параметров (какие это параметры — вопрос спорный, но удобней, если явно перечисленные в определении, унифицированные параметры будут сведены к наименьшему количеству) к объектам актуального или возможного мира.
2.10. Композиционность значения.
Согласно принципу композиционности значения, предложенному Гуссерлем и подробно разработанному Айдукевичем, значение (интерпретация) сложного выражения зависит от значений связанных в нем единиц и вычислимо исходя из правил такого связывания, переводящих значения этих единиц в новое, надстроенное над ними значение. Объединяя по заданным правилам значения составляющих, мы доходим до значения пропозиции. Принимается обычно (во «фрегевских» системах логики), что экстенсионалом пропозиции выступает «истина» или «ложь» (иначе экстенсионал предложения совпадал бы с экстенсионалом сложного описательного имени) — а интенсионалом ее является все то (из сказанного), что может быть приложимо к положению дел в том или ином возможном мире и что в случае приложимости делает предложение истинным в этом мире, а в случае несоответствия ложным в нем. Истинность или ложность предложения — функция, с одной стороны, от его интенсионала (содержащегося в нем описания положения дел), а с другой стороны, от процедуры его верификации (проверки на соответствие фактам). Этот интенсионал предложения и собирается по частям как «композиция» смыслов выражений. Конструкция пропозиции включает термины для имен, обозначающих предметы, и термины для функторов — «ненасыщенных» выражений, обозначающих качества (одноместные функторы) или отношения (многоместные функторы). Примеры имен: «Петр», «усадьба Толстого». Примеры одноместного функтора: «рост-», «-есть человек». Важно, что в первом случае, подставляя на пустое место аргумента — показанное черточкой — имя: «рост Петра», мы получаем тоже имя, но сложноеа подставляя во втором случае имя «Петр», получаем уже пропозицию: «Петр есть человек». Таким образом, можно установить правила, по которым, в зависимости от типа функтора, мы будем получать при подстановке разные типы значений (величину для выражения роста Петра в первом случае и «истину» во втором случае, если только «Петр» не является в данном употреблении кличкой животного, не относящегося к классу людей). Примеры двухместных функторов: «-находится между-», «-и-». Здесь подстановка предполагает разные типы аргументов: имена в первом случае и пропозиции во втором, но в обоих случаях значением выражения будет один из членов пары {истина, ложь}. Сказанного достаточно, чтобы дать представление о возможном разнообразии композиционных правил.
Заметим, что именно принцип композиционности значения делает возможным сознательное конструирование пропозиций из элементов, введенных по определению (соглашению) — и такое конструирование, проводимое за конечное число шагов, понимается как основная операция, проясняющая понятия, суждения и рассуждения науки. Конструирование научных теорий на языке логики с целью их прояснения многие философы аналитического направления считают основной задачей философии.
Вытекающие отсюда выводы для теории понимания можно сформулировать кратко: 1) установив значения отдельных выражений, надо переходить к рассмотрению того, с использованием каких правил они объединены и каким типом значения будет, согласно правилам, обладать итоговое выражение- 2) исходя из смысла терминов и типа составленных из них выражений, определить смыслы составных выражений (строгая формулировка соответствующих правил дана в статье Д.Льюиза.
Общая семантика", 1972 [С, 263−7]), как для выражения «рост Петра» — «высота, равная п метрам» — 3) исходя из полученной интенсиональной модели выражения, установить его референцию в интересующей нас группе возможных миров, к примеру, имея пропозицию «Рост Петра равен 2 метрам», мы должны найти в подразумеваемом мире Петра и померить его рост, тогда мы узнаем, какое значение приписать нашему высказыванию: истину или ложь.
2.11. Контекстуальность значения.
Значение выражения зависит от контекста, если он относится к типу интенсиональных контекстов, то есть является предложением с установкой на изложения мнения, сформулированного в другое время или в другом месте и, возможно, другим человеком. Такую установку называют «пропозициональной», предложения с пропозициональной установкой часто включают союзное слово «что» («Петр сказал, что пора выходить»), глаголы мышления, мнения, знания («Я думаю.», «Петру кажется.» и т. п.) или модальные выражения («Возможно, что.). Дело в том, что при оценке такого высказывания приходится учитывать интенцию говорящего — то, что он хотел (а часто и то, что он не хотел) высказать о некотором предмете, что он мог (и что не мог) сказать на эту тему, а также и то, что пересказывая чье-то мнение, говорящий не обязательно ручается за его истинность. У. Куайн [РМ], например, на этом основании считал такие высказывания «референтно непрозрачными». В самом деле, не ясно, какую референцию мы должны приписать именам «заяц» и «овца» в предложении: «Дети видели в небе то зайца, то овцу». Либо надо признать, что имена «заяц» и «овца» имеют больше, чем одно значение — но разрыв с фрегевским принципом однозначности может повести к очень серьезным для логики последствиямлибо оставить за ними основные значения (зоологические), а то, что видели дети, поименовать особо — но это поведет к бесконтрольному росту списка именлибо заменить имена «заяц» и «овца» сложными именами «предмет, похожий на зайца» и «предмет, похожий на овцу» — но такая замена является интерпретацией психологического состояния детей, не располагающей надежным критерием истинности (а вдруг дети видели не облака, похожие на животных, а именно этих животных, допустим, провозимых на воздушном шаре, или они грезили).
Для нас дело состоит не в том, чтобы выбрать какое-нибудь из обсуждавшихся в логике решений, а в том только, чтобы зафиксировать логическое предписание: 1) установить тип контекста, в который помещено выражение, 2) учитывать этот тип при интерпретации выражения. Даже просто отдать себе отчет в том, что в данном контексте интерпретация может быть неоднозначной, полезно, чтобы не сделать грубых ошибок при распознании смысла высказываний собеседника.
2.12. Промежуточные выводы.
Учет соглашений (писанных и неписанных) по приписыванию значения отдельным выражениям, логического типа их значения, особенностей композиции значений, типа контекста высказывания и возможности верификации его предложений — таковы предписания модельной семантики, существенные для осознания нашей способности понимания связных выражений.
Конечно, прозрачность искусственно проанализированного языка, из которого отфильтрованы все неоднозначные выражения и конструкции, при несомненной логической значимости имеет ограниченное философское значение. Логический анализ языка показывает, в силу нарушения каких требований логики возникают двусмысленности и антиномии, но не помогает объяснить, как все-таки возможно реальное понимание людей, думающих и говорящих на «смутных» языках, которые усвоены ими с рождения, в ситуациях, практическая неотложность которых не просто исключает исправление по требованиям логики употребления языковых знаков, но часто требует нарушения этих требований ради достижения нужного коммуникативного эффекта.
Если теория значения все-таки считает необходимым представить себе, как это происходит, ей надо предпринять новые шаги и ввести новые понятия и методы. Следующий вопрос, решением которого занялась семантическая теория, можно представить так: как ввести в теорию моделей трансформационный компонент?
В 1979 году, в цитированной выше статье Барбара Холл Парти писала: «в течение последних 10 лет лингвисты и философы продолжали заметно сближаться на почве общего интереса к проблемам семантической теории и семантического описания естественных языков». Главной в этой фразе была завершающая часть, сообщавшая, что сближение происходит на почве осмысления языков естественных, а не искусственных (построенных сознательно и потому легко исчислимых). Обращение к анализу естественного языка и повлекло сближение в рамках общей семантики модельного и трансформационного направлений исследования и к получению новых результатов в лексической семантике.
2.13. Сближение модельной семантики и трансформационной теории.
Метод общей семантики связан с (металингвистическим) пониманием ее не как науки о наблюдаемых фактах языка, а как теоретического конструкта — специально построенного метаязыка (принципиально не применимого к себе самому, что ограничивает его универсальность), на котором можно:
1) оговорить рекурсивные семантические правила, по которым для предъявленных выражений языка-объекта устанавливаются значения (общий обзор соответствующих понятий и правил интерпретации дан выше), но и.
2) формулируя гипотезы о порождении значения целого выражения исходя из его замысла, говорить о связях и процессах в языке-объекте, которые не могут наблюдаться непосредственноимеются в виду трансформации глубинной структуры фразы по направлению к ее поверхностной реализации — давая возможность объяснить, как производится связный дискурс и как возникает бессвязность.
Первое из указанных направлений восходит к традиции референтной семантики, предложившей общезначимые правила интерпретации и восходящей к объективистской логике Фреге, а второе связывается с возрождением картезианской парадигмы генеративизмом — то есть с рациональной реконструкцией универсальных оснований мышления, ответственных за синтез высказываний на любом языке. В первом направлении выясняется, каковы объективные процедуры, которые позволили бы любому пользователю языка однозначно и достаточно просто интерпретировать предъявленное ему выражение, начиная с интерпретации отдельных составляющих и заканчивая составленных из них целым высказыванием. Во втором направлении изучается, согласно каким принципам порождаются те самые языковые выражения, которые предъявляются к интерпретации, причем направление рассмотрения обратное — от целого к составляющим. На первый взгляд это различие — от частей к целому, от целого к частям — впечатляет. Но, во-первых, понимание особенностей такой категории, как «предложение», в традиционном анализе не следует за пониманием категории «термин», потому что предложение — не сумма терминов, а связная мысльи дескриптивные, и логические термины обретают смысл в зависимости от того, зачем они нужны в предложении. А, с другой стороны, то, что в генеративном синтаксисе единицы лексикона вставляются в уже готовую конструкцию, не снимает задачи уяснения организации лексикона и категоризации его единиц. Роль субъекта в порождении высказывания, конечно, акцентирована в генеративной грамматике сильнее, но на деле генеративная теория рассматривает не индивидуальные особенности говорящих в произведенных ими выражениях, а то, что вкладывается в выражения «языковой компетенцией», имеющей универсально-рациональные основания, причем ради элиминации того, что индивидуум «натворил» в высказывании от себя лично. С другой стороны, в модельной семантике учитывается не только то, знаки каких вещей использованы в выражении, но и то, как они понимаются унифицированным носителем языка (тезис Фреге о том, что предметное значение выражения зависит от его смысла). После этих разъяснений их сближение в рамках общего подхода не покажется удивительным.
Добавление к модельной семантике трансформационного компонента означает, что для некоторых (по крайней мере) случаев полезно обратиться от предъвленного выражения к такому его представлению, которое, сохранив то же содержание, устранило бы возможность его двусмысленного истолкования — оно выявило бы, что имел в виду говорящий, путем указания на то, какими путями структурировалась его мысль: синтаксисты понимали под этим — что первоначально служило предметом высказывания (подлежащим), что говорилось об этом предмете (глагольная группа) и как уточнялось (окружение подлежащего, дополнения при глаголе: прямое и косвенное), наконец, какие конкретно трансформации претерпевала исходная конструкция, пока не приняла тот вид, который был предъявлен получателю (описываются виды возможных трансформаций). Как бы то ни было, анализ значения естественного выражения оказался мыслим с учетом возможных путей его синтеза.
Такое синтетическое представление высказывания получает в классической генеративной теории вид дерева с общей глубинной структурой вида: S.
VP NP, где S — «предложение», VP — «глагольная составляющая» (группа сказуемого), NP — «именная составляющая» (группа подлежащего).
Затем обе составляющие раскладываются на составные элементы грамматического свойства и ветвятся, в конце концов, уже после вставления слов из лексикона, категории в нижних узлах конструкции замещаются конкретными словами, из которых состоит готовое высказывание. С точки зрения интерпретатора, которому предъявлено готовое высказывание, нижние узлы заняты терминами, а более высокие — производными от них «композициями» смыслов выражений. О производности смысла верхних узлов можно говорить только с точки зрения интерпретатора (на этой точки зрения и стоит представитель классической референтной семантики в духе Фреге), а не автора высказывания, — с точки зрения синтеза высказывания уместней считать, что это дерево растет ветвями вниз: «производными» от общего замысла оказываются нижние узлы. Уместность эта теоретического характера — она позволяет четко моделировать процесс порождения, но и Хомский писал, что абсурдно допускать, будто носитель языка сначала выбирает тип предложения и членит его на субкатегории, и только на последней стадии решает, о чем он собирается сказать [ЯМ, 129−130]. Это признание показывает, насколько поиск более адекватной реальному процессу модели (порождающей семантики, а не синтаксиса) мотивирован изнутри генеративной теории.
2.14. Глубинные падежи.
О том, насколько переход к генеративной семантике мотивирован экспериментальной работой в области психои нейролингвистики, может дать представление книга Т. В. Ахутиной «Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса», 1989. Но прежде отметим, что в СССР еще Л. С. Выготский в книге «Мышление и речь», 1934, задолго до Хомского, сформулировал идею генеративной грамматики, исследуя детскую речь (чем позже занимался и Хомский), однако, по сути это была идея генеративной семантики. Выготский писал: «По своему значению первое слово ребенка есть целая фраза — односложное предложение. В развитии семантической стороны ребенок начинает с целого, с предложения, и только позже переходит к овладению частными смысловыми единицами., расчленяя свою слитную, выраженную в однословном предложении мысль на ряд отдельных, связанных между собой словесных значений» [MP, 285]. Первым шагом в этом расчленении выступает выделение «психологического сказуемого» — то, что необходимо подчеркнуть в ситуации с точки зрения ее значимости. «Мысль накладывает печать логического ударения на одно из слов фразы, выделяя тем психологическое сказуемое, без которого любая фраза становится непонятной» [Там же, 292]. Ахутина предлагает в своей книге обзор дальнейших исследований в этой области. Итак, уже по Выготскому порождение предложения происходит в соответствии с требованиями понимания. Исследования Э. Бэйтс, П. Гринфилда и П. Жуковой в США показали, что маленький ребенок «оречевляет самый значимый для него, информативный элемент целостной ситуации, а остальная ее часть подразумевается, остается на сенсомоторном уровне» [ПР, 41]. Это та самая «предикативность» детской (и устной разговорной) речи, на которую обращал внимание Выготский. В дальнейшем, на этапе построения простых (двуи трехсловных) фраз, одно и то же слово в речи детей может играть разные семантические роли в зависимости от ситуации, но сами эти роли повторяются, а слова, выбираемые на них, занимают устойчивую позицию в высказывании (на первое место обычно выносится агенс) [Там же, 43]. В терминах генеративной теории можно сказать, что выбор глубинных подлежащего и сказуемого зависит от понимания ситуации, и типичный порядок слов на этом уровне (его синтаксис) обусловлен степенью выделенности элементов ситуации по их важности. Следовательно, глубинный синтаксис есть отображение глубинной семантической модели ситуации. Не только в детской, но и в мимической речи глухих часто можно наблюдать выход наружу этого, глубинного этапа построения высказывания: для нее характерны препозиция логического субъекта и называние действия или качества после называния предметов, которым они атрибутируются, например: «Мальчик яблоко красное кушать». Исследовавший эти процессы А. А. Леонтьев называет такое построение, вслед за Л. С. Выготским, «семантическим синтаксисом». Л. С. Выготский сказал бы, что мы видим здесь переход от плана внутренней речи к семантическому плану, на выходе получая набор слов, которым приписаны характеристики, обусловленные семантическим синтаксисом — фиксированной стратегией ориентировки в подлежащей обозначению ситуации. Эти наблюдения не ограничиваются языками, где препозиция грамматического субъекта типична. По данным Д. Гринберга, на Земле только 2% языков имеют постпозицию грамматического субъекта, к примеру, язык тагалог, — однако и в этих языках детям легче строить конструкции с препозицией агенса. Значит, семантический синтаксис можно считать универсальным (на глубинном уровне порождения предложения, который в ранней детской речи и в ряде других случаев совпадает с поверхностным). Но можно ли утверждать общезначимость схемы подлежащее-сказуемое для семантического синтаксиса? «В соответствии с анализом Гринфилд и Смита, — пишет Ахутина, — дети, находящиеся на стадии однословных высказываний, употребляют слова со следующими семантическими ролями: агенс (деятель), объект, действие (состояние), реципиент (кому?), владелец (чей?), место действия. В основу этой классификации легла идея глубинных падежей Ч. Филлмора» [Там же, 42].
В конце 60-х годов Ч. Филлмор оспорил необходимость выделения глубинной структуры с ведущей ролью VP и NP. Вместо этого представления (восходящего к субъект-предикатной логике) он предложил другое (известное из логики отношений). Свое изложение мы будем строить на работе Филлмора «Дело о падеже», 1968. Предложение разлагалось им на предикат и его аргументы, причем типы аргументов фиксировались как «глубинные падежи». Грамматически глубинная структура предложения описывалась как связь глагола с именами, каждое из которых выражает один из универсального набора падежей (список Филлмора: агентив А, Инструменталис I, Датив D, Фактитив F, Локатив L, Объектив О [ЗЛ III, 164]). В зависимости от того, какие глубинные падежи образовывали «падежную рамку» высказывания, выбирался тип глагола с соответствующей сочетаемостью. Глубинные падежи понимались как универсальные конституенты анализа события. «Смысл падежей образует набор универсальных. понятий, идентифицирующих некоторые типы суждений, которые человек способен сделать о событиях. — суждений о вещах такого рода как «кто сделал нечто», «с кем нечто случилось», «что подверглось некоему изменению» «[ЗЛ III, 163]. Каждый падеж наделен обязательными признаками (например, А и D противопоставляются остальным по признаку одушевленности). Поскольку семантическое описание языка должно соотнести значения с поверхностной структурой, важно подчеркнуть, что система глубинных падежей не соотносится прямо с конкретно-языковыми выражениями (скажем, в русском языке Локатив выражается и предложным — где? и винительным — куда? падежами). Что же касается синтаксиса, то он оказывается искусственным уровнем, «свойства которого имеют отношение скорее к методологии рассмотрения грамматистов, чем к природе человеческого языка» [3JIIII, 253].
Аргументы Филлмора против описания базовой структуры языков как пары «подлежащее — сказуемое» можно поделить на 2 группы. Первые утверждают несоответствие ее одним фактам языка и слишком прямолинейное соответствие другим. Например, понятие «подлежащее» носит поверхностный характер: в глубинной структуре термины, ставшие на поверхности в позицию подлежащего, могут играть различные падежные роли (А, I, О), следовательно, это понятие не имеет к базовой структуре никакого отношения. Само признание обязательности «подлежащего» мотивировано его необходимостью в поверхностной структуре английского языка. Логико-философские аргументы второй группы сводятся к тому, что ситуация не предлагает критерия для выделения одного из аргументов представляющего ее предиката в качестве «подлежащего» всего происходящего, ибо является отношением ее участников друг к другу. Вся новая логика (Фреге, Витгенштейн, Рассел, Уайтхед, участники Венского кружка и Польской школы) утверждалась на идее многоместной (реляция), а не исключительно одноместной (атрибуция: S — Р) пропозициональной функциипервая является обобщением структуры факта (события), а вторая — лишь ее частным случаем. Соотношение падежей и выражает структуру события на глубинно-семантическом уровне. Глагол выражает объединяющую событие процессуальность.
Однако глубинные падежные различия нейтрализуются в поверхностной структуре: установлением грамматического подлежащего («номинатива»), установлением приглагольного дополнения («аккузатива») и номинализацией (чаще всего в форме генетива") — независимо от роли соответствующих слов в глубинной структуре. Вспомним упомянутые исследования смысловой нагрузки глубинного порядка слов на примере ранней детской речи: там глубинные семантика и синтаксис еще не противоречат друг другу. Чтобы понять, как в действительности автор сообщения воспринял описанную им ситуацию («сцену», как говорит Филлмор), надо иметь критерии для восстановленияя глубинной падежной структуры.
Раз в поверхностном высказывании структура значения может быть стерта, предписание, которое может предложить нам генеративная семантика в ее «падежном» варианте таково: 1) выработка трансформационных методов реконструкции глубинной падежной структуры сообщения 2) с целью восстановления подлинной структуры сообщаемого факта.
Обратим внимание на следующее высказывание Филлмора по поводу такой реконструкции: «Во всяком случае ясно, что любая попытка соотнести знание человеком значений слова со способностью интерпретации текстов неизбежно приведет к признанию важности внеязыковой информации в процессе интерпретации» [3JIIII, 347]. Оно предохранит нас от мнения, будто можно добраться до смысла сообщения, исходя только из него самого или интралингвистических знаний. Но отметим, что в Падежной грамматике имеются, тем не менее, важные указания по поводу раскопок глубинной структуры и формальные описания собственно лингвистических процедур (среди них положения Филлмора о том, что каждый глубинный падеж содержится в пропозиции только один раз, о порядке занятия ими синтаксической позиции подлежащего и т. д.).
После этого рассмотрения генеративных теорий мы могли бы составить для себя такое представление о ситуационном порождении речи. Первоначальная обработка перцептивных данных происходит в плане внутренней речи. Именно тут возникает состояние, знакомое каждому человеку, но не поддающееся описанию: сознание понятости смысла ситуации. По сути это появление возможности сформулировать высказывание о ней и произвести, таким образом, артикулированный, «обозримый», понятный себе и другим смысл. Эксперементальные исследования внутренней речи показывают, что и в том случае, когда нам кажется, будто оречевления совсем не происходит и что мы просто «мыслим», на самом деле можно регистрировать микродвижения языкапри выполнении привычных мыслительных операций они делаются слабее и реже, не затухая, однако, совсем. В работе «Внутренняя речь и мышление», 1967, А. Н. Соколов пишет: «Редукция (уменьшение) речедвигательных импульсов имеет место, прежде всего, при выполнении стереотипных заданий. Значительная редукция речедвигательных импульсов наблюдается при чтении текстов на родном языке, что, несомненно, может быть объяснено доминирующим воздействием в этом случае зрительных компонентов речи (графических образов букв и слов)» [ВРМ, 165]. Иначе говоря, понимание ситуации может иметь характер зрительного узнавания, но подкрепляется речевым производстом, когда требуется уяснение логических связей и проведение «логических операций» над элементами ситуации: тут-то и происходит «возникновение сильных речедвигательных импульсов скрытой артикуляции» [Там же]. Именно здесь вводится в действие «семантический синтаксис», дающий возможность логически расчленить картину и поставить ее элементы в определенные отношения друг к другу в зависимости от того, как мы поняли эти отношения. А поскольку аргументы Филлмора в пользу многоместного реляционного отношения, которым логико-грамматически фиксируется строение события, кажутся нам убедительными, мы сказали бы, что аппарат Падежной грамматики способен развернуть на этом этапе порождения речи свои объяснительные возможности. Формирование поверхностного высказывания исходит далее из набора синтаксических вариантов расстановки слов, то есть глубинная грамматика «живых категорий» (Выготский) взаимодействует тут с грамматической структурой языка.
Рассмотрим напоследок положения генеративно ориентированных семантических теорий, стоящих в стороне от Падежной грамматики.
2.15. Структурные трансформации.
Структурное описание единицы значения предложено в известном «Объяснительном словаре теории языка», подготовленным А. Греймасом, автором ряда работ по структурной семантике, и Ж. Курте, опубликованном в 1979 году в Париже и с сокращениями перепечатанном в сборнике «Семиотика» [С, 483 551]. В Словаре учтены не только французские, но и англосаксонские исследования, и работы на русском языке (в первую очередь В. Проппа, но также и Ю. Лотмана).
В ответ на вопрос, что такое значение, выделяется его элементарная структура, где дифференциальными признаками выступают пока не содержательные элементы, а логические отношения противопоставления: 1) по разным степеням или формам выраженности одного и того же признака (Ане-А, противоположение, или контрарность) и 2) по наличию или отсутствию признака (А-А, противоречие, или контрадикция). Эта структура противопоставлений является простейшей матрицей порождения различий и представляется в виде семиотического квадрата (carre semiotique). Под ним понимается «зрительное представление логической организации (членения) той или иной семантической категории» [С, 496]. (Происхождение семиотического квадрата от четырехчленных противопоставлений Аристотеля, приведенных им в трактате «Об истолковании», и от средневекового школьного изображения их в виде «логического квадрата», вполне очевидно.).
А не-А.
— не-А — А.
Эта структура противопоставлений способна «породить» микроуниверсум дискурса. Для анализа ее работы в реальном повествовании выделяются все актанты (существа или вещи) взятого отрезка дискурса, их значения разлагаются на семы — каждый актант характеризуется набором его сем, — а все семы раскладываются в вершинах семиотического квадрата. Например, актант «добрый молодец» включает семы «мужчина», «молодой», «честный», «смелый», и т. д. Сема «мужчина» в семиотическом квадрате будет разложена: 1) по контрарности на «более мужественный» и «менее мужественный», 2) по контрадиктности на «мужчину» и «немужчину» (то есть «женщину»). В целом это является пересмотром в направлении логического упорядочивания и усложнения компонентного анализа, введенного в трансформационную теорию работой Д. Катца и Д. Фодора «Структура семантической теории», 1963 [ССТр].
Моделирование трансформаций значения связывается с тем, что между углами (вершинами) квадрата устанавливаются известные из логики отношения. Например, -А порождается отрицанием Ав свою очередь, получивА, мы можем утверждать (имплицировать) не-А, и т. д. Если в верхний левый угол помещается значение «мужчина», то в правом верхнем окажется «менее выраженный мужчина» (что скажется и на значениях других признаков), в правом нижнем — «не-мужчина» («женщина»), а в левом нижнем, возможно, «мужчина, притворяющийся женщиной» («не верно, что не вполне мужчина», но и не просто «мужчина»). Получаем по четыре «утла» внутри каждой семы. В каждый момент актант вписывается только в один угол: «молодец» не может быть сразу и «добрым», и «не-добрым» , — но по ходу рассказа действие развивается, тут-то и происходят логически предсказуемые трансформации. Вводятся либо другой член «четвероугольного» противопоставления, либо новые признаки и с ними новые противопоставления. Например: «добрый молодец» берет «злую жену». Вводится новый признак «женатый», подразумевающий соответствующие оппозиции («женатый — холостой», «женатый — как бы и не женатый», «женатый — разведенный»), которые, возможно, будут раскрыты в дальнейшем и составляют потенциал повествования. И вводятся не упоминавшиеся до сих члены старых оппозиций (действовал «мужчина» — теперь задействована «женщина», действовал «добрый» — теперь задействавана «только притворившаяся доброй»). При этом, с формальной точки зрения, из того, что «мужчина» (в рамках историй этого типа) не трансформируется в «женщину», а «добрый» — в «злого», появление в рассказе этих членов структурных противопоставлений влечет вывод о введении нового персонажа.
Не трудно заметить, что приписывание персонажу набора избранных членов оппозиций — не что иное, как формирование его интенсиональной модели из релевантных (для данного типа повествования) признаков. Поэтому выделение «четырехугольной» логико-семантической структуры каждого значения можно интерпретировать как способ формирования интенсиональной модели выражений языка повествованияэта модель предусматривает прогнозируемые возможности развития повествования, в ходе которого происходит перераспределение дифференциальных признаков между актантами. Кроме того, выделив релевантные признаки актантов, мы можем описать допустимые замещения (к примеру, если релевантен признак «мудрость», то вместо «мудреца» может появиться «ворон»).
Между прочим заметим, что квадрат применим для представления не только слов, но и предложений. По контрарности тогда будут противопоставлены, видимо, «истина» (определенная достоверность) и «сомнительность» (неопределенная степень правдоподобия), по контрадикторности «истина» и «ложь» (в смысле ошибочности), по субконтрарности — по нижней стороне квадрата -" обман" (в смысле введения в заблуждение) и «ложь». истина" «сомнительность» обман" «ложь» .
Все эти категории принадлежат, таким образом, одной прото-категории («изотопны») и находятся в описуемых отношениях, позволяющих предвидеть возможные взаимопереходы и их последовательности. Особый интерес для философии представляет так называемое «третье порождение» членов категории, где можно получить члены типа «и да, и нет», «ни да, ни нет» и рассмотреть отношение между ними. Предпочтение к таким конструкциям выказывается «в культовых, мифологических, поэтических и т. п. дискурсах» [С, 501].
Выводы для этого раздела таковы. 1) Компонентный анализ и логическое упорядочение его на семиотическом квадрате знакомит нас с внутренней логикой построения и преобразования образов и рассуждений какого-нибудь дискурса. 2) Учет правил преобразования: что, во что и в каких последовательностях может превращаться — позволяет описать возможные варианты повествований (например, варианты мифов, существующие, утраченные или только возможные). 3) Изъятия из текста или, наоборот, новые вставки создают потенциал «цепных реакций», которые выразятся в переструктурировании повествования, мы имеем возможность предвидеть последствия проводимых над дискурсом операций: что в результате их может произойти в нем, и каких событий уже не завяжется.
В итоге мы начинаем осмысленно ориентироваться в повествованиях других культур, да и нашей собственной, и понимать скрытую логичность повествований, которые без этого могли бы показаться нам хаотическим нагромождением образов и происшествий неясного происхождения.
2.16. Необходимость перехода к лексической семантике.
В статье «Грамматика Монтегю» Б. Холл Парти замечала, что структурная и лексическая семантики вполне разделимы.
Семантическое правило интерпретации. позволяет делать предсказания относительно бесконечного класса выражений", так что «эти предсказания могут быть проверяемы в отношении условий истинности и следования без обращения к конкретному семантическому содержанию лексических единиц, помимо их логического типа» [С, 288]. Это тем не менее не означает, что допущения, принимаемые в общей семантике, не затрагивают лексическую: наоборот, поскольку речь идет об эмпирической проверяемости положений общей семантики, в ней содержатся допущения относительно того, как ее модели соотносятся с выражениями естественного языка, а значит, представления о том, какими вообще бывают лексические значения конкретного языка, чтобы удовлетворять выдвинутым правилам интерпретации. Но знания об этом происходят из обобщения наблюдений за естественным языком и его конкретными единицами.
Падежная грамматика, как вариант семантики, еще больше повышает роль изучения лексической сочетаемости слов (поскольку главный критерий выбора глагола — способность сочетаться с падежами рамки). Она выводит семантику на необходимость дополнительных исследований организации словаря (и сама предложила его значительное упрощение). Стали неизбежны исследования зависимости выбора слов от интуитивного схватывания и фокусировки в воображении означаемой ситуацииот них зависит распределение глубинных падежей, — а значит, «описание психологических и социологических факторов, обусловливающих то, что некое лицо или группа лиц использует именно эту абстрактную семантическую систему», от чего сознательно отстранился при построении общей семантики Д.Льюиз.
Фактически это означает неизбежность выхода семантических исследований за рамки общей семантики — в лексическую (и дальше — за ее рамки), как мы уже вынуждены были выйти за рамки синтаксичеких теорий в поиска понимания смысла высказывания. Наличие отдельных и часто противопоставляемых методов исследования (синтаксис — семантика, общая семантикалексическая семантика, модельные теории — генеративные теории) не означает, что для перехода от одного к другому надо сменить на инокультурную принятую в нашей культуре точку зрения на то, что надо делать, чтобы понять, как а) понимается смысл выражения и б) как можно его объяснить другому, чтобы наладить и поддержать с ним связь. Признаки, по которым противопоставляются названные направления, релевантны именно в нашей культуре, именно в ней образуя значимые оппозиции.
2.17. Лексическая семантика и всеобщее взаимопонимание.
В семиотическом словаре Греймаса и Курте на попытках лексической семантики показать, каким образом «около двух десятков бинарных категорий сем, рассматриваемых как таксономическая основа некоторой комбинаторики, способны произвести несколько миллионов сочетаний семем», поставлен крест. Он поставлен тем самым и на более старом проекте «универсальной характеристики» Лейбница, который предполагал составить Алфавит человеческих мыслей как «каталог тех понятий, которые мысленно представимы сами по себе и посредством комбинаций которых возникают все остальные наши идеи» [С, 229]. Авторы словаря пишут: «в 60-х годах пришлось отказаться от иллюзорной веры в возможность разработки необходимых средств для исчерпывающего анализа плана содержания естественных языков. В то время лингвистика, как теперь ясно, ставила перед собой неразрешимую задачу: осуществить полное описание всей совокупности культур человечества» [С, 520]. Подумаем о том, что из этого утверждения вытекает. Если говорить о лейбницевском проекте «универсальной характеристики», то нельзя не видеть связи двух идей: логического исчисления и поиска алфавита мыслей. Первая из них служит инструментом выработки всевозможных следствий второй (идея принадлежит изобретателю логической машины Раймонду Луллию). Если можно установить простейшие и общезначимые представления человека и сформулировать правила их комбинирования, все человеческое знание, наличное и возможное, может быть получено автоматически. Оно будет ответом на вопрос «Что человек может знать?» Мы получаем таким образом познание, промежуточное между произвольными и случайными суждениями — и полной системой верифицированного знания. Мы получаем вычисленный свод возможных человеческих мнений. Если при этом исходные понятия бесспорны, а правила вывода не идут в разрез с тем, что может происходить в природе, свод окажется собранием возможных истин. Таким образом для составления полного свода знания надо решить лексико-семантическую задачу толкования слов (выраженных ими понятий) и составления списка «примитивных» выражений, на основе которого все остальные толкования давались бы уже через объединение начальных понятий по строгим правилам, то есть матричным способом (Table de Defenitions Лейбница). Если эта задача разрешима, то одними только логико-лингвистическими методами можно охарактеризовать всю совокупность возможных для человека знаний, и не будет такого человеческого суждения, где бы мы его ни встретили, которое не вытекало бы по строгим правилам из построенного Алфавита. Иными словами, проект «универсальной характеристики» есть ни что иное, как программа всеобщего взаимопонимания. Именно она перечеркнута Греймасом и Курте, лингвистами достаточно компетентными, чтобы учесть их заключение.
Дальнейшее рассмотрение в этом разделе будет строиться на работе А. Вежбицкой «Семантические примитивы», 1972 (точнее, мы используем эпистемологическое Введение к основному изложению). Ее преимущество — в настойчивой методологической рефлексии. Р. М. Фрумкина специальную статью посвятила неразвитости эпистемологии лингвистической науки, где констатировала: «за последние 50 лет в лингвистике было много споров о методах. Однако, по преимуществу это были споры о конкретных методах, они не интерпретировались как соотнесенные с эпистемологической проблематикой.» В частности, «когда А. Вежбицка впервые предложила толкования значений слов с помощью разработанного ею „метаязыка примитивов“, то толкования вызвали много возражений. Их критиковали либо за неточность, либо за неполноту, либо напротив, за чрезмерную пространность, несоответствие нуждам лексикографии и т. д. А вот вопрос о том, насколько законен сам метод интроспекции, с помощью которого эти толкования были получены, почему-то не обсуждался» [ЯН, 83].
Напомним ход мысли, который привел нас к внимательному рассмотрению проблематики лексической семантики. Он заключается в следующем. Изучение лексической сочетаемости не избавляет от установления значения слова в той его части, которая не зависит от того, что привносится в нее грамматическими отношениями [3JI III, 172]. Понимание того, как устроено любое значение (его элементарной структуры) не предрешает понимания конкретного значения, являясь отвлечением от последнего. Но ясно, что понимание речевого сообщения включает понимание значений конкретных слов. В научном отношении эмпирическая проверка положений общей семантики предполагает обращение к конкретному языковому материалу. А кроме того, без такого обращения не обойтись при соотнесении механизмов высказывания и описанной им ситуации с целью выяснения принципов представления в речи (реляционной) структуры события.
С точки зрения операциональных критериев знать смысл (интенсионал) слова — это уметь во всех ситуациях правильно прикладывать его к объектам. В классической формулировке К. И. Льюиса, «тот, кто окажется в состоянии употреблять или отвергать некоторое выражение правильным образом во всех возможных обстоятельствах, будет в совершенстве владеть смысловым значением» [С.221]. Однако еще раньше К. Айдукевич в статье «Язык и смысл», 1934, дал схожую формулировкутам же он установил правила, в согласии с которыми мы можем убедиться в том, что говорим с человеком не на одном, а на разных, хотя и одинаково звучащих языках (проще говоря, не понимаем друг друга из-за того, что выражениям приписываем неодинаковый смысл). Приведем его вывод: «правила смысла устанавливают соответствие определенных предложений. типам данных, при переживании которых отбрасывание данного предложения может произойти единственно при нарушении его смысла» [ФЛЛВШ, 320]. Иначе говоря, Айдукевич устанавливает критерий только отсутствия взаимопонимания. Это, на наш взгляд, корректней, чем позиция Льюса, т.к. из того, что на стимул не следует соотнесенной ему реакции, действительно вытекает иное, чем предположено экспериментатором, осмысление стимула испытуемыма из того, что на стимул выдается соотнесенная ему реакция, не следует, что имело место именно предположенное осмысление (если не доказано, что нет другого, которое могло бы привести к такой же реакции). Например, если пациент дантиста, обнаженного нерва которого касается врач, с криком подскакивает в кресле, но на вопрос «Больно?» отвечает «Нет» (отбрасывает само собой разумеющийся в языке ответ) и при этом честен, то он понимает смысл вопроса не так, как остальные носители языка, иначе прикладывает слова к вещам, то есть говорит на другом языкеи взаимопонимания нет. Итак, доказать факт отсутствия взаимопонимания, как кажется, можно. Чтобы ответить на вопрос «Каким образом доказать наличие одинакового понимания смысла выражения?» нужно ответить на другой вопрос: «Возможно ли оно вообще и если да, то как?» Нас будет занимать вопрос, поставленный еще Ричардом Монтегю и детально обсуждаемый в цитированной статье Холл Парти: «Может ли носитель языка знать интенсионалы слов своего языка?» .
Анализ семантической компетенции носителя языка наталкивается на то, что языковые единицы могут быть применимы ко множеству возможных миров. И полностью отдавать себе отчет в том, какова сфера их применимости (и тем самым в истинности или ложности предложений, куда они входят) можно, только зная положение дел во всех этих мирах, что недостижимо. Может быть, достижимо знание о том, является ли предложение истинным или ложным в некотором данном мире. Но при том условии, что смыслы лексических единиц определены. Однако в отличие от научных терминов, интенсиональные модели которых строятся как определения, смыслы обычных слов усваиваются носителями языка через индуктивное обобщение от образца — к классу (например, от названия некоторого пережитого состояния — к называнию таким же словом всех подобных состояний). И для многих явлений, по своему характеру расплывчатых, нельзя установить одинаковых для всех носителей языка критериев широты и направленности подобной индукции. С другой стороны, границы размытости смысла кладутся, во-первых, действительным наличием предъявленного образца с набором присущих ему отличительных признаков и, во-вторых, общностью перцептивных и когнитивных свойств человеческого сознания. Для одних слов эти границы заданы расплывчатый («удовольствие»), для других строже («шар»). Следовательно, нужно попытаться найти способ объяснить выражения языка, исходя из немногих единиц, смысл которых доступен однозначному усвоению, то есть цель объяснения, ясность, в этих немногих словах должна быть достигнута сама собой. Так в связи с проблемой ясности и понятности сказанного в современной лексической семантике опять появляется старая проблема семантических примитивов и редукции значений слов естественного языка к ним. На что должен полагаться исследователь, когда выявляет смыслы этих необъяснимых слов? В этом пункте сталкиваются различные подходы и он открывается в его философской значимости.
2.18. Поиски простых выражений.
Поиск семантических примитивов ориентируется, во-первых, на практическую отдачу: удобство пользующихся словарями -" существуют, например, хорошо известные словари Огдена и Гугенхейма, использующие соответственно только 900 и 1500 неопределяемых. слов для всех толкований" , — писала А. Вежбицкая [С, 226]- предпринимались — Кембриджским лингвистическим объединением, Миланской группой и Московской лабораторией машинного перевода исследования по создания языка-посредника в межязыковых переводах, базовые элементы которого были бы в отношении перевода инвариантными. Но, во-вторых, поиск сематических атомов направляется теоретическим интересом — самое важное для нас направление задается вопросом о том, есть ли группа неопределяемых по их содержанию языковых выражений, mdefinibilia, общих для всех естественных языков. Такие выражения обеспечили бы переводимость мысли с языка на язык.
В известном «Меморандуме о языковых универсалиях» Д. Гринберга, Ч. Осгуда и Д. Дженкинса, 1963, определено, что считать универсалиями: «это высказывания о языке, относящиеся ко всем языкам вообще», имеющие следующую логическую форму «для всех х, где х есть язык, имеет место.» [3JI II, 122]. В таком случае скажем, что высказывания об универсальных indefinibilia должны иметь форму: «для всех х, где х есть язык, а — метаязыковой символ выражения, Т — метаязыковой символ толкования, так что, а есть Т, — имеются слова, которые встречаются во всяком Т, развернутом с учетом толкований всех составляющих его выражений, и никогда не встречаются в а». Усиление этого предположения, а именно то, которое отстаивается А. Вежбицкой, состояло бы в добавлении: «., и эти слова значат во всех языках одно и то же». Не удивительно, что возникает вопрос: как найти эти слова (или словосочетания) и каким образом можно подтвердить такое сильное предположение?
Во Введении к «Семантическим примитивам» как раз и содержатся размышления о методе. Вежбицкая в хронологическом порядке пересматривает высказанные на этот счет предположения и вытекающие из них исследовательские методики. Семный, или компонентный, анализ 60-х годов — выявление списка абстрактных маркеров", являющихся не конкретными словами, а различительными признаками сем, — не может быть решением поставленной задачи уже потому, что маркеры служат для формального сравнения лексем по выбранным признакам, а не для полного толкования их языкового смысла. Но исследовательская программа Анджея Богуславского (представленная им в докладе «О семантических примитивах и полном значении», прочитанном на конференции 1966 года и опубликованном в сборнике «Знак, язык, культура») поддержана Вежбицкой. Из нее процитируем следующее методологическое соображение: «Выбирая те или иные толкования-экспликанты, можно и должно полностью полагаться на собственный практический опыт употребления языковых выражений и на собственную изобретательность». Этот тезис, на первый взгляд ничего общего не имеющий с тем, что принято считать научным подходом к фактам языка, тем не менее обосновывается Богуславским, а Вежбицкая приводит дополнительные аргументы. Суммировав их, мы получим очень простую аргументацию. «Примитивы» — это выражения, содержащиеся в полных толкованиях всех (кроме них) выражений языка. Значит, метод их выявления — последовательное составление как можно более полных толкований языковых выражений путем задавания вопроса «А что это значит?» в отношении любой составляющей. Причем дело не в научности определения — задача в том, чтобы, составляя полное толкование, мы делали получающееся выражение все яснее и яснее. Но критерий ясности не может быть формальным (уже для Рассела не было тайной, что в строгих формальных системах результаты, то есть сложные выражения, могут быть гораздо очевидней посылок, то есть «простых» в этих системах выражений). Ясность какого-то выражения принадлежит интуиции — в данном случае, языковой интуиции. Предельно обостряя это методологическое положение, Вежбицкая пишет: «Моя цель состоит в моделировании собственной лингвистической интуиции» [С, 245]. Непосредственного доступа к чужой интуиции исследователь не имеет, а образцовость собственной языковой интуиции обосновывается тем, что интуиция разных носителей языка в практике общения чаще всего совпадает, иначе они бы не понимали друг друга в таком большом числе случаев. Саму Вежбицкую интересуют случаи, где возможно полное взаимопонимание всех носителей языка, включая детей (нижняя возрастная граница не уточняется, но направление мысли понятно).
Одним пируэтом мы оборачиваемся от лингвистических вопросов к традиционной философской проблематике сознания (ясность, очевидность, интуиция), развиваемой на линии Декарт-Гуссерль. Этот результат — неизбежность выхода за пределы логико-лингвистического анализа в область философских исследований при попытке понять, как возможно понимание, — представляется нам особо важным для нашей темы — обоснованием его необходимости служит предшествовавшее изложение. Вежбицкая трижды цитирует слова Декарта: «Невозможно изучать эти вещи иначе как на самом себе и быть убежденну иначе, чем. внутренним свидетельством», а именно все то, что «может быть познано само по себе». Речь идет об интенциональной предметности (здесь — смысла языкового выражения), данной интуиции с полной очевидностью. Напомним, что доказательству возможности и допустимости «чисто имманентного исследования психического» [ФСН, 151], которое (интроспективное феноменологическое исследование, схватывающее устойчивые сущности в потоке сознания) единственно способно описать, что происходит в сознании между восприятием стимула и реагированием на него, Гуссерль посвятил многие страницы программной статьи «Философия как строгая наука». Вежбицкая развивает эти положения так: «Природа интуиции такова, что методом ее исследования неизбежно может быть только интроспекция. Однако следует подчеркнуть, что интроспекция означает не какое-то случайное „мне кажется“, а систематическое, упорное проникновение в глубины своего языкового сознания» [С, 245]. Чтобы добиться глубинной языковой интуиции смыслов выражений, необходимо редуцировать знания, некритически воспринятые в ходе образования, случайные поверхностные ассоциации, и постоянно образующиеся предрассудки, ложные впечатления, которые возникли под перекрывающимся воздействием языковых норм. Нельзя не заметить, что при этом Вежбицкая оказывается также на философской территории аналитиков языка. Если феноменологический проект был ведом лозунгом Э. Гуссерля «Назад, к самим вещам [назад от обсуждения того, что о них и кем говорилось]!», то общее убеждение аналитиков языка Б. Рассел сформулировал в таком credo: «философия заблуждается, адаптируя героические средства для интеллектуальных затруднений,. решения должны быть найдены просто большей заботой и аккуратностью», «с помощью терпеливого детального размышления» [ФЛА, 147]. Логические аналитики Венского кружка (особый случай — «ранний» Виттгенштейн) и Польской школы поняли эту максиму как призыв примененить логистику к анализу философских («метафизических») высказываний (действительно, содержавшийся у Рассела в виде слогана «конструкции versus выводов» [ФЛА, 152]), а философы лингвистического анализа, такие как «поздний» Виттгенштейн, Дж. Уиздом, Дж. Остин, занялись терпиливым разбором употребления выражений языка в обыденной речи. Языковой интуиции последними неизменно отдавалось должное: если носитель языка интуитивно чувствует разницу в сфере использования двух выражений, это принимается к сведению и выясняется, какие типовые случаи употребления этих выражений дали основание для такого чувства (исключают ли друг друга сферы использования этих выражений полностью, или они пересекаются в отдельных случаях, или они значительно перекрываются, но разница в оттенках значения все же остается). Джон Остин, как известно, полагал возможным назвать эту методику анализа «лингвистической феноменологией» [И, 9].
Оговорим еще один момент, касающийся отношения проблемы «семантических примитивов» к методикам философского анализа. Выдвижение такого критерия приемлемости слова в качестве «примитива», как «известность всякому, включая детей», и намерение «анализировать научные термины при помощи горстки простых разговорных выражений» [С, 237] явно противопоставлен Вежбицкой неопозитивистскому проекту построения Unified Science («унифицированной науки») на базе ее «минимального словаря». Отто Нейрат, член Венского кружка, в статье «Унифицированная наука как энциклопедическая интеграция», 1938, писал, что «связующий клей» науки содержится в ней самой, но различие языков, на которых излагаются результаты наук, мешает видеть это единство, поэтому языки должны быть унифицированы, подходящей базой унификации полагалась физика [ПН, 137]. Все ее «протокольные» и выводные предложения, считал, например, Карнап в 1935 году, решаются точным установлением «структуры языка, в частности, структуры правил формирования и преобразования пространственно-временных координат» [ФЛЛВШ,.
212], для чего, помимо логического и математического аппаратов, достаточно всего трех терминов: «пространство», «время» и «точка». С разных точек зрения эти положения критиковались Я. Лукасевичем и Б.Расселом. Лукасевич, помимо прочих возражений, заметил, что надо еще установить, какая именно из систем логики, двузначных и многозначных, и какая именно из возможных геометрий, евклидовых и неевклидовых, применимы к реальному миру [ФЛЛВШ, 215]- а Рассел в книге «Человеческое познание, его сфера и границы», 1957, в главе «Минимальные словари» писал, что «физика в качестве доступной проверке науки пользуется. различными эмпирическими понятиями», и абстрактные термины поэтому «должны зависеть в своем значении от терминов, непосредственно описывающих опыты» [ЧП, 266−7]. Все это, в конце концов, вело к выводу, что анализу должен быть подвержен сам язык повседневного общения, с помощью которого мы соотносим абстрактные результаты с эмпирическим опытом. Этот трезвый вывод прочно вошел в логику и в лингвистику. «Результаты любого исследования (в том числе и настоящего) одни люди сообщают другим посредством языка» , — так начинает Хаскелл Карри описание формальных систем в «Основаниях математической логики», 1963. — «Так как мы не можем исчерпывающе описать его, то мы можем лишь описать некоторые из его черт и явно оговорить случаи, таящие в себе опасность неправильного понимания». И хотя он «прежде всего по необходимости довольно неясен, все же при аккуратном употреблении мы можем достичь любой степени точности» [ОМЛ, 56−7]. А. Вежбицкая ссылается на Х. Серенсена, писавшего в работе «Словарные классы в современном английском языке», 1958: «Все технические термины являются в конечном счете производными от обычных слов». Вежбицкая добавляет к этому замечание о том, что такие слова как «прежде», «после», «ниже», «выше» или «двигаться» оказываются очевидным образом более элементарными, чем «пространство», «время» или «точка» [С, 237].
Этот метод культивирования собственной языковой интуиции с помощью 1) последовательной редукции технического (искусственно суженного) словоупотребления, некритически усвоенных чужих мнений и ложных выводов, полученных в ходе поверхностной рефлексии по поводу употребления языковых выражений, и 2) внимательного лингвистического анализа характерных случаев использования каждого из этих выражений для установления возможных пересечений и расхождений сфер их употребления позволил путем минимизации списка наиболее ясных для интуиции носителей языка выражений составить список из 14 универсальных «примитивов»: хотеть не хотеть чувствовать думать о. представлять себе сказать становиться быть частью нечто некто (существо) я ты мир (вселенная) это.
А.Вежбицкая не утверждает, что это окончательный список (хотя и полагает количество «примитивных» слов и словосочетаний не превышающим 20). Как бы он ни изменился, верным, по ее убеждению, остается положение, согласно которому «в сознании каждого человека в качестве необходимой части имеется семантическая система, то есть набор элементарных понятий, или „логических атомов“, и правил, по которым эти атомы участвуют в построении более сложных комплексов». Любое предложение естественного языка может быть представлено как перевод на этот язык с lingua mentalis («языка мысли») и последующая трансформация в соответствии с грамматическими правилами естественного языка. «Грамматика — будь то грамматика английского, венгерского или китайского языков — представляет собой просто систему трансформационных правил, в результате которых предложения, изоморфные мысли, превращаются в предложения, явным образом не изоморфные мысли» [С, 246]. Следовательно, взаимопонимание возможно потому, что возможен перевод любого предложения на универсальный lingua mentalis. Формализация этого процесса, по мнению Вежбицкой, на этом этапе исследований преждевременна, но принципиально возможна. Насколько нам известно, и в своих последующих трудах А. Вежбицкая не отрицала этого положения.
2.20. Краткий итог сказанного в этой части.
По сути дела, все изложение в этой части велось так, будто предположение о наличии универсальных оснований взаимопонимания только обосновывалось, и никогда не ставилось под сомнение. Если бы это было так, можно было бы с полным основанием утверждать, будто традиция европейского рационализма это апология универсализма разума, «того самого разума, который действует в каждом, хоть и простом человеке, в animal rationale», -как писал Гуссерль в одной из своих посмертно опубликованных заметок о возникновении геометрии [НГ, 244].
Ход нашего изложения был таким. Мы сказали, что в самом начале европейской науки был изобретен метод формализации высказываний: перевода его с естественного языка на искусственный язык, где слова заменены переменными. Он имел обобщающую силу, способную превратить отдельный пример — в демонстрацию типичной структуры. Вопрос в том, что именно тем самым продемонстрировано? На него можно дать 3 ответа. 1) Показана синтаксическая связность или бессвязность высказывания — и только. 2) Показано, как нужно правильно интерпретировать высказывание — связь, или «композиция» его значений. 3) Показано соотношение объектов, о которых сообщает высказывание — как они связаны в событии, о котором идет речь. Не исключено при этом, что верны все три утверждения: синтаксическая связь отражает (после приведения высказывания к нормальной форме) смысловую связь элементов мысли, а та — логическую структуру объектов. Но может быть, что это и не так, это вопрос спорный.
Бесспорным для той линии рассуждений, которая была нами прослежена, можно считать следующее положение. Формализация высказывания следует за пониманием его языкового смысла, как он дан в обыденном сознании носителей языка, а не наоборот. Все эти рассуждения предполагают, неявно или сознательно, постулат: смысл выражений повседневного языка доступен пониманию его носителей. Многие представители линии рассуждений, которая была в центре нашего внимания до этого момента, сознавали, что этот постулат непосредственной данности смысла сознанию требует методологической рефлексии. Мы видели, как появились понятия «ясности», «очевидности», «интуиции». Но вместе с ними появились самые дискутируемые проблемы современной философии, избежать обсуждения которых поэтому нельзя.
Это обсуждение внесет коррективы в благополучную картину европейского рационализма, представив его теперь как сомнение и критику, разлагающие и разъедающие «единство», «данность» и «очевидность» смысла. Мы сказали бы так: что не ставится под вопрос, так это необходимость задавать вопросы. Но если бы мы попробовали сделать еще один шаг и сказать, что под вопрос не попадает какой-нибудь ответ или сами «наличие понимания», «идея понимания» или «желание понимания», мы бы ошиблись. Иллюзорность наличия, навязчивость идеологии и сомнительность желания — именно те позиции, с которых очевидная данность смысла подверглась решительному отрицанию. Но больше того. Мы покажем в следующей части работы, что, не ставя под сомнение необходимость задавать вопросы, мы вправе усомниться в возможности задавать их в определенных случаях. На невозможности вопроса основана власть непонимания.
3. Власть непонимания.
3.1. Сцена.
Летом 1975 года Ч. Филлмор читал лекционный курс слушателям Лингвистического института США, в котором главным предметом обсуждения сделал фразу из статьи в журнале Signature: «Как раз в этот момент тонкий, но многократно усиленный голосок известил все помещение в предельно ясных выражениях об обычной детской нужде» (в момент послеобеденной речи отца, известного спортсмена). Изложение этого важного курса было сделано в статье Филлмора «Основные проблемы лексической семантики», 1977 [3JI III, 303]. «Главным вопросом, на котором я сосредоточу свое внимание в данной работе, будет понимание текста» , — объявил Филлмор с самого начала.
Из его анализа ступеней понимания приведенного текста вытекает, что текст нельзя понять без привлечения знаний, служащих для реконструкции описанной сцены, включая причины тонкости голоса (маленький ребенок) и его усиления (микрофон), характер критического состояния, переживаемого ребенком и его не процитированные слова, а также того, почему сцена не могла быть описана прямо и зачем она вообще была помещена. Эти знания суть части нашего опытаважная их часть имеет чувственную основу (прошлые ощущения и переживания): «в своем сознании мы рисуем себе сцену послеобеденной речи, частью которой являются отец и сын, стоящие рядом друг с другом» [Там же, 309]. Основное утверждение статьи Филлмора состоит в том, что, описывая значение слов и словосочетаний, мы не можем обойтись без того, чтобы восстановить в сознании подобную сцену, предполагаемую известной при употреблении выражений. К примеру, прототипная сцена, связанная со словом write, «должна включать индивидуума, который пишет, инструмент, которым он пишет, поверхность, на которой осуществляется процесс написания, и продукт написания, то есть ту или иную конфигурацию следов на данной поверхности» [Там же, 310]. Что процесс наглядного представления не соединяется с высказыванием по случайной ассоциации, но оба они суть существенные составные части одного переживания, показывал еще Гуссерль в «Логических исследованиях». Из этого вытекает заключение, хотя и банальное, но касающееся сути дела: если мы, по выражению Филлмора, «не располагаем готовыми сценами» (то есть не имеем соответствующего или хотя бы близкого опыта), мы не можем понять выражение — иначе говоря, понимание основывается на опыте переживаний и памяти о них.
Конечно, для тех, у кого в памяти нет готовой сцены, которая подразумевается выражением, можно тут же ее воссоздать. Но тут выясняется, что воссоздать придется не только эту сцену, но и обширный социально-культурный контекст, в который она включена. Леви-Стросс оставил в «Печальных тропиках» в главе «Урок письма» описание того, как набросанную у Филлмора «прототипную сцену письма» понял вождь намбиквара. Леви-Строссу удалось объяснить ему (в полном соответствии с положением об универсальной переводимости, которым мы были заняты выше), для чего служит это занятие (для передачи сообщений). Однако это было ни к чему вождю племени, который все сообщения мог продублировать устно быстрее, чем передать надпись соплеменнику (предположим, что они выучились бы читать). Вождь использовал полученный навык для единственной цели: повышения своего авторитета среди намбиквара и получения «двойной власти» над ними. Одну функцию письма вождь гениально уловил мгновенно, поскольку тут же включил ее в политический контекст своего племени, а смысл другой остался для него по меньшей мере безразличен [ПТ, 383, 385].
Филлмор пишет: «Я полагаю, что один из способов исследования значения слова заключается в установлении того, какие вопросы могут возникать в тот момент, когда мы восприняли и подвергли обработке последние фрагменты текста» [Там же, 312].
Однако нам ясно, что больше никаких вопросов у вождя намбиквара, ознакомившегося с прототипной сценой письма, не возникнет, потому что он уже понял все, что ему было нужно. Вывод, который мы извлечем из этого, следующий.
Понимание ограничено вовсе не тем, что нельзя перевести высказывания человека одной культуры на язык человека другой культуры (хотя, разумеется, и здесь встречается множество затруднений). Переводчики из Американского библейского общества выполняют переводы Библии для индейских и африканских племен, живущих в относительной культурной изоляции от остального мира, и привыкли передавать, к примеру, выражение «белый, как снег» выражением «белый, как перо цапли», а «хлеб жизни» называть «тортильей живых» [ОТП, 56]. — Понимание ограничено практической заинтересованностью человека занять (или сохранить) удовлетворяющее его место в общественной группе, для чего все остальное оказывается средством. Короче говоря, человеку и не нужно понимать всего, что он мог бы понять из чужого высказывания. Ему нужно понять только то, что ему полезно или представляется таковым. Или еще короче: непонимание — не проблема логики и лингвистики. Это проблема власти.
3.2. Эллипсис.
Попробуем посмотреть на этот вопрос с другой стороны. В начале предыдущей части мы цитировали слова Уайтхеда о необходимости «скачка воображения» в «сферу непосредственного опыта» для того, чтобы понять выражение языка, «который не может быть никаким иным, как эллиптичным». После разбора положений Филлмора о необходимости восстановления в воображении описанной фразой сцены, к словам Уайтхеда остается только присоединиться. Обратим внимание на его положение об эллиптичности языка. «Эллипсис» — название риторической фигуры. О ней говорят, когда часть того, что необходимо для понимания речи, опущено в расчете на осведомленность аудитории. В школьной формальной логике родственным риторическому «эллипсису» понятием была «энтимема». Так называли вывод, законный несмотря на то, что часть посылок или заключение не были явно сформулированы.
Очевидно, что если пропуск не делает речь непонятной, она должна содержать указания на то, что именно пропущено. Реплику «Пока! Я домой» нам легко дополнить до полной формы «Пока! Я иду домой» благодаря тому, что подлежащее в ней оказалось прямо связанным с прямым дополнением, в обычном случае зависимым от сказуемого, которое, следовательно, и опущенос содержательной стороны, то, что пунктом назначения назван «дом», а не заоблачная обитель, другой берег водоема или городское подземелье, незаметно наводит на мысль, что пропущенное сказуемое не имеет значения ни полета, ни плавания, ни ползания. Иными словами, «эллиптичность» означает не только фактические пропуски, но и наличие «следов» опущенногос помощью этого понятия не только указывают на неполноту, но и признают в процессе производства речи расстановку специальных «знаков», по которым неполнота восполняется. Между прочим, в «Первой аналитике» и сказано: «Энтимема есть именно силлогизм из вероятного или из знака» [А, т.2, 252].
С этой темой связана традиционная герменетическая проблематика пресуппозиций («пред-установок» автора и получателя речи). В самом деле, оставленные в речи «знаки» обозначают вполне конкретные знания, предположительно наличные в сознании получателя. Для восстановления нашей реплики в виде «Я иду домой» следовало знать, что свойственным человеку способом передвижения является ходьба, а также сообразить между собой множество частных обстоятельств момента. Обо всем массиве невысказанного, но предположенного знания Ганс Георг Гадамер писал, что «предрассудки отдельного человека в гораздо большей степени, чем его суждения, составляют историческую действительность его бытия» [ИМ, 329]. Следовательно, восстановление опущенного в явном высказывании будет умозаключением от оставленных в нем «знаков» — к отмеченной ими пресуппозиции. Так мы могли бы уточнить понятие «энтимемы», которая выступает в нашем изложении процедурой, обратной речевому «эллипсису» .
Обратим внимание на то, что эллиптичны не только содержательные речи, но и некоторые грамматические конструкции языка. Эта эллиптичность приводит к их двусмысленности (формальной правомерности двух разных толкований). Следующий пример взят из книги Мишеля Пеше «Прописные истины. Лингвистика, семантика, философия.» Различаются объяснительные и определительные придаточные конструкции. Но их затруднительно различить по форме соединения главного предложения с придаточным. Например: «По земле полз человек, у которого не было ног» (объяснительное придаточное: оно объясняет, почему человек полз, а не шел) и «По земле полз человек, на спине которого засох отпечаток подошвы» (определительное придаточное: оно только вносит дополнительную определенность в образ, сложившийся после усвоения главного предложения). На логичность первого типа конструкций указал Фреге [цит. по КС,.
246−7], выявивший правильный силлогизм в предложении «Лед, который имеет удельный вес ниже, чем удельный вес воды, держится на воде»: (1) Лед имеет удельный вес ниже, чем удельный вес воды, (2) Если что-то имеет удельный вес ниже, чем удельный вес воды, это что-то держится на воде, (3) Лед держится на воде. Механизмом реконструкции полной мысли объяснительного придаточного предложения в составе главного служит энтимема (в предложенном выше толковании термина). Нетрудно заметить, что в начальной форме была опущена общая посылка силлогизма, связующие союзы и вводные слова типа «следовательно». Правильно понять эту грамматическую конструкцию и значит восстановить неявные логические связи между придаточным и главным предложениями. Мы восстанавливаем логическую связь и правильно интерпретируем конструкцию как объяснительную (а не определительную) только потому, что у нас имеется запас знаний (например, по поводу невозможности для безногого вышагивать по улицам). Мы говорили, что речь должна содержать «следы» или «знаки», указывающие на то, как восстановить подразумеваемое, но не сказанное. На приведенном примере мы убедились, что формальных «меток» может не быть совсем. Тогда опыт и знания остаются единственными водителями интерпретации. Если же они отсутствуют, мы, возможно, даже не увидим двух возможностей интерпретировать предложение (к примеру, уверенно приняв объяснительную конструкцию за определительную). Сомнение в верности интерпретации может не возникнуть.
Мы опять, уже на другой линии рассуждений, сталкиваемся с тем, что вопрос, необходимый для верного понимания, может быть просто не задан, так как надобность в нем не возникнет или необходимых пресуппозиций не окажется. Тогда эллипсис станет просто провалом, в котором исчезнет смысл. В главе «Герменевтическое первенство вопроса» Гадамер пишет: «Убедиться в чем-либо на опыте — для этого необходима активность вопрошания. К пониманию того, что дело обстоит иначе, чем мы полагали ранее, мы, несомненно, приходим через вопрос о том, как же обстоит дело, так или этак» [ИМ, 426]. Но никакого дизъюнктивного сопоставления представлений («так или этак») не произойдет, если у нас имеется всего одно. Эта власть единственной интерпретации современным философско-критическим рассуждением опознана как «идеология». Анализ принудительного воздействия допустимых интерпретаций на производство и понимание речи привел аналитиков дискурса к утверждению, что «в любом высказывании можно обнаружить властные отношения» (Натали Саррот) [КС, 21]. Посмотрим, как можно обосновать этот вывод.
3.3. Традиция.
Известная полемика Юргена Хабермаса с Гадамером по вопросу о роли «традиции» в понимании явлений показала столкновение непримиримых оценок роли «традиции» в понимании. В работе Гадамера «Истина и метод» специальный подраздел носит заголовок: «Реабилитация авторитета и традиции». Споря со Шлейермахером, считавшим, что пристрастность означает лишь индивидуальную границу понимания, «одностороннюю предрасположенность к тому, что соответствует отдельному кругу идей», Гадамер писал так: «Признание существования также и оправданных, продуктивных для познания предрассудков требует, чтобы проблема авторитета была поставлена заново». В ответ на идею борьбы против власти авторитета Гадамер выдвигает возражение логического характера: «Авторитет, если он занимает место собственных суждений, и в самом деле становится источником предрассудков. Однако это не исключает для него возможности быть также источником истины» [ИМ, 331].
Если интерпретация, несмотря на свою неприятную принудительность и навязчивую исключительность, является истинной, не перевешивает ли это все «негативные» моменты? При этом аргументация Гадамера с виду учитывает нежелательные последствия подавления индивидуального размышления. Даже если подумать, правота Гадамера кажется очевидной в случае, когда кто-то крикнул «Пожар!» Естественная интерпретации этого сигнала, предписанная языковой и культурной традицией, может спасти человеку жизньс другой стороны, ничто не мешает ему принять в соображение возможные коммуникативные намерения крикнувшего (учебная тревога, розыгрыш, поэтическое восхищение закатом и т. д.), если явных признаков пожара не обнаружится. Разнообразие этих интерпретаций, впрочем, не означает, что можно выйти из рамок языковой традиции в любом направлении. Возможность любой из них (в том числе и прямой) является результатом переформулировки услышанного по типу восстановления эллиптических конструкций до полных высказываний (например: вместо «Пожар!» подставляется «Закат похож на пожар», или: вместо «Пожар!» — «Давайте потренируемся в выполнении действий, предписанных по сигналу «Пожар!» «).
Хабермас в статье «Итог и ответ» подытоживает позицию Гадамера в следующем резюме: «В любое заданное время мы можем критиковать только индивидуальные традиции, поскольку мы сами принадлежим к всеохватывающему традиционному контексту языка» [ССТ, 97]. Следовательно, нет такой точки внутри данной языковой традиции, с которой ее можно критиковать. А внешняя ей точка будет находиться внутри собственной языковой традиции. Хабермас начинает с того, что логический поворот, который придал теме авторитета Гадамер (авторитетное мнение, донесенное традицией, может быть источником предрассудков, но это не исключает того, что оно может быть истинным), «доворачивает» до конца — это не исключает и того, что оно может быть ложным: «структура предрассудков в понимании значения не гарантирует совпадения достигнутого консенсуса с истинным» [Там же]. Тем самым «традиция» как таковая совсем выводится за пределы вопроса об истинности или ложности отдельного утверждения. В самом деле, это, скорее, то, что оказывает давление и сказывается на наших формулировках, чем-то, во что они включеныони «принадлежат традиции» не так, как предложения — тексту, а так, как простой человек — суверену, определяющему, что тот имеет и что не имеет право делать. Традиция — это власть («доминирование», говорит Хабермас), и вопрос в том, кого она выносит наверх и кого ставит в подчиненное положение. Хабермас упрекает Гадамера за то, что тот не замечает, что диалог в таких условиях это подавление, а значитэто не диалог вовсе.
Можно отметить, что сама возможность такой постановки вопроса предусмотрена Гадамером, который заранее ответил на этот вопрос так. «Авторитет покоится на признании и, значит, на некоем действии самого разума, который, сознавая свои границы, считает других более сведущими. Авторитет непосредственно не имеет ничего общего с повиновением, он связан прежде всего с познанием» [ИМ, 332]. Иными словами, человек не «повинуется» авторитету традиционных мнений, а советуется с ними, вступая в совещательный диалог. Как будто бы, заметим от себя, не имеет значения, к кому обратится за советом — сам факт обращения за советом к «старшему» это уже «политика». Кстати, в античной риторике «совещательная» речь — другое название для речи «политической»: именно потому, что совещание это не просто рациональная оценка ситуации, а процесс принятия практического решения.
Здесь вступает в силу основной аргумент Хабермаса. То, что Гадамер называет «традицией», меняется со временемструктура предрассудков не остается неизменной. Тем самым, она сама нуждается в объяснении: в самом деле, почему она в 20-м веке не такая, как в 12-м? Этот вопрос моментально разрушает зачарованное царство герменевтики Гадамера. Хабермас пишет: «Метаинститут языка как традиции. зависит от социальных процессов» [Там же, 98], труда, интересов, власти. Язык оказывает влияние на формирование человеческого мира, будучи средством символического опосредования, но мир формируется также «под принуждением внешней природы, задействованной в процедуры технического господства, и принуждением внутренней природы, отраженной в репрессивном характере отношений социальной власти» [Там же]. Следовательно, заключает Хабермас, необходима «глубинная герменевтика», которая учитывала бы действие всех факторов, в том числе скрытых от сознания субъекта — до применения специальных аналитических процедур, чтобы понять смысл речей, которые он ведет хотя и в здравом уме и трезвой памяти, но однако не сознавая их глубокой обусловленности не зависящими от него процессами. Как писали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии», существует «воображаемое отношение людей к условиям их существования», оно и называется «идеологией», оно и подлежит рациональной критике.
3.4. Идеология и очевидность.
Подведем итог сказанному. Как было выяснено, практической границей понимания служит невозможность вопроса. Теперь мы можем терминологически оформить этот результат так. Власть традиции сказывается в том, что определенные вещи не проблематизируются, поскольку считаются очевидными. Этот негласный и бескровный, но действенный запрет на постановку ряда вопросов мы будем называть ниже «идеологией» данного общества. В обществе может действовать принцип, согласно которому любая проблема подлежит открытому обсуждению и по ней возможен гласный диалог — это нисколько не мешает «идеологическому» контролю, потому что он состоит в том, что поставить некоторые проблемы просто «не приходит в голову». В таком случае критика идеологии будет состоять в критике понятия «очевидности» (критика конкретной идеологии — в критике ее собственных «очевидностей» как воображаемых знаний).
Критическая теория Франкфуртской школы не мыслит себя как апологию рациональности в смысле, описанном в предыдущей части работы и восходящем к логико-позитивистским концепциям. Наоборот, в работе «Знание и интересы» Хабермас специально подчеркивал, что позитивизм, который сам когда-то возник как критика идеологии (религии, метафизики, некритически воспринятых убеждений и т. д.), стал центральным элементом технократического сознания и ключевым аспектом современной идеологии. Но как возможна критика идеологии, если уже Адорно подразумевает под ней «объективную, независимую от единичных субъектов и их изменчивых положений детерминацию ложного сознания, удостоверяемую в анализе социальной структуры» [ВФ № 10 1992, 82]? То есть какое знание можно противопоставить этой детерминации ложного сознания (а не только удостовериться в ней)? Нужно проследить зависимость содержаний «ложного сознания» от позиции и функции в социальной структуре. Если, как мы слышали от Хабермаса, основой современной идеологии стал позитивизм, то надо проследить, чему служит позитивистская рациональность. Главной своей целью последователи Франкфуртской школы приняли критику языка рациональности как «языка тождественности» (этот поворот темы будет важен для постструктуралистских дискуссий, поэтому обратим внимание на контекст его возникновения).
Адорно писал, что проект науки как индуктивного или дедуктивного континуума слишком часто навязывает установки, несоразмерные живому опыту познания. А т.н. «факты» не являются последним основанием познания (особенно познания общества), потому что «факты» сами социально опосредованы. Что же есть кроме логики и фактов? Силы, интересы и попытки «расколдовать мир» от их чар путем их раскрытия и показа.
Доводы Адорно, Хабермаса и других франкфуртцев оказали сильное воздействие на постановку проблемы смысла дискурса в постструктуралистских течениях во Франции [см. ЯН, 128]. В знаменитой статье «Экономия языкового обмена», 1977, Пьер Бурдье обобщил проект социолингвистической критики, под которым, по замечанию Режин Робен [КС, 187], подписались бы (по своим соображениям) и представители Оксфордской школы лингвоанализа (Остин, Серл, Стросон), и немецкие прагматики текста, и французские аналитики дискурса. Бурдье писал, что предлагаются «вместо коммуникативных отношений. — символическое соотношение сил и, одновременно, вместо проблемы смысла дискурса — проблема значения и власти дискурса», и все это не отделимо «от положения говорящего в социальной структуре» [ЭИЛ, 18]. Нас особенно будут интересовать в последующем изложении разработки Французской школы анализа дискурса. У франкфуртцев возможность свободной коммуникации в обществе, где с принудительной силой действуют неосознанные субъектом интересы, попадает под серьезное сомнение. Каким образом можно вычленить элементы, «преконструированные» ранее и воспринятые говорящим в готовом виде с сохранением иллюзии индивидуальной свободы речи, какая материальная реальность и зачем скрывается иллюзорной «очевидностью» смысла — все это составило проблематику Школы анализа дискурса.
3.5. Диалог.
В знаменитой работе «Автоматический анализ дискурса», 1969, Мишель Пеше выдвинул гипотезу «о невозможности анализа дискурса как текста, то есть лингвистической последовательности, замкнутой на саму себя, и о необходимости соотнесения ее с совокупностью дискурсов, возможных при заданном состоянии условий порождения» [КС, 319]. Эта гипотеза формулирует исходное предположение аналитиков дискурса, поэтому попробуем выяснить в деталях, о чем тут идет разговор. В рамках «лингвистики речи» уже делались попытки проанализировать дискурс (понятие, осмыслявшееся в рамках соссюровской дихотомии языка и речи), указывались лингвистические признаки присутствия в нем субъекта речи (определенные пресуппозиции, дейксис, указатели лица, перформативы и т. д.), но субъект высказывания представлялся полноправным автором произведенной речи. Переворот, произведенный в этой благополучной картине М. Пеше, состоял в том, что на месте субъекта появилась «иллюзия субъекта» и, соответственно, за этой иллюзией не признавалось авторство, поскольку она сама была произведена в процессе высказывания. Следует говорить в таком случае не о «производителе», а об «условиях производства» дискурса. Поэтому «за пределами легких, доступных, не вызывающих споров способов описания универсальных семантик и лексических семантик, внутренне присущих системе определения языка, анализ дискурса учит нас, что слова могут изменять значение в соответствие с позициями, занимаемыми теми, кто их употребляет» [КС, 52]. Имеются в виду социальные позиции, преформирующие речь людей согласно набору условий, определяющему, что может, а что не должно быть сказано с некоторой позиции кем бы то ни было. В этом и состоит смысл гипотезы Пеше о необходимости соотнесения дискурса «с совокупностью дискурсов, возможных при данных условиях порождения» .
М.Пеше предложил схему, представляющую условия, при которых порождается дискурс. Это схема диалога, противопоставленная как бихевиористской модели «стимулорганизм — реакция», так и модели, выработанной в теории коммуникации. Первая модель, отстаиваемая Скиннером, ориентирована на изучение свойств языка через отслеживание реакций нервной системы, которые составляют материальную основу коммуникативной функции. Пеше замечает по этому поводу, что это было бы вполне уместно при изучении реакции организма на изменение уровня освещения, в которой различные нормы и договоренности между людьми не играют никакой ролино при экспериментальном изучении речи даже то, что согласились считать речевой реакцией, а что внеязыковой (в какой класс включить, например, кивок головой и при каких условиях?), оказывает влияние на речевое поведение испытуемых. Не говоря уже о том, что механически фиксировать реакцию (скажем, записывать на пленку звуки) и только — значит, «забыть» о том, что смысл — функция от условий его производства. «Это значит, что модель S — О — R забывает слишком много в интересующей нас теоретической области, чтобы быть сохраненной в неименном виде» , — заключает Пеше [КС, 320].
В выработке информационной модели диалога общепризнана заслуга Романа Якобсона, который придал ей характерное для взглядов участников Пражского лингвистического кружка функциональное истолкование. Схема Якобсона [СЗП, 461] имеет такой вид:
Контекст.
Отправитель экспрессивная функция) референтная функция).
Сообщение Получатель поэтическая (конативная функция) функция).
Контакт (фатическая функция).
Код металингвистическая функция).
Помимо того, что схема Якобсона построена, исходя из учета 6 функций, исполняемых любым коммуникативным актом в человеческом обществе, то есть имеет не биологические, а социальные основания, она имеет то важное свойство, что заменяет «стимул» — «сообщением», которое имеет своего «отправителя», а вместо «реакции» изучает «получателя» этого «сообщения», а точнее, исполнение функции усвоения информации каким-нибудь получателем. Это отмечает Пеше, говоря: «Информационная модель, напротив, стремится вывести на авансцену участников дискурса, так же как и его референт» [Там же]. Для Пеше это важно отметить потому, что, как только в схеме появляются участники диалога и то, что они имеют сообщить друг другу, становится возможно обсуждение их социальных позиций и ролей. Он толкует «получателя» и «отправителя» в следующих выражениях: «совершенно ясно, что [они] обозначают нечто иное, чем физическое присутствие отдельных человеческих организмов,» они «обозначают определенные позиции в структуре общественной формации» [Там же, 321]. Это положение служит отправным пунктом критики модели Якобсона со стороны Пеше.
Главное утверждение этой критики можно передать так. При истолковании «отправителя» и «получателя» как членов общества, высказывающихся с фиксированных в нем позиций, их диалог будет не просто обменом информацией, но силовым взаимодействием, воспроизводящим отношения доминирования. Именно этой социально-классовой функции, связанной с «материальностью языка», не учитывает модель Якобсона. Между тем, как отмечал Цветан Тодоров в книге о диалогическом кружке Михаила Бахтина, схему коммуникации Якобсона Медведев критикует «за 30 лет до того, как она была сформулирована» [МБ, 85−88]: Медведев писал тогда, что сообщение строится между людьми «как идеологический мост». А из этого в свою очередь вытекают следствия, приводящие к трансформации модели. К ним мы сейчас обратимся.
Утверждения Пеше не настолько прямолинейны, чтобы диалог представлять как обмен репликами с классовых позиций. «Было бы наивным считать, что позиция как пучок объективно заданных [социальных] признаков функционирует в дискурсном процессе как таковаяона представлена там, но в измененном видедругими словами, в дискурсном процессе функционирует ряд воображаемых построений» [Там же, 322]. Это положение о том, что в диалоге участвуют не независимые индивидуумы, А и В, и не связанные в рамках общественной формации социальная «позиция», а воображаемые проекции позиций, реально занимаемых, А и В в обществе, усложняет анализ, поскольку заставляет вводить специальные правила проекции своей и чужой позиции в воображение каждого из участников диалога. Для этого строится топика — набор имплицитных вопросов, «ответы» на которые лежат в основе воображаемых построений: 1) «Кто я таков, чтобы ему это говорить?» 2) «Кто он таков, что я ему это говорю?» 3) «Кто я таков, что он мне это говорит?» 4) «Кто он таков, чтобы мне это говорить?» Именно эти «ответы» вписывают социальное положение главных действующих лиц дискурса в условия его порождения. К ним добавляются вопросы, создающие воображаемую проекцию объекта обсуждения: 5) «О чем я ему это говорю?» и 6) «О чем он мне это говорит?» Итак, коммуниканты не просто обмениваются репликами, как специально сделанными и наглядными предметами: важно, что в силовом поле общения происходят воображаемые превращения участников диалога и предмета их речи.
Учтем еще вот какие особенности анализа дискурса Пеше. «Воображаемостью» называется здесь не создание в фантазии образа, как это происходит в сновидении, а определение собеседника и предмета речи с помощью предицирования им признаков, выявляемых как ответы на подразумеваемые вопросы, приведенные выше. Таким образом, «воображается» (скорее, «представляется») здесь интенсиональная модель: собеседника или предмета обсуждения. Введенная топика призвана объяснить, каким образом создаются эти модели в зависимости от положения говорящего в общественной структуре. Следовательно, анализ дискурса изучает социальную генеалогию интенсиональных моделей, функционирующих в языке представителей конкретного общества. Обратим внимание также на то, что «воображаемое» здесь не просто иллюзия, а «материальная сила». Как раз потому, что говорящий «забывает», что его интенсиональные модели «преконструированы» в ходе их социального генезиса и что он только использует их, а не создает, они действуют через него, не встречая сознательного сопротивления со стороны его «индивидуальности». В таком случае «забвение» как постоянная характеристика говорящего — это не просто «ложное сознание» — ведь посредством этого забвения действует общественное бытие. Но если это общественное бытие предполагает воспроизводство отношений подавления, «забвение» становится инструментом классового господства.
3.6. Дискурсные формации.
В цитированной работе М. Пеше указал на задачу анализа дискурса: «установление связей между силовыми взаимодействиями внешними по отношению к ситуации дискурса) и смысловыми взаимодействиями, проявляющимися в ней» [КС, 325]. Проблема смысла была в центре внимания школы анализа дискурса с самого возникновения ее в конце 60-х годов во Франции и все это время подход к этой проблеме аналитиков дискурса явно противопоставлялся традиционному лингвистическому подходу, в частности структурному, где смысл (в синхроническом срезе) считался установленным для каждого выражения (мы специально останавливались выше на методике компонентного анализа и разработках, посвященных структурным трансформациям). В статье «О новых приемах интерпретации, или проблема смысла с точки зрения анализа дискурса» Жак Гильому и Дениз Мальдидье пишут: «анализ дискурса устанавливает материальность смысла с помощью методов, противостоящих традиционным внутренним подходам лингвистической семантики» [КС, 132].
Для этого выдвигается понятие «дискурсной формации», заимствованное, как прямо говорит Режин Робен, у Мишеля Фуко. Фуко вводит его в первой части «Археологии знания», 1969, книги, которая посвящена концептуальной разработке особого метода анализа высказываний. Аргументация Фуко, обосновывающая введение понятия «дискурсной формации», следующая. Группировка высказываний по их объекту (так строятся, к примеру, «науки») сталкивается с тем, что никакого раз и навсегда сформированного объекта нет. Пример Фуко: «все объекты психопаталогического дискурса претерпели изменения от Пинеля или Эскуриоля до Блеле, — во всех этих случаях речь идет о совершенно различных болезнях и совершенно различных больных» [A3, 34]. Но можно установить правила, работающие в некоторой группе высказываний и устанавливающие рамки, в которых этот «объект» трансформируется, делается нетождественным самому себе и рассеянным. Иными словами, группировка по «объектам» скрывает факт зависимости «объекта» от игры дискурсивных правил. Отвергается и группировка высказываний по их типам (например, особый тип высказываний образуют «диагнозы», особый -" протоколы судебных заседаний", и т. д.). Дело в том, что внутри этой формы могут происходить существенные изменения, обусловленные, например, появлением новых приемов наблюдения, экспертных техник или способов обработки информации, которые останутся вне поля нашего зрениякроме того, эти типы высказываний связаны в сложное единство с другими (к примеру, диагнозы — с рецептами, а судебные протоколы — с приговорами), и принцип этого единства внеположен каждому из них: «если и существует единство, то принцип его организации состоит не в какой-то одной определенной форме высказывания» [Там же, 36]. Определение принципов, в согласии с которыми высказывания разных типов выносятся, имплицируются, исключаются, распределяются, замещаются и складываются в изменчивую систему, стало бы более существенным основанием для их группировки и классификации, чем тип. Фуко отвергает и группировку по постоянным и устойчивым концептам, которые задавали бы область обсуждения, как концепты «суждения», «имени» и «глагола» задали архитектонику классической грамматики. Довольно скоро, говорит Фуко, «пришлось бы столкнуться с появлением новых концептов, некоторые из которых, возможно, и появились из тех, что уже существовали, другие окажутся родственными по отношению к ним, а третьи совершенно несовместимыми». В таком случае «все эти совокупности высказываний, анализы, описания, следствия, заключения, которые в таком виде существовали уже не одно столетие, не более, чем ложные общности» [Там же, 36−7]. А вот установление того, благодаря чему некоторые концепты однажды появляются вместе и признаются совместимыми, то есть условий их появления и конституирования, может объяснить существование устойчивой группы высказываний. Эти условия могут быть основанием для появления не одной популяции концептов, а и других, применяемых в иных областях, таким образом, высказывания могут быть объединены в более широкие и менее очевидные группы — факт, который остался бы скрытым при группировке высказываний по концептам. Наконец, эффективность объединения высказываний вокруг сквозной темы (например, темы «эволюции» в биологии) оспорена у Фуко на том основании, что все то, что тему «делает возможной, придает ей цельность в каждом конкретном случае, принадлежит к совершенно различным рядам» [Там же, 38]. В 18-м веке эволюционистская тематика связана с построением и анализом таксономических таблиц, а в 19-м — с изучением динамических взаимодействий между организмами и средой. Скорее, следовало бы говорить о тех «стратегических возможностях», которые открывает каждый из этих подходов для производства высказываний. Рассмотрев и отвергнув эти 4 способа группировки высказываний, Фуко утверждает необходимость иного способа, который объединяет высказывания в «дискурсную формацию», устанавливающую правила, по которым в высказываниях появляются, распределяются, трансформируются и распадаются «объекты», «концепты» и «темы», соотносятся и сводятся в систему нормативные «формы» высказываний, наконец, устанавливаются типичные «субъекты» этих высказываний. Дискурсная формация выступает для каждого индивидуума объективной данностью, правилам которой он должен подчиниться, если хочет стать членом некоторого сообщества (например, медиков или адвокатов, биологов или экономистов) и сохранить себя в этом качестве. Таким образом, «субъект» выступает не как независимая отправная точка речи, а как продукт, или эффект, дискурсной формации. То же самое можно сказать об «объектах», «концептах» и «темах». В таком случае, завершает Фуко, «все то, что вплоть до последнего времени охраняло историка и сопровождало его до самых сумерек (судьба рациональности и телеология наук, непрерывная долгая работа мысли., побуждение и развитие сознания, постоянно осознающего себя в себе самом, незавершенное, но непрерывное движение всеобщности, возвращение к всегда ожидающим нас истокам и, наконец, историко-трансцендентальная тематика), не рискует ли это все исчезнуть, освобождая для анализа белое, безразличное, ничем не заполненное и ничего не обещающее пространство» [Там же, 40]. Новое пространство анализа, о котором говорит Фуко, было быстро освоено аналитиками дискурса.
Понятие «дискурсной формации» они дополнили понятием «идеологической формации», которому придали силовое истолкование. «Мы используем термин идеологическая формация, чтобы характеризовать некий элемент, могущий выступать в качестве силы, противопоставленной другим силам в идеологической ситуации, характерной для данной общественной формации в данный момент времени» [КС, 150]. В качестве составляющих каждой идеологической формации и выступают формации дискурсные, «которые определяют, что может и что должно быть сказано. с определенной позиции в данных обстоятельствах» [Там же]. Эти формулировки взяты из статьи К. Арош, П. Анри и М. Пеше «Семантика и переворот, произведенный.
Соссюром: язык, речевая деятельность, дискурс". Заметим, что сам Фуко составил термин «дискурсная формация», «чтобы не прибегать к таким словам, как наука, идеология, теория или область объективности» [A3, 39]. Поэтому включение дискурсной формации в идеологическую едва ли можно считать развитием идей Фуко. Как бы то ни было, именно то, что смысл высказывания производится по правилам дискурсной формации, являющейся частью идеологической формации, которая сама, в свою очередь, подчиняется в своем функционировании диспозициям и противоречиям общественной формации, позволяет аналитикам дискурса говорить о «материальности» (как и бессознательности) производимых смысловых эффектов.
Отсюда идея дискурсной семантики, противопоставленной традиционной грамматической и лексической семантике логиков и лингвистов. Авторы цитированной статьи дают следующее определение. «Мы будем называть дискурсной семантикой научный анализ процессов, характерных для той или иной дискурсной формации, в таком анализе должна учитываться связь этих процессов с теми условиями, в которых продуцируется дискурс (с теми позициями, с которыми связаны его особенности)» [КС, 151]. Эффекты смысла производятся и понимаются в рамках конкретной общественной, идеологической и дискурсной формации и являются, таким образом, эффектами силового противостояния и существующего в обществе напряжения, которое и придает действиям членов общества значимость либо лишает эти действия всякого смысла. Дискурсная семантика призвана прояснить, как это происходит.
3.7. Эффекты.
На главный вопрос семантики: что значит понимать выражение, — аналитики дискурса ответили бы достаточно традиционно: это значит уметь найти для него подходящие парафразы. Особенность их утверждений заключается в том, что в рамках одной (не говоря уже о разных) общественной формации представители различных идеологических позиций парафразировали бы одно и то же выражение по-разному, то есть оно, сохраняясь по виду тем же, производило бы разные смысловые эффекты. Аналитическая процедура представляет собой а) разложение текстов на элементарные высказывания и б) выявление фактически имеющихся отношений эквивалентности между высказываниями. При этом и показывается, что в идеологически отличных корпусах текстов эквивалентными признаются разные выражения. К примеру, подобному анализу были подвергнуты 43 листовки, которые распространялись студенческой организацией FER в мае 1968 года. (Тут уместно вспомнить, как об этом писал и Пеше, что анализ дискурса был вызван к жизни практическими потребностями осмысления революционных событий.) Например, эквивалентны выражения: «Выступление в защиту свобод», «Выступление в защиту ЮНЕФ», «Выступление в защиту марксизма». Тем самым словам «свободы», «ЮНЕФ», «марксизм» в сложившейся ситуации практически приписывался один и тот же смысл. Интересно, что эквивалентность этих выражений для вовлеченных в ситуацию на стороне революции очевидна. Но ясно также и то, что тут нет ничего «очевидного самого по себе» — заимствование и хождение этих выражений («преконструированных» — собранных заранее и теперь перенимаемых готовыми) как эквивалентных это факт скорее социологии дискурса, чем языка. «Очевидность» здесь, таким образом, не исходная точка, как это происходит, например, у Декарта и Гуссерля, а произведенный эффект. Этот эффектидеологической природы и активно используется. «Мы стремимся постичь способ производства того, что функционирует в качестве «очевидностей» «[КС, 219]. Он представляет собой, по наблюдению Эни Орланди, «насыщение, полноту» (не требует доказательства, все ясно и так) и «опирается на то же самое, на уже имеющееся здесь» (имеет логическую форму самотождественного присутствия, А=А) [КС, 209]. Анализ дискурса, выявляющий, что форму очевидности имеют неодинаковые эквивалентности, и тем самым освобождающийся из-под (идеологической) власти этой формы, представляет собой возможность критики идеологии. Именно это делает его философским методом понимания.
3.8. Неочевидность наличия.
Критика очевидности «очевидного» и наличия «наличного» -конститутивный признак того направления философской мысли, которое развернулось во Франции, начиная с 60-х годов, и которое принято неловко именовать «постструктурализмом» (термин изобретен в США и малоизвестен во Франции). Мы специально проследили, каким образом эта критика (в применении к частным «очевидностям» политических дискурсов) вытекала из критики идеологий. Поэтому нас вряд ли шокирует, что и само соединение таких фундаментальных философских понятий как «наличие» и «очевидность» (очевидность наличия наличного, наличие очевидности очевидного) могло быть истолковано как идеологический эффект и, в свою очередь, как опора определенной идеологии. Начиная с этого места и в соответствии с только что указанной общей точкой зрения, мы отойдем от только политического понимания идеологии аналитиками дискурса и будем рассматривать это понятие более широко. Хотя можно отметить, что уже Э. Орланди, анализируя дискурс «бразильскости», считала само понятие «другой» культуры идеологичным, так что исключительно классовое понятие идеологии, видимо, узко и для аналитиков дискурса. Что же касается более широкого истолкования, на слуху имя, которое Жак Деррида дал идеологии, негласно правящей западным дискурсом, — «логоцентризм», связав последний с «этноцентризмом» европейцев. Любопытно было бы проследить основные пункты собственно философской критики связки понятий «наличие» и «очевидность», связки, политико-культурные следствия которой полагались идущими настолько далеко, что ее критика была одновременно критикой западной культуры и порожденного ей колониального угнетения, намного более радикальной (см. вторую часть «О грамматологии»: «Природа, культура, письмо»), чем печальные обличения колонизации Леви-Строссом.
Объектом тщательной и въедливой деконструкции, предпринятой Деррида в его Введении к «Возникновению геометрии» Гуссерля, 1962, и в книге «Голос и феномен: введение в проблему знаков в феноменологии Гуссерля», 1967, стал феноменологический «принцип всех принципов». Деррида пользуется для этого приемом, который, по преданию, был придуман Протагором Абдерским, самым проницательным из софистов (у Протагора его перенял Демокрит из Абдер, а у тогоПлатон), и получил название «перитропе», что можно растолковать как имманентную (само-)критику высказывания из того, что оно высказывает, обнаруживающую, что высказывание высказывает больше, чем хотелось бы автору, и это делает его — как высказывание, так, впрочем, и автора — уязвимым [ФАД, 82]. Иными словами, «деконструкция» представляет собой, в первую очередь, тщательный пересмотр текста на предмет прочности его логической конструкции, внедренной в термины и скрепившей их, но не отменившей то в их содержании, что выходит за рамки смысла, который желательно было бы приписать словам в интересах устойчивости конструкции, и что проявляет некую самопроизвольную, непредусмотренную и никому не подконтрольную активность. Эту активность надо обнаружить так, как она сама обнаруживается, и тем самым понять то событие, которое в действительности представляет собой конкретный текст. Понятно, что для этого мало соположить перечитываемому тексту новый, который стал бы новым событиемнеобходимо, чтобы соположенный текст был, скорее, в таком отношении к старому, в каком находится к оригиналу перевод или парафраза («то же самое и другое»). В силу этого, и видимо, в силу того, что понимание и вообще представляет собой перевод на знакомый или более подходящий, как представляется, «язык», Деррида писал в «Письме японскому другу», 1985: «вопрос деконструкции от начала до конца есть также Вопрос перевода. языка понятий, понятийного корпуса так называемой „западной“ метафизики» [ВФ № 4 1992, 53]. В послесловии к Введению Деррида к «Возникновению геометрии» Гуссерля переводчик назвал работу Деррида «предательской верностью оригиналу» [НГ, 253]. Но вернемся к «принципу всех принципов» Гуссерля.
Его формулировке посвящен параграф 24 «Идей I». Параграф помещен в полемическую вторую главу и сам полемичен. В интересах этой полемики и формулируется самый важный и самый несомненный принцип, единственно на который можно опереться в любом исследовании. Вот его прямая формулировка. «Никакая мыслимая теория не может заставить нас усомниться в принципе всех принципов: любое дающее из самого первоисточника созерцание есть правовой источник познания, и все, что предлагается нам в „интуиции“ из самого первоисточника (так сказать, в своей настоящей живой действительности), нужно принимать таким, каким оно себя дает, но и только в тех рамках, в каких оно себя дает» [ИЧФФФ, 60]. Огрубляя, можно передать его так: что дано, то дано, и каким дано, таким и надо (уметь) его взять. Или еще проще: наличное, очевидно, налично. Если так же просто попробовать передать позицию Деррида, получится вот что: но ничто не «налично», потому что с ним случается «это» (то, что обозначается как «деконструкция»). Но «это случается», [ВФ № 4 1992, 56] не будучи «мыслимой теорией», о которой говорит Гуссерль, поскольку случается с любой теорией и не по чьей-то воле, а само по себе. Поэтому нельзя понимать дело так, что Деррида оспоривает Гуссерля, критикует его положения и отрицает их как ложные. Выражаясь все еще несколько загадочно, но, по возможности, точно в отношении позиции и работы Деррида, можно сказать, что он, перечитывая Гуссерля, просто смотрит, что при этом случается с «феноменологией» .
Теперь время от уважительных, но туманных пояснений перейти к текстам. Внимание Деррида сосредоточено на предельном основании феноменологии: «Живое Настоящее — это феноменологический Абсолют, из которого я никогда не могу выйти, ибо оно есть то, внутри чего, по направлению к чему и исходя из чего осуществляется всякий выход» [НГ, 184]. Деррида вглядывается в то, что Гуссерль писал о Живом Настоящем, и видит, как «это случается» с феноменологией. Его мысли об этом можно изложить кратко, и они просты (само его «перечитывание» Гуссерля весьма подробно, компетентно и местами сложно для понимания). Первый тезис Деррида таков. «Живое настоящее» как абсолют — это то, что мы постигаем, когда раскрываем себя знанию о том, что за пределами нашего эмпирического существования до нашего рождения и после нашей смерти «есть настоящее». Но раз так, постижение этого абсолюта присутствия соотносительно мысли об исчезновении и отсутствии. Само соотношение настоящего и смерти изначальней и потому абсолютней феноменологического абсолюта. «Явление „я“ для самого себя как „я есть“ является. отношением к своему собственному возможному исчезновению» [ГФ, 75]. Второй тезис может быть понят как более широкая формулировка первого. «Живое Настоящее» это череда моментов, новое «Теперь» отделяется от старого с помощью ретенции (сохранения прошлого в настоящем в виде воспоминания) и значит, «след» прошлого обязательно присутствует в настоящем, поскольку необходим для его конституирования. Получается, что настоящее самоопределяется как «другое» своего «другого» (прошлого). Будучи опосредовано, оно не абсолютно. Включая в себя «другое», оно не идентично. Отсюда вывод: «если настоящее самоприсутствия не является простым. то вся гуссерлевская аргументация несет для себя угрозу в самом своем принципе» [ГФ, 83]. В самом деле, если нечто может быть дано только в соотнесенности с другим и в отличие от него, то нет никакой простой данности, которая не предполагала бы отсылки к другому. А у этого процесса отсылки не может быть ни начала, ни конца (иначе пришлось бы предположить где-то данное само по себе). Ясно, что бесконечность отсылки не может обернуться ни чем, кроме отсутствия настоящей определенности. Даже «2+2=4» (пример общезначимой очевидности у Гуссерля) очевидно истинно вовсе не само по себе, а внутри системы арифметических положений, и Деррида не преминул напомнить тут о результатах Геделя, касающихся ограниченной разрешимости формальной арифметики. Наконец, третий тезис из тех, что мы хотели бы привести, рассматривая «деконструкцию» основоположений метафизики (еще один — о местоимениях — будет разобран немного ниже), говорит об Идее. В мире мы встречаем предметы разной формы, но нигде не встречаем, например, идеального круга. Для объяснения самой идеи идеальной формы Гуссерль вводит в феноменологию регулятивную Идею, которой мы «видим» («идеируем») возможные идеальные образы там, где чувственное зрение видит только экземпляры вещей. Таким образом, Идея — это возможность того, что сущности будут даны с очевидностью их полного присутствия в интуиции. Но сама «Идея не может предстать собственной персоной», пишет Деррида, «так как она есть только возможность очевидности и открытие самого „видения“. Если нечего сказать о самой Идее, то это потому, что только исходя из нее что-то вообще может быть высказано. Ее первичное присутствие не может принадлежать к типу феноменологической очевидности» [НГ, 187]. Идея не присутствует в смысле наличия. А раз так, присутствие сущности зависит от неприсутствующего и в строгом смысле слова не является «принципом». Отправляясь от своего «принципа», феноменология подошла к необходимости восполнения собственных оснований. Но постановка под вопрос и пересмотр ее оснований, ставшие результатом осмысления следствий ее собственных положений, не могут оставить ее нетронутой, больше этот «вопрос не может относиться к феноменологии как таковой» [НГ, 204].
Философская «деконструкция» феноменологического «принципа всех принципов» понимается Деррида как расчет со всей «западной метафизикой», поскольку она выступала мышлением сущностей, данных как очевидное самоидентичное наличие. Вспомним хотя бы определение философа Аристотелем, данное в «Метафизике»: «тот, кто изучает всякую сущность вообще, какова она от природы.» Для этого, продолжает Аристотель, надо уметь «указать наиболее достоверные начала своего предмета», для предмета философа (сущности вещей) — это начало, «относительно которого невозможно ошибаться, ибо такое начало должно быть наиболее очевидным и свободным от всякой предположительности» (то есть первым принципом). Тут же Аристотель его и формулирует — это самоидентичность существования: «конечно, не может кто бы то ни было считать одно и то же существующим и несуществующим» [А, т.1, 125]. Только потому, что сущее самоидентично в сущности (А есть именно А), оно может быть именовано (см. диалог Платона «Кратил», посвященный этому вопросу [П, т.1, 613]), то есть ознаменовано знаком. Это постоянство дает возможность формализации — работы с одними знаками, обобщенно репрезентирующими сущности. Отсюда видно, что подкоп подводится Деррида под весь логико-лингвистический проект. Кстати, за цитированным утверждением Аристотеля тут же следует контрпример: добросовестный Аристотель оговаривается, что человек, считавший «одно и то же существующим и несуществующим», нашелся, им был Гераклит Темный. (Правда, Аристотель со ссылкой на «очевидность» немыслимости самопротиворечия отказывается верить, что Гераклит и в самом деле так думал, как говорил). В виде короткого отступления (впрочем, не уводящего от вопроса) небезынтересно будет заметить, что в западной философии в 20 веке нашелся мыслитель, который возразил на это недоверчивое высказывание: Ойген Розеншток-Хюсси написал специальную работу — «Назад, к риску языка (папирус, который мог бы быть найден)» , — в которой от лица Гераклита составил отповедь формальному мышлению. Вот ее суть: «Я требую от него [гражданина], чтобы он освоил бесчисленные, противоречащие друг другу функции своей должности и не нанес при этом никакого вреда. В противоположность этому ты говоришь об этих противоположностях как об исключении» [БЗГ, 138]. «Ваш покой обманывает учащихся, и это мышление считает, А равным А. Ни один крестьянин и ни один воин не верит в эту глупость, которую ты называешь логикой» [Там же, 144]. Она стала возможным благодаря выдвижению на первое место «заменителей слов, местоимений»: что-то, как-то, ты, я, оно, эта, тот, это. и «последнее местоимение — бытие» [Там же, 153, 162]. Таким образом, возражение Розенштока-Хюсси сводится к утверждению: местоимения (шире говоря: средства формализации природного языка) создают ложное впечатление постоянства присутствия самотождественной и отдельной сущности, так как искусственно скрадывают сложную противоречивость природы, общества и языка. Тем самым выводится, что логический анализ, утвердившийся посредством такой формализации естественных рассуждений, — и есть основной источник метафизической иллюзии, которая абстракцию (или — абстрактное тождество) выдает за «первое по природе», тогда как она есть отвлечение от действительной жизни. Мы, собственно, привели эту критику формального анализа Розенштоком-Хюсси, чтобы, рассмотрев в заключение этой главы высказывания Деррида на сходную тему, убедиться, что «нападки» на аналитические основания метафизики — не единичный случай, а характерная для 2-й половины 20 века философская позиция. Мы прочитали сейчас, что Розеншток-Хюсси выставляет против употребления «местоименных» (формально замещающих) символов то, что они скрывают полную противоречиями жизнь природы и языка людей. Деррида добавляет к этому, что, играя эту роль стабилизаторов сущностей, символы все равно остаются противоречивыми в самих себе и потому спонтанно «деконструируют» непротиворечивость присутствия.
Рассуждение Деррида можно передать так. Гуссерль утверждает, что выражение языка вообще значат благодаря наполняющей интуиции живого присутствия того, что ими обозначено. Поэтому, когда местоимения Я, Здесь, Теперь написаны неизвестно кем, где и когда, мы сталкиваемся, по Гуссерлю, с аномальной ситуацией, не зная, что же конкретно они обозначили. Но тот же Гуссерль устанавливает автономию значения в отношении интуитивного познания: в самом деле, эти местоимения могут быть приложимы ко всякому говорящему, к любому месту в любое время речи, их значение понятно независимо от того, приложены ли они к конкретному существу и к какому именно. Если бы эта обобщенность не входила в их языковое значение, ими нельзя было бы пользоваться, наполняя «конкретными интуициями». Они могут быть максимально конкретны потому, что предельно всеобщи — ведь они могут быть наполнены цельной интуицией существа («Я») потому, что они совершенно пусты. Деррида делает отсюда вывод, который не делает Гуссерль: для того, чтобы слово значило, равно необходимо и «живое» присутствие, и «мертвое» отсутствие, и полнота, и пустота, а значит, присутствие в живой интуиции не может утверждаться первопринципом значения. Желание сохранить «принцип всех принципов» заставляет Гуссерля уклоняться от заключений, вытекающих из его собственных предпосылок и тем обесценивает теорию. «Это происходит потому, что темы полного „присутствия“, интуитивистского императива и проекта познания продолжают управлять — издалека, как мы сказали, — всей дескрипцией. Гуссерль описывает и тем же самым движением стирает освобождение речи как незнание» [ГФ, 128]. Спустя 2 года Поль Рикер по тому же поводу писал, что на уровне семиологии, то есть в системе знаков языка, личные местоимения, разумеется, «пусты» — они сводятся к противопоставлениям личностное/неличностное (Я, Ты/ Оно) и адресант/адресат (Я/Ты) — а полнотой значения обладают местоимения на уровне дискурса (на семантическом уровне говорения о чем-то), где, например, «значение Я всегда является уникальным» — так как здесь Я есть уже не просто знак, а «индивид, который проговаривает данную часть дискурса, содержащую лингвистическую инстанцию Я» [КИ, 393]. Рикер обсуждает в этом отрывке взаимоотношения феноменологической теории значения и структуралистской теории знака. Мы могли бы сказать, что суть упрека Деррида Гуссерлю с этой точки зрения состоит в том, что Гуссерль, говоря о «позитивной» полноте значения как условии осмысленной речи, забыл о другом ее условии — языке как системе «негативных» («этоне то, а то — не это») различий между знаками. Иными словами, Деррида как бы упрекает Гуссерля в том, что тот не учитывает основополагающий для лингвистической мысли 20 века тезис Фердинанда де Соссюра из опубликованного в 1916 году «Курса общей лингвистики» [ТПЯ]: язык есть форма, а не субстанция, и в нем нет ничего, кроме различий.
3.9. Дилемма.
Обратим внимание на цитированное выше противопоставление у Деррида проекта познания, опирающегося на принцип присутствия сущности, — освобождению, которое понято как незнание того, о чем в действительности говорит речь (как «пустота» семантической темы [ГФ, 129]). Это противопоставление имеет логическую форму дилеммы, деконструирующей идеологию логоцентризма тем, что она вводит вопрос и выбор туда, где они «не приходили в голову»: если принимается «принцип всех принципов», то принимается и необходимость познающих усилий разума, подчиняющих себе человекаесли в значении зияет пустота отсутствия и бесконечная отсылка откладывает его наполнение ad infinitum, то человек освобождается от этого груза как бессмысленного несения ноши в бесконечность- «принцип всех принципов» либо надо принять («доказать» его нельзя), либо отброситьпоследуют: жизнь «по необходимости» — или свобода.
Обсудим эту дилемму подробней. Здесь мы сталкиваемся с самой сутью поставленной в этой работе проблемы. Если, как мы говорили, критика идеологий это критика их «очевидностей», то «деконструкция» самого понятия очевидности как метафизического первопринципа у Деррида есть, несомненно, самый глубокий подкоп под основания идеологий. Больше того, если непонимание возникает в силу того, что очевидное для одного человека не является таковым для другого, и взаимный «перевод» (не в лингвистическом, а в аналитико-дискурсном смысле) их высказываний становится невозможнымесли каждая общественная формация учреждает свой собственный «агон», а в ходе этой борьбы производятся «очевидности», не совпадающие у борющихся сторон, и устранить это силовое напряжение в обществе полностью нельзято единственным путем к пониманию оказывается не переустройство общества, а полный и последовательный отказ индивидуума от власти концепта «очевидности» (а с ним «тождественности», «присутствия», «ясности» и т. п.). Однако, не будет ли это отказом от всякой осмысленности и значимости? Что можно предложить человеку взамен его общественно санкционированной и общественно воспроизводимой системы «очевидных» (в его классе, группе, среде) идей? Не об этом ли «белом, безразличном, ничем не заполненном и ничего не обещающем пространстве», открытом по исчезновении классической рациональности, писал Фуко? Не о практической ли ценности создающего всякий смысл «агона» свидетельствует провал всех попыток интеллектуалов (например, организованной Фуко Группы информации о тюрьмах, самораспустившейся в 1972 году в результате конфликта с Инициативным комитетом заключенных) соединить свою мысль и общественную практику? И не является ли «смерть человека», о которой писал Фуко, естественным и единственным выводом из тех мыслей, которые были изложены в этой части работы?
Если да, то дилемма: освобожденное от логоцентризма «понимание» или подчиненная власти идеологий «жизнь» , — дилемма, состоящая в том, что такое понимание приводит к исчезновению из жизни смысла, а захваченность витальным порывом исключает такого рода понимание, не разрешима на путях, освоенных нами. Острота этой дилеммы для человека Запада заключается в том, что «понимание» разъединяется с «познанием» через развенчание «очевидностей» последнего, но это то самое «познание», которое в высокой традиции Запада и полагалось истинной «жизнью». Если доверять Платону, из верности этому соединению «познания» и «жизни», которое называется на Западе «Истиной», Сократ предпочел смерть одобрению «лжи». «Истина» или «ложь» («третьего не дано») — вот исходная для метафизической традиции Запада оппозиция, и ее горизонтом всегда был выбор Сократом смерти. Это постоянство темы смерти за «Истину» или ради «Истины» в западной традиции не случайно, потому что проект «познания» и «истинной жизни» не выполним. Его невыполнимость обусловлена тем, как понято западной метафизикой «познание»: как совместимость (а лучше тождество) высказываний по поставленному вопросу, что предполагает взаимное наложение «очевидностей», начиная с «самой достоверной» из них. Изложение, предпринятое выше, должно было показать, почему этот «логоцентрический» идеал не достижим для людей (вовсе не по «лингвистическим» причинам) и почему упорное желание и непреклонная решимость его реализовать приводит к тому, что исходное положение ухудшается, и провалы непонимания растут. «Смерть человека» это смерть того самого западного человека, который умирал за очевидные истины.
Заключение
которое вытекает отсюда, таково: если у западного человека нет «истины» и ему не за что умирать (его «Бог», как сказал Ницше, «умер»), западному человеку остается жить в бессмысленной пустоте или перестать быть западным человеком — исчезнуть в этом качестве, «умереть» самому. Его культура пришла к отрицанию своих оснований.
3.10. Вопрос об иной культуре.
Мы думаем, что только из этой перспективы становятся понятны надежды на «приход новой формы» [Ф, 171], которая, по словам Жиля Делеза в его книге о Фуко, не будет ни «Богом» (невидимым гарантом «очевидностей» в их предельной данности), ни «человеком» (их ревностным держателем), и которая сможет и «понимать» (а не «познавать»: мыслить по-иному), и «жить» (тоже, соответственно, по-иному), которая будет сингулярным «третьим», не нуждающимся для жизни в том, чтобы кто-то «давал» ему «наличность» под гарантии, словно ссуду, а он бы удерживал «данное» под страхом санкций. Словом, «новая форма» это неизвестная (и невозможная для нас) свобода как иная культ ура. Но откуда она возьмется и какой она может быть? В конце концов, это не единственное возможное направление культурных сдвигов.
Леви-Стросс предложил в «Печальных тропиках» вот какой ход мысли. Он утверждал, что встреча французов 16 века (Ив д*Эвре, Жан де Лери, Самюэль Шамплен) с примитивными народами Америк и шок, испытанный ими от встречи с первобытным обществом, привели к идейному движению, приветствовавшему в 18 веке Великую Французскую революцию. Спросим себя: не те же ли встречи эпохи великих географических открытий отзывались в 20 веке (через посредство идей Революции) поисками иной культуры как радикального обновления?
Перечитаем колониальные наблюдения Леви-Стросса над индейскими племенами: «всей истории колонизации., — говорит Леви-Стросс, осмысляя свои путешествия по Бразилии, сопутствует это радикальное отречение от традиционных ценностей, этот распад определенного уклада жизни, когда утрата каких-то его элементов немедленно влечет за собой обесценивание всех остальных» [ПТ, 447]). Это верно, но не исчерпывает проблемы. Дополним констатации Леви-Стросса исследованиями, описанными в книге Марии Григорьевны Котовской «Этнические процессы в Бразилии», 1985. Изучая образование современного расового состава бразильской нации, Котовская пишет, что причины, обусловившие скорость распада традиционных групп и его результаты, нужно искать не только в воздействии чужой культуры (португальцев), но и в особенностях культур индейских племен. Например, если родство считалось по матери, то метис-кабокло, сын индеанки и португальца, становился полноправным членом племени, а если родство считалось по отцу, метис считался чужаком, не допускался к сокровенным культам племени, и это приводило к быстрому выделению кабокло в особую группу, селившуюся отдельно и имевшую собственные «пещерные» эзотерические ритуалы, куда не допускались ни индейцы, ни португальцы [ЭПБ, 33]. На наш взгляд, это образование «промежуточной» культуры чрезвычайно интересно. Ее эзотеризм представляется нам естественным следствием трехсторонней обособленности — от культуры «бранко» (белых), от культуры аборигенов и от культуры «пардо» (африканских рабов). На другом конце Земли, в Австралии, среди аборигенов, отколовшихся от традиционных религий, но не примкнувших к культуре белых, так же возникли эзотерические «блуждающие» культы. Причем отход от инициационных традиций приводит к утверждению общедоступности ритуальных и магических знаний — это касается не только своей, но и белой религии (христианства). Вот пример австралийского синтетического культа, описанного в 1963 году Гельмут Петри и Гизелой Петри-Одерман. «Они узнали, что Йинимин (=Иисус) недавно явился аборигенам. У него черно-белая кожа, и он объявил, что вся страна будет принадлежать местному населению и что между белыми и черными не будет никакого различия» [РА, 285]. Мы видим, что и здесь образуется «промежуточная», синтетическая культура, плод спонтанной, более не сдерживаемой традиционными предписаниями креативности. Обратим внимание на то, что «местное население» в этом пассаже (по образу черно-белого Бога) — это по сути дела «духовные» метисы.
Если теперь задуматься над утверждением Леви-Стросса о зависимости революционных событий в Европе от когнитивного шока, испытанного европейцами при встрече с первобытными культурами (так что идеология Просвещения впитала в виде идеала «естественного» человека впечатления от этого знакомства), то разве не должны быть дополнены наблюдения над мутациями традиционных культур этих народов наблюдениями за распадом европейской традиционной культуры? Разве нельзя говорить, фигурально выражаясь, о ее собственной «метисизации»? В 20 веке необычайный интерес к чужим культурам неоднократно вырывался наружу, и его последствием каждый раз была частичная аккультурация людей Запада (увлечения африканскими, индейскими, тибетскими культами и проч.), точнее, образование «промежуточных» субкультур, более или менее широко и глубоко распространяющих свое влияние.
Короче говоря, встреча имела последствия для обеих сторон. Она привела к переструктурированию человеческого мира, еще не оконченному, но уже значительному и продолжающемуся. Ее значение — в разъедании оснований прежних культур и, быть может, в постепенном формировании нового типа человека и соотносительной ему культуры. Со своей стороны мы можем сказать о ней пока только то, что концептуально-аналитическое, исключающее a priori все остальные решения, достигнутые на иных путях, «познание истины» («логоцентризм») уже не будет ее основной конститутивной чертой (в противном случае ее тип не будет новым), хотя едва ли эта черта может быть совсем утрачена без катастрофической деградации сегодняшнего человечества. В заключение мы могли бы выделить 3 возможных направления культурных сдвигов. Это:
1) поиск собственной культурной идентичности, о которой мы говорили в 1-й части работы (традиционализм);
2) не сдержанная одной конкретной традицией, но заимствующая модели из многих доступных традиций спонтанная креативность культурного «метиса» (эклектизм, о котором так много говорили теоретики «пост-модерна»);
3) существование в раздвинутом критикой пустом и белом пространстве отказа от традиционных ценностей и смыслов.
Последнее состояние понимается западными интеллектуалами как «сверх-человеческое» или, скорее, сверх-культурное, поскольку не является простым последствием аккультурации, но выступает результатом рефлексии над основаниями своей культуры и проявлениями чужих культур (ее можно было бы считать сознательно проведенной аккультурацией рефлексирующего индивида). Когда-то Людвиг Виттгенштейн заметил, что разочарование в поисках общезначимых оснований языка и науки отнюдь не оборачивается крахом этих институтов, но «оставляет все, как есть». Мы думаем все-таки, что культурные сдвиги в мире происходят (хотя и согласны, что не разочарование в метафизике служит их причиной), и это касается, в частности, западной культуры. Все не «остается как есть», все движется. Атака на традиционную западную метафизику сама есть симптом этого движения. Но кроме того она выступает продолжением рефлексивной традиции и наследует высокой культуре Запада, являясь в этом смысле ее «последним словом». Именно поэтому мы полагаем, что третье из отмеченных направлений сдвига, быть может, действительно «ничего не обещающее», по выражению Фуко, характерно именно для Запада и означает не только исчерпанность прошлых установок «западной» мысли, но и будущее состояние сознания «западного» человека, поскольку служит исходным пунктом некоего будущего движениявозможно, что это будет движение к «новой форме», которая станет свободным выходом из дилеммы «мертвенное понимание вне идеологий/жизнь в иллюзорных очевидностях» .
4. Выводы.
Мы исходили из того, что в нашей культуре востребованы и задействованы для налаживания понимания с представителями иных культур, в первую очередь, навыки логико-лингвистического анализа, которые необходимы для преодоления языкового барьера и используются при решении вопросов истолковывающего «перевода» (трансляции) понятий и сложных представлений из культуры в культуру. И потому именно этому направлению мы уделили столько внимания. Видимо, надо сказать несколько слов о том, почему столько же внимания не было уделено, например, герменевтике, дисциплине, которая в центр своего внимания поставила концепт «понимания». На наш взгляд (обосновывать который в деталях мы тут не можем), теоретико-философские основания «герменевтики», по меньшей мере, не общепризнаныа конкретные герменевтические техники покрываются (или вполне могут быть покрыты), с одной стороны, логико-лингвистическим анализом, а, с другой стороны, анализом дискурса. Приведем лишь одно высказывание Поля Рикера из книги «Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике»: «Изначально именно в языке выражается всякое онтическое или онтологическое понимание. Поэтому не будет тщетным искать именно в семантике ось соотнесения для всей совокупности герменевтического поля» [КИ, 16]. К сожалению, вопрос о герменевтике мы вынуждены тут оставить в стороне.
Мы постарались показать мощную аппаратуру логико-лингвистического анализа, выработанную западной культурой в ходе критического обсуждения выдвигавшихся (со времен Аристотеля) аналитических концепций, — и как можно эксплицитней представить ее возможности. Мы полагаем доказанным, что вовсе не слабая разработанность аналитического аппарата является препятствием для взаимопонимания и диалога культур со стороны Запада.
В первой части работы сами основания европейской рациональности не ставились под сомнение. Таким «основанием» является положение о самотождественном наличии некоторой сущности, которая и составляет предмет познания. Ведь только по поводу такой — объективно данной несмотря на субъективность восприятия и мысли — сущности можно рассчитывать прийти к согласию. Если эта сущность недостаточно очевидна, приходится подыскивать основания, однозначно подтверждающие высказывания об этой сущности. Так происходит восхождение к наиболее очевидным и достоверным основаниям. Приняв принцип Nihil est sine ratione, аналитика формализует эту процедуру приведения к согласию (общему основанию) путем замены терминов на переменные. Отметим, что сама идея «переменной» связана с таким ходом мысли: «Пусть по поводу сути нашего дела мы не пришли к согласию — рассмотрим вопрос в принципе» (и неразрешенная «суть» обозначается произвольным значком, вопрос же обсуждается «вообще»). Аналитика обладает огромным потенциалом реконструкции интеллектуальной сферы человека (мы специально остановились на проекте «универсальной характеристики» и его современных разработках). Разумеется, при одном ограничении: принятые постулаты и правила, а также приписанные выражениям значения не должны подменяться после того, как соглашение по их поводу достигнуто. И, самое главное, непоколебимыми должны оставаться предельные основания конструкции. Охранению этих оснований посвятила себя европейская философия, включая, в 20-м веке, феноменологию и позитивизм.
Но «западная» рациональность не сводится к апологии логико-лингвистического анализа. Именно это призвана продемонстрировать часть, получившая название «Власть непонимания». Мысль, к которой мы пришли там, состоит в том, что анализ сам по себе вообще не является пониманием (хотя, бесспорно, является инструментом, полезным во многих областях деятельности). Попросту говоря, дело в том, что содержательные, полнокровные, действительно полные значения «очевидности» производятся в условиях «агонического» напряжения в обществе, и потому «очевидное» для одной стороны — более, чем спорно, для другой и не может служить общим основанием согласия. А согласие в формальных принципах не решает проблемыскорее, наоборот, может повысить степень раздраженности друг другом, если одна сторона станет «логически» убеждать другую в своей исключительной правоте (а наполнения абстрактных схем рассуждения живым содержанием, вибрирующим в силовом поле конфликта, избежать все равно не удастся). Эта простая мысль показывает, что связности и точности выражений и рассуждений не достаточно для понимания, так как в силовом поле проблем реального общества не каждый вопрос имеет значимость и не каждый ответ — смысл. А значит, не достаточно анализа со всем его потенциалом. Ибо где не поставлен или отвергнут вопрос, там анализ работать не может: он вторичен, инструментален и зависим от постановки проблемы.
Небезразлично для философского рассмотрения проблемы, что сам концепт «очевидности» попадает под подозрение. Он сомнителен и шаток (на наших глазах с феноменологическим «принципом всех принципов» случилось то, что он распался сам в себе). Тем самым область проблематичности распахивается и границы ее теряются. Видимо, тезис американского дескриптивиста Леонарда Блумфильда, всю жизнь изучавшего языки американских индейцев: «смысл существует, но мы не в состоянии сказать о нем что-нибудь осмысленное» — высказывает самое осмысленное, что можно сказать о смысле живого общения. Чтобы не создалось впечатление, что вывод Деррида о неустранимой неопределенности смысла — единичный философский прецедент, приведем рассуждение на ту же тему Жиля Делеза из трактата «Различие и повторение», 1969: «Мышление выдает догматический образ и постулат [всех] предположений, согласно которому философия якобы находит свое начало в первом предположении сознания, в Cogito. Но, возможно, Cogito — имя, не имеющее смысла и другого объекта, кроме неопределенной регрессии как силы представления (я мыслю, что я мыслю, что я мыслю.)» [РП, 193−4]. Иначе говоря, если есть самое первое выражение, у которого заимствуют смысл все остальные («Cogito»), то само оно вынуждено будет осмысляться через само себя, бесконечно представляя свое производство, чтобы воспроизводить его, — но этот бесконечный регресс кажется только непрекращающейся попыткой схватить какой-то смысл, которая никогда не удастся по той причине, что это выражение не высказывает ничего определенного, что можно было бы «схватить». Эта реплика Делеза не изолирована от контекста современной ей французской философии: она является реакцией на положения «рефлексивной философии» Жана Набера о неэлиминируемости Cogito (самополагания мыслящего Я) — поскольку самопонимание предполагается любым пониманием — и в то же время опосредованности его знаками, в результате чего к подлинному Cogito необходимо идти путем последовательной интерпретации этих знаков, — отсюда берут начало герменевтические очерки Рикера [см. напр. КИ, 264−5, 363]- Делез и говорит в связи с этим: вместо «субъекта» в Cogito мы находим бесконечное воспроизведение представления пустого представления. Да, в конце концов, разве уже Леви-Стросс, завершая «Печальные тропики», не утверждает о человеческом понимании: «Абсолютное отрицание смысла — это вершина серии этапов, каждый из которых ведет от меньшего смысла к большему» , — трактуя абсолютное отрицание смысла как «окончательное освобождение» [ПТ, 540]? Освобождение, в конечном счете, от себя самих.
Но если мы все же тратим огромное количество времени на то, чтобы выявить, интерпретировать для себя и объяснить другим единственно верный смысл событий, если мы верим в возможность универсальной объективной правоты, то значит, «логоцентризм» европейской культуры составляет ее существенное ограничение. Оно выражается в избыточности усилий, направленных на «объективное понимание смысла», разъяснение «понятого» (в наших понятиях, с наших позиций, нашими методами) всем другим и убеждение их, что «так оно и есть на самом деле», как мы говорим. Как ни странно, сама идея «универсальности» понимания ограничивает нас (настолько же, насколько определяет), она съедает наши жизни, подчиняя их задачам, для многих других культур нерелевантным, иллюзорным и совершенно бессмысленным. Как заметил Мирча Элиаде, «реконструкция культурной истории австралийцев имеет огромное значение для западной науки и в конечном счете для понимания Западом примитивных народов — но она несущественна для самих аборигенов» [РА, 298]. Являются ли они «на самом деле» осмысленными? Для нас, в силу ряда особенностей нашего «духовного склада», по факту общественной престижности интеллектуальных занятий и в силу нашими же склонностями порожденных глобальных проблем, — да. Вот все, что можно ответить.
Итак, «западная» рациональность имеет довольно сложное строение. Она не только вырабатывает эффективные инструменты, необходимые для того, чтобы узнать точно, что говорит (и что думает) другой человек. Она осознает ограниченность собственного инструментарияона объясняет, почему попытки понимания не удаются в той степени, на которую, казалось бы, можно рассчитывать, исходя из степени разработанности аналитических методик. Наивно было бы думать, что осознание «болезни» — путь к ее излечению (есть болезни неизлечимые) — было бы, наверное, заблуждением считать, что осознание своей ограниченности открывает шанс по ее преодолению, во всяком случае, «преодолевшие» эту ограниченность едва ли будут уже людьми «западной» культуры. Но можно надеяться, что «критическая» составляющая западного мышления смягчит его упрямую доказательность в надменном поиске универсальных принципов мироустройства, того, что «у них» совершенно или почти «так же», как «у нас» (= «универсально»). Нет иного смысла жизни кроме того, что производится живыми существами в разных местах и в разное время, в состояниях бодрствования или сна, и разделяется или не разделяется где-то кем-то в других местах и временах, близких или далеких, в зависимости от причин, никогда не определимых полностью и никогда полностью не контролируемых — безгранично проблематичных.
Кратко опишем в заключение ту процедуру «понимания», которую культивирует «западный» человек.
А. Описание объекта.
Основная задача: учесть объективную инаковость Другого и найти релевантные характеристики (признаки, значимые для существования Другого, и, с другой стороны, понятные нам) для ее фиксации в описании. 1) Формулировка позиции исследователя и формы его участия в событии. 2) Заполнение структурной матрицы (описание реализованной структуры как комбинации релевантных признаков из некоторого стандартизированного набора с исчислением ненаблюдаемых фрагментов и вариантов).
Б. Интерпретация полученного описания.
Основная задача: дать отчет о смысле своего дискурса (вполне ли мы понимаем то, что мы говорим). 1) Когерентность (самосогласованность и связность) рассуждения. 2) Корреспондентность (предметная адекватность) его значения. 3) Самоотчет в особенностях употребления терминов и конструкций с учетом их возможной полисемантичности (усилия по достижению однозначности терминологии). 4) Контроль за своими пресуппозициями, осознание возможной спорности «очевидностей» и учет способности речи к спонтанным смещениям смысла рассуждения. 5) Экспликация степени достоверности вынесенных суждений и познавательной границы, за которой вынесение суждений на тех же основаниях должно быть приостановлено («эпохе»).
Едва ли мы можем сделать больше. Бесспорно, мы можем немало. Но не слишком ли много методичных усилий тратится на то («понимание»), что с меньшими затратами и большей отдачей достигает совместная жизнь с долей доброжелательности и то движение в сторону жизни другого человека, которое мы называем «сочувствием» или «симпатией»? Не этот ли отказ от исчисления отношений и свободный, мгновенный и не регламентированный контакт с другим человеком — по всей ежеминутно и произвольно конфигурируемой совокупности человеческих параметров — мог бы стать моделью будущей культуры? Нам кажется, что эта культура «мгновенных (виртуальных) отношений» может иметь за собой будущее. Видимо, будет уместна также финальная констатация «банальности» развернутой выше модели: она только эксплицитно упорядочивает методы, которыми реально пользуется «западный» человек, когда хочет составить для себя и уяснить представление о «другом» человеке, и, отказавшись от которых, он перестанет представлять логоцентрическую культуру, которую мы — условноименуем «Западом» .
Библиографический указатель литературы, на которую в тексте диссертации имеются ссылки:
1. А: Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Москва, Мысль, 19 761 984.
2. A3: Фуко М. Археология знания. Киев, Ника-центр, 1996.
3. АИ: Блок М. Апология истории или ремесло историка. Москва, Наука, 1986.
4. БЗГ: Розеншток-Хюсси О. Бог заставляет нас говорить. Москва, Канон+, 1997.
5. ВММ: Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история. Москва, Языки русской культуры, 1996.
6. ВРМ: А. Н. Соколов. Внутренняя речь и мышление. Москва, Просвещение, 1968.
7.ВСФЛ: Carnap R. Introduction into Semantics and Formalisation of Logic. New York, 1959.
8. ВФ № 4 1992: Вопросы философии. Научно теоретический журнал. Москва, Наука, 1992.
9. ВФ № 10 1992: Вопросы философии. Научно-теоретический журнал. Москва, Наука, 1992.
10. Г: Деррида Ж. О грамматологии. Москва, Ad Marginem,.
2000.
11. ГПР: Арно А., Лансло Кл. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля. Москва, Прогресс, 1990.
12. ГФ: Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. Санкт-Петербург, Алетейя, 1999.
13. ЗЛI: Зарубежная лингвистика -1. Москва. Прогресс. 1999.
14. ЗЛ II: Зарубежная лингвистика — II. Москва. Прогресс.
1999.
15. 3JI III: Зарубежная лингвистика — III. Москва. Прогресс.
1999.
16. ЗН: Карнап Р. Значение и необходимость. М., 1959.
17. И: Остин Дж. Избранное. Москва, Идея-пресс, 1999.
18. ИЛУ: Кондратов Н. История лингвистических учений. Москва, Просвещение, 1979.
19. ИМ: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва, Прогресс, 1988.
20. ИРФ: Уайтхед А. Избранные работы по философии. Москва, Прогресс, 1990.
21. ИСН: Chaunu F. Histoire, science sociale: la duree, l*espace et l*homme a l*epoque moderne. Paris, 1974.
22. ИЧФФФ: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1. Москва, Дом интеллектуальной книги, 1999.
23. КГК: Библер B.C. Кант-Галилей-Кант. (Разум Нового времени в парадоксах самообоснования). Москва, Мысль, 1991.
24. КИ: Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. Москва, Academia-Центр, 1995.
25. КС: Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. Москва, Прогресс, 1999.
26. ЛОЛТ: Chomsky N. The Logical Basis of Linguistic Theory. Cambridge, 1962.
27. ЛР: Логика и риторика. Хрестоматия. Минск, ТетраСистемс, 1997.
28. ЛСР: Carnap R. Logische Syntax der Sprache. Schriften zur wissenschafflichen Weltaufiassung, t.8. Springer, Wien, 1934.
29. ЛЧ: Ломоносовские чтения 1994. Москва, Филология,.
1994.
30. MA: Hintikka J., Remes U. The Method of Analisis. Its Geometrical Origin and its General Significance. Dortrecht-Boston, 1974.
31. МБ: Todorov T. Michail Bakhtine, le principe dialogique, suivi de Ecrits du cercle de Bakhtine. Paris, Seuil, 1981.
32. МСИЯ: Методы сопоставительного изучения языков. Москва, Наука, 1988.
33. MP: Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва, Лабиринт, 1999.
34. НГ: Гуссерль Э. Начало геометрии.
Введение
Жака Деррида. Москва, Ad Marginem, 1996.
35. НЛ: Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Москва, Мысль, 1998.
36. НТК: Малиновский Б. Научная теория культуры. Москва, ОГИ, 1999.
37. ОМЛ: Карри X. Основания математической логики. Москва, Мир, 1969.
38. ОНКЛК: Библер B.C. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в 21 век. Москва, Издательство политической литературы, 1991.
39. ОТП: Комиссаров В. Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых. Москва, ЧеРо, 1999.
40. П: Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Москва, Мысль, 1990;4.
41. ПМа: Whitehead A., Russel В. Principia Mathematica. Cambridge, 1925 (2-е изд.).
42. ПМ: Сартр Ж. П. Проблемы метода. Москва, Прогресс,.
1994.
43. ПН: Позитивизм и наука. Критический очерк. Москва, Наука, 1975.
44. ПР: Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейро-лингвистический анализ синтаксиса. Москва, изд-во МГУ, 1989.
45. ПТ: Леви-Стросс К. Печальные тропики. Львов, Инициатива, 1999.
46. РА: Элиаде Мирча. Религии Австралии. Санкт-Петербург, Университетская книга, 1998.
47. РМ: Куайн У. Референция и модальность// Новое в зарубежной лингвистике. Москва, 1982.
48. РП: Делез Ж. Различие и повторение. Санкт-Петербург, Петрополис, 1998.
49. РЦ: Революция в Церкви? (Теология освобождения). Документы и материалы. Москва, Международные отношения, 1990.
50. С: Семиотика языка и литературы. Москва, Радуга, 1983.
51. С A: Levy-Strauss К. Anthropologic structural. Paris, 1970.
52. СЗ: Frege G. Uber Sinn und Bedeutung. Zeitschrift fur Philosophie und philosophische Kritic, 100B. Leipzig, 1892.
53. СЗП: Структурализм: «за» и «против». Сборник статей. Москва, Прогресс, 1975.
54. ССТ: Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, изд-во НГУ, 1995.
55. ССТр: Katz J., Fodor J. The Structure of a Semantic Theory. «Language», 1963.
56. ТГН: Успенский B.A. Теорема Геделя о неполноте. Москва, Наука, 1982.
57. ТКГ: Godel К. Uber formal unentscheidbare Satze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I// Monatshefte fur Mathematic und Physic. Leipzig, 1931 (т.38, тетр.1).
58. ТПЯ: Де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М, 1977.
59. Ф: Делез Ж. Фуко. Москва, Издательство гуманитарной литературы, 1998.
60. ФАД: Джохадзе Д. В. Философия античного диалога. Москва, Диалог-МГУ, 1997.
61. ФЛА: Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск, Водолей, 1999.
62. ФЛЛВШ: Философия и логика Львовско-Варшавской школы. Москва, РОССПЭН, 1999.
63. ФЛС: Carnap R. Philosophy and Logical Syntax. Psyche Miniatures, General Series nr.70, London, 1935.
64. ФМЛ: Стяжкин Н. И. Формирование математической логики. Москва, Наука, 1967.
65. ФР: Витгенштейн Л. Философские работы (Часть 1). Москва, Гнозис, 1994.
66. ФСН: Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, Сагуна, 1994.
67. ЧП: Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. Киев, Ника-центр, 1997.
68. ЭПБ: Котовская М. Г. Этнические процессы в Бразилии. Москва, Наука, 1985.
69. ЭСЛ: Reichenbach Н. Elements of simbolic logic. New York, 1952.
70. ЭЯО: Bourdieu P. L*Economie des echanges linguistique. Langue francaise, № 34, 1977.
71. ЯМ: Хомский H. Язык и мышление. Москва, 1972.
72. ЯН: Язык и наука конца 20 века. Москва, РГГУ, 1995.
73. ЯПК: Вежбицка А. Язык, познание, культура. Москва. Русские словари, 1997.