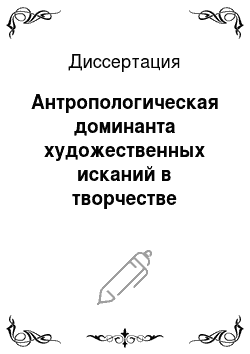Мысль о том, что А. Платонов — трудный писатель, давно укоренилась и в сознании рядового читателя, и во мнениях специалистов-платоноведов. Тем не менее художественный мир Платонова привлекает значительное число исследователей, которых не смущает сложность чтения его произведений. Количество работ, посвященных творчеству писателя, сравнительно велико (интересно будет отметить, что зарубежное платоноведение по числу изданных в последнее десятилетие монографий ни чуть не уступает отечественному — см. 66,195,197). Впрочем, еще одна расхожая мысль — о том, что писатель плохо изучен, не так банальна, как это может показаться. Так, например, не может не поразить скудость нашего знания о биографии Платонова. Совершенно справедливо писала десять лет назад Н. В. Корниенко, что «и при жизни писателя и после его смерти суждения о Платонове по-своему опережали процесс возвращения его произведений. Невостребованными остаются целые материки наследия: повести, сценарии, рассказы, статьи, наброски, научно-технические изобретения, работы по мелиорации 20-х — 40-х годов» (62,131). Однако на сегодняшний день изменилось не так уж и много. Освоение творчества писателя было осложнено также и тем, что ряд ключевых для Платонова произведений был опубликован только в 90-х годах — после быстротечно схлынувшего (во многом спекулятивного) интереса конца 80-х: титаническими усилиями дочери писателя М. А. Платоновой, являющейся президентом «Общества А. Платонова», и Н. В. Корниенко, бессменного председателя Оргкомитета уже четырех международных платоновских конференций, были изданы роман «Счастливая Москва» (1991), пьеса «Ноев ковчег» (1993) и др. вещи писателя, значение которых еще предстоит по достоинству оценить.
История изучения художественного наследия Платонова насчитывает несколько основных этапов, каждый из которых имеет свою специфику:
1) прижизненная критика (1922 — 1951);
2) критика первой волны «возвращенной литературы» (1958 — 1965);
3) период философского осмысления (конец 60-х — начало 80-х);
4) критика второй волны «возвращенной литературы» (1986 — 1991);
5) постсоветское платоноведение 90-х (доминанту научного подхода этого этапа пока еще сложно определить, так как он далек от своего завершения).
Особенностью прижизненной критики произведений писателя являлась ее крайняя степень тенденциозности и заидеологизированности. Л. Авербах, В. Стрельникова, И. Майзель, Р. Мессер, Б. Ильюшин, А. Гурвич, В. Ермилов анализировали Платонова под углом зрения его соответствия агитпроповским идеологемам 20 — 40-х годов. О тех заключениях, к которым приходили эти авторы, можно судить по заглавиям их статей: «Ошибки мастера», «Попутчики второго призыва», «Порочная философия», «Клеветнический рассказ А. Платонова» и т. п. Учитывая фактически тотальную (за несколькими исключениями из «правила») предубежденность официозной печатной критики против писателя, необходимо заметить, что (весьма относительная) устойчивость творческой деятельности Платонова держалась на той высокой репутации, которую он имел во внутриписательских кругах — у М. Шолохова, Л. Леонова, Вс. Иванова и др. Литературная работа Платонова находила сочувствие, как видим, в, так сказать, «внутренних отзывах» писателей, стремившихся в своем собственном творчестве постигнуть глубину философского содержания бытия. Поэтому не удивительно, что (РАППовская в основном) подцензурная критика не принимала общефилософскую проблематику платоновских вещей, злостно ее игнорировала или замалчивала, если не находила повода к политическим обвинениям.
Внимание к Платонову критики первой волны «возвращенной литературы» было связано с общей тенденцией пересмотра отношения к тем писателям, восприятие которых было искажено погромной РАППовской демагогией. Это обстоятельство заставило исследователей обратиться к вопросу о РАППовском подходе к творчеству писателя. Среди работ на эту тему выделяются исследования Л. Шубина (183), С. Шешукова (182) и др. Праведное желание снять с Платонова приклеенные РАППовцами ярлыки привело, однако, к некоторому перекосу в представлениях о особенностях его поэтики: так, в 5060-х большинство платоноведов склонялось к тому, чтобы видеть в нем только бытописателя и психолога. Эта точка зрения отражена в работах А. Гладкова (24), А. Хайлова (176) и др. Однако частные замечания Л. Шубина (184), Л. Аннинского (4), В. Свительского, суть которых можно свести к тезису последнего о том, что у Платонова наблюдается приоритет «общей мысли над конкретным наблюдением и крупного масштаба над показом частного» (157,8), создали предпосылки для обращения к анализу философских построений писателя. Он и является отличительной чертой платоноведения 70 -80-х годов.
В. Скобелев (161), Н. Корниенко (64), Н. Полтавцева (146), Л. Бабенко (6), Г. Паршина (76), Т. Осицкая (75) и некоторые другие рассматривали философские аспекты творчества Платонова в целом — в контексте причастности писателя к наследственной традиции отечественной литературы, бескомпромиссно ставившей перед собой «вечные проблемы» и «последние вопросы». Между тем продуктивной оказалась и линия исследования генезиса философских воззрений писателя, имеющих разнообразные источники. С. Семенова подробно анализирует воздействие на Платонова «Философии общего дела» Н. Федорова (159,363−373), Е. Яблоков прослеживает софиологию Вл. Соловьева (194), Н. Малыгина находит следы влияния научных представлений А. Чижевского (70,26−29), В. Чалмаев — философской публицистики В. Розанова (180,436−443). М. Геллер (22), Э. Найман (195), Е. Толстая-Сегал (166) обращают внимание на фрейдистский подтекст платоновских вещей, рассматривая его, впрочем, в «смешении» с уже упоминавшимися Н. Федоровым и В. Розановым.
Особое место в истории изучения Платонова занимает критика второй волны «возвращенной литературы». Она была чрезвычайно обильной. Однако степень ее глубины оказалась в обратно пропорциональной зависимости от ее количественного показателя. Чаще всего в работах этого времени имя писателя (и его творчество) некритически ставилось в один ряд с теми художниками, кто так или иначе был вытеснен на обочину культурного процесса в СССР. Причем самое местоположение в этом официозном культурном ландшафте интерпретировалось как мировоззренческая позиция Платонова. Он предстает в этих работах замаскировавшимся социальным критиком, тайным разоблачителем «коммунистической утопии», провидцем той кошмарной реальности, которая по сей день ассоциируется с печально известным 1937 годом. Исходя из оппозитивной логики, критика рисует его носителем традиционных ценностей — как общечеловеческих, так и (несколько реже) религиозных. Типичными в этом отношении являются работы И. Золотусского (47), Р. Гальцевой и И. Роднянской (21), А. Зверева (43). Не смотря на крайне низкий уровень научного осмысления творчества Платонова именно критика второй волны «возвращенной литературы» сформировала стереотипный образ писателя, который намертво утвердился в массовом сознании в 90-х.
Разительно отличается от критики второй волны «возвращенной литературы» постсоветское платоноведение, хотя и оно не свободно от поверхностных культуртрегерских клише, которые были навязаны в 80-х. За счет включения Платонова в новые (зачастую экзотические) религиозные, философские, политические и художественные контексты и анализ интертекстуальных связей представление о творчестве писателя теряет свою былую конъюнктурную однозначность и существенно углубляется. Так, по мнению В. Вьюгина некоторые стороны платоновской поэтики высвечиваются сквозь призму анархизма П. Кропоткина (18). Интереснейшие размышления об отношениях коммунизма (по Платонову) с христианством содержатся в работах Л. Карасева (50,51), который связывает их друг с другом «мистикой детства». Есть также исследования, рассматривающие религиозную проблематику у писателя с точки зрения сектантских движений, как общеевропейских, так и национальных. Г. Гюнтер (30), например, поднимает вопрос о милленаризме (Т.
Мюнцер, анабаптисты), В. Васильев (15) и И. Сухих (164) — о народно-утопических (зафиксированных в фольклоре) тенденциях. А. Эткинд актуализирует хлыстовский подтекст (191), а В. Живов — скопческий (36). Работ этого типа не так уж и много, однако широкий спектр сектантской проблематики, возникающий в их совокупности, заставляет задуматься о действительной значимости для Платонова этой темы.
Но наиболее вероятный всплеск исследований, как нам представляется, будет связан с анализом гностических мотивов платоновского творчества: предварительные наметки о теософско-антропософском влиянии на писателя содержат работы Н. Дужиной (34) и Н. Малыгиной (69). Кроме того, имеются и статьи, в которых Платонов рассматривается в контексте масонской проблематики: так, Ю. Пастушенко считает, что в «Чевенгуре» обнаруживается обширнейший пласт символики масонства (78,79).
Достаточно объемным является в постсоветском плагоноведении и философский «фон» творчества писателя. В основном это концепции мыслителей серебряного века, что вполне объяснимо, но не всегда представляется оправданным. Гораздо реже платоноведы обращаются к западно-европейской и американской традициям философской мысли. В этом плане заслуживает внимания работа М. Дмитровской, в которой исследователь обнаруживает поразительное сходство воззрений Платонова и взглядов основоположников философской антропологии М. Шеллера и X. Плеснера (31).
Характеризуя постсоветское платоноведение, мы, разумеется, весьма выборочно указали на те направления, которые в нем прослеживаются. Но его тематика и проблематика не ограничиваются ими. Однако и этот (по объективным причинам) усеченный список дает яркое представление о процессах, происходящих в сфере освоения творческого наследия Платонова. Все эти отрадные изменения тем не менее не позволяют утверждать, что художественный мир писателя в достаточной мере описан и в необходимой степени осмыслен. Более того, самые мировоззренческие основы представлений писателя остаются, по нашему мнению, не проясненными. Что (отчасти) связано и с тем безудержным потоком разнообразных культурных контекстов постсоветского платоноведения, который (нередко) размывает суверенные границы уникального платоновского мира.
АКТУАЛЬНОСТЬ предлагаемого диссертационного исследования обусловлена рядом факторов, которые до сих пор выпадали из поля зрения большинства платоноведов. Фактически все исследователи однозначно признают, что в центре внимания творчества Платонова находится проблема взаимоотношений человека и мира. Однако дальнейшая конкретизация понятия мир приводит к возникновению вопросов, несколько замутняющих простоту и ясность этого понятия. Так, в одном случае с понятием мир нам необходимо связать природу, в другом — общество (а в третьем — и самого человека, поскольку он, во-первых, также имеет отношение к миру, а во-вторых, постольку, поскольку внутренний конфликт ставит его в общий с природой и обществом «конфликтный» ряд). Впрочем, даже не касаясь вопроса о понятийном содержании мира у писателя, мы не можем однозначно ответить, что из себя представляют отношения человека с миром: родство? враждебность? или их связывает некая «диалектика», примиряющая родство и враждебность как количественно-качественные состояния? Чаще всего платоноведы дают «диалектообразные» варианты ответов на этот вопрос: «метаморфоза» (С. Бочаров), «взаимопревращение» (В. Эйдинова), «обращение» (Н. Малыгина), «амбивалентность» (Ю. Пастушенко) и т. п. М. Дмитровская, сделавшая попытку подойти к платоновскому творчеству с собственно антропологической позиции, в качестве «диалектического инструмента» приводит сознание: «Особенности положения человека во вселенной связываются Платоновым с наличием у человека сознания <.> Сознание, будучи отношением рефлексивным, приковывает человека к своему собственному „я“ и к телу, в котором существует человек, Одновременно с этим человек выходит из круга природной, космической жизни и обретает отдельное, замкнутое в своих границах существование» (31,91). Принимая во внимание, что существуют религиозные и психоаналитические подходы к проблеме сознания (к слову сказать, находившиеся в сфере интересов писателя), включающие в его область и подсознательное — обобщенно говоря, некие универсалии психики, как бы закрытые для влияния самого человека, -определение М. Дмитровской теряет свою первоначальную отчетливость. Да и как объяснить парадоксальное платоновское представление о том, что Октябрьская революция открывает эпоху Царства сознания, в которой сознание становится новой душой человека (82,90)? Где же оно было до 17-го года, как говорили в начале 20-х, и что делало? Имел ли его буржуазный человек? Судя по тому, что в буржуазном человеке наличествовала старая душа — половое чувство (82,90- 102- 106), именно в нем, высоко воспитанном и блестяще образованном, сознания как раз и не было. К этому мнению писателя можно относиться как угодно, но не считаться с ним нельзя.
Некие антропометрические критерии человека у Платонова дает в своей типологии персонажей писателя Е. Яблоков. Он, правда, отождествляет сознание с рацио, рассматривая вместе с ним подсознательное (инстинктивность) и интуитивное как типы «отношения к миру в целом» (194,195). Однако и здесь не избежать непростых вопросов: каким образом эти типы связаны между собой или, иначе говоря, в рамках чего инстинктивность, рациональность и интуитивность становятся «типовыми» свойствами человека? С чем связано «отношение к миру в целом» — с историческим (то есть культурным) развитием человека? Может быть, оно мотивируется психологическими механизмами структуры личности? тогда какими именносвязанными с детским опытом (3. Фрейд) или с архетипами (К. Г. Юнг)? Или все-таки мистикой духовного переживания, русло которого простирается, однако, от традиционного христианства до разнообразных эзотерических систем? Как мы уже писали, все эти гипотетические предпосылоки антропологических представлений писателя, будучи освоенными платоноведением как индивидуальный контекст, в принципе выглядят не столь убедительно. Таким образом, мы можем видеть, что ашропологическая проблематика творчества писателя (не смотря даже на то, что вопроса о человеке — в связи с теми или иными его отношениями с миром — касается едва ли не каждый, кто пишет о Платонове, вне зависимости от того, какой аспект платоновского художественного мира исследуется: религиозный, философский, эстетический и т. п.) остается, в сущности, «белым пятном». Именно с этим и связана значимость темы нашего диссертационного исследования.
ЦЕЛЬ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ состоит в том, чтобы дать опыт систематизированного анализа антропологической проблематики Платонова в обход жесткой оппозитивности: мир — человек, в том (эксплицитно) или ином (имплицитно, то есть в ситуации, когда речь ведется о каком-либо из «видов диалектики») случае априори задающей типологию отношений между ними. Суть этого анализа связана с тем, чтобы проследить имманентное развитие некоей универсальной субстанции платоновского мира, которая у писателя антропологически акцентировала, но не является, как это ни удивительно, самим человеком. Этой субстанцией, по нашему мнению, является вещество существования, категориально единое и для природных, и для человеческих, и для технических, скажем так, объектов. При таком подходе антропологизм Платонова, характеризующий качество вещества существования человека как данную в определенной пространственно-временной (исторической) точке (хронотопе) модификацию вещества самой Вселенной, открытого для эволюционного развития, преодолевает антропоцентризм, довлеющий уже в силу самой постановки вопроса о человеке.
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе формулируются и решаются следующие ЗАДАЧИ:
1) выявить источники и генезис космологических представлений Платонова, взглядов на человека и социум, описать их внутреннюю структуру и механизм функционирования;
2) показать специфику антропологически ориентированной историософской концепции писателя в контексте перекрестного взаимовлияния христианской догматики и научного знания конца 19 — начала.
20-го веков.
На защиту выносятся следующие ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ диссертационного исследования:
1) вещество существования — центральная категория платоновского художественного мира, оно является «несущей осью» диахронно-антропологической цепочки развития мира: Вселенная (природа) — человек (и являющаяся ему, согласно взглядам Платонова, братом машина) — техника (включающая, как считал писатель, и нового человека — техника);
2) структура и механизм функционирования Вселенной, человека и общества имеют общую типологическую основу и являются изоморфными;
3) своеобразие взглядов Платонова на мир связано с его представлением о Вселенной как о некоей пустоте (объеме), внутри которой осуществляется динамическое изменение соотношения пустотелости и заполненности веществом (космогенез);
4) специфику онтогенетического и филогенетического развития человека (антропогенез) писатель находит в процессах перемещения энергийного ресурса вещества существования человека, осуществляющихся внутри семейно-сексуального комплекса: родители (отец/мать) — ребенок (или дети, братья и сестры);
5) типология платоновского человека основывается на историософски понимаемом писателем поколенческом признаке, суть которого составляют внутренние пространство и время, порождаемые в результате столкновения человека с миром и как бы являющиеся выражением качества его вещества существования,.
6) социум у Платонова является системой, образующейся как следствие взаимонаправленных действий его полюсов-хронотопов, имеющих диахронноантропологическую природу.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертационного исследования заключается в целостном подходе к творчеству Платонова, которое интегрирует в некоем синкрезе разнообразные источники мировоззренческих принципов писателя на основе антропологической фокусировки, особенности которой связаны с универсализацией категории вещество существования.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве опорных теоретических посылов, дававших импульс для нашей мысли или предоставлявших рабочий материал для размышлений о творчестве Платонова, в диссертации использованы наработки ведущих ученых в области методологии литературоведения, теории и истории литературы: М. Бахтина, С. Бочарова, Л. Гинзбург, Н. Корниенко, Е. Яблокова, С. Семеновойв области философии: А. Пятигорского, М. Мамардашвили, Л. Карасева, В. Подороги, В. Хорунжего, А. Габричевскогов области истории: В. Булдакова, Л. Миловав области психоанализа и аналитической психологии: 3. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера, В. Райхав области культурологии: А. Эткинда, М. Эпштейна, Ф. Аинсы.
В основе методологического подхода нашей диссертации лежат историко-культурный и сравнительно-типологический методы. В работе также использовались элементы биографического, контекстуального и системно-типологического методов.
МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом и методологическим полем диссертации является все творчество Платонова, которое рассматривается как в некотором роде единый текст. Ранняя проза (малых жанров), поэзия, публицистика, проза (больших жанров) конца 20-х — 30-х годов и драматургия, литературно-критические работы не являются в нашем исследовании изолированными предметами анализа. В структуре диссертации каждая из глав в той или иной степени фокусирует весь художественный универсум платоновского творчества, эксплицируя в нем теоретически значимые ракурсы и контексты рассмотрения и следуя тому комплексу проблем, который обозначен в формулировках их названий и выступает как существенно значимый именно для данной конкретной главы. Большую часть предметного анализа занимают тексты таких повестей и романов Платонова, как «Рассказ о многих интересных вещах», «Эфирный тракт», «Чевенгур» и «Счастливая Москва» .
АПРОБАЦИЯ основных положений диссертационного исследования проходила в различных формах. Материалы и результаты исследования в течении ряда лет использовались в лекциях, спецкурсах и спецсеминарах по истории русской литературы на факультете журналистики Кубанского Государственного университета. Центральные положения диссертации легли в основу содержания докладов, сделанных на 4 международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А. П. Платонова (Москва, 1999), научно-теоретической конференции «Христианство и культура» (Краснодар, 1999), на 3 межрегиональной научно-практической конференции (Пушкинских чтениях) «Философия любви и добра» (Краснодар, 2000). Отдельные разделы и этапы исследования обсуждались на кафедре аналитической журналистики и литературно-социологических проблем КубГУ. По теме данной работы опубликованы пять статей.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ диссертационного исследования состоит в том, что основные положения работы могут быть использованы в лекционных курсах по истории русской литературы XX века, спецкурсах и спецсеминарах. Результаты исследования можно применять при изучении творчества Платонова для обобщенного описания его художественного метода и при анализе конкретных произведений писателя. Эти результаты могут также стать действенным средством преодоления трудностей интерпретации платоновского художественного наследия при освоении его в ВУЗах и школах.
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения и Библиографического списка. Основной текст изложен на 308 машинописных страницахсписок использованной литературы включает 197 наименований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Итак, подходя к подведению итогов нашей работы, мы можем (с большим на то основанием) сделать вывод о том, что творчество Платонова представляет собой последовательное и целенаправленное антропологическое исследование, предпринятое писателем в художественной форме (что, впрочем, не должно нас смущать). Собственно говоря, эту мысль пытался выразить и сам Платонов в труднейшее для себя время (начало 30-х), — для того, чтобы объяснить свои отношения с партией и Советской властью в целом и устранить случайно возникшие, как ему казалось, недоразумения. Именно с этой точки зрения обращают на себя внимание слова писателя, которые приводит в «Справке» на него оперуполномоченный 4-го отделения СПО ОГПУ Н. X. Шиваров, курировавший агентурную деятельность органов госбезопасности в писательской среде. Шиваров был абсолютно уверен в антисоветских настроениях Платонова, но тем не менее написал в своем отчете, что в частных разговорах писатель убеждал своих (весьма не многочисленных) собеседников в том, что опубликование его произведений не только допустимо, но и необходимо в интересах партии. Согласно полученным из агентурных источников сведениям, Платонов утверждал следующее: «<.> Нет ведь ни одного писателя, имеющего такой подход в тайники душ и вещей, как я./ Добрая половина моего творчества помогает партии видеть плесень некоторых вещей больше, чем РКИ (курсив наш. — О. М.)» (148,37). Вызывающее для покаянного самооправдания (а в биографии Платонова было и такое) сравнение доброй половины своего творчества (и не исключено, что именно той, что оставалась неизданной по цензурным соображениям) с деятельностью Рабоче-крестьянской инспекции в этих (по меньшей мере заставляющих усомниться в адекватности репутации антисоветчика) словах писателя вряд ли, однако, можно назвать необдуманным. Конечно, РКИ и подобные ей организации занимались большей частью этической стороной деятельности людей. Но следует учитывать, что анализ поступков того или иного лица опирался как раз на специфическое исследование его человеческой природы. Именно поэтому в практике большевизма такое большое значение имели происхождение (наследственные признаки) и социальная среда, в которой человек рос и воспитывался (психологические признаки).
Мы сейчас не будем заострять внимание на политической конъюнктуре, в той или иной степени влиявшей на функционирование любого партийного учреждения. Однако даже во внутрипартийной борьбе с разнообразными уклонами и группировками (а также с попутчиками и спецами) определяющими, как бы это не выглядело странным, были не столько политические взгляды (далеко не всегда имевшие принципиальные различия), сколько имплицитно выделяемые (тем самым классовым чутьем, язвительно обыгранным М. Булгаковым в повести «Собачье сердце») некие антропологические параметры, которые, считалось тогда, чуть ли не на уровне подсознания детерминировали самую этику. К слову сказать, ее без тщательного «герменевтического» анализа, «методикой» которого в совершенстве владели не только сотрудники идеологических и правоохранительных структур, но и многие рядовые граждане, совершенно не возможно было осмыслить как вредительскую. Со временем менялись представления об этих антропологических параметрах, происходила перегруппировка их ценностных значений и знаков, но самый подход, как показывает вся история СССР, оставался в целом неизменным. Напомним, например, что политические обвинения, предъявляемые в 20-х РАППовцами попутчикам и крестьянским писателям, строились в основном вокруг их мелкобуржуазного происхождения (которое вообще играло центральную роль в РАППовских методологических концепциях искусства), а в 60-х годах, когда стали всерьез изучать деятельность сотрудников РАППа, мелкобуржуазность стали вменять в вину уже им самим (С. Шепгуков). Официальная борьба с космополитизмом, затеянная в конце 40-х — начале 50-х, дисскуссии о национальном самосознании (и острая критика в их рамках инородного элемента), которые инициировала так называемая деревенская проза в 60−70-х, приведшие в конце 80-х к «знаковому» делению писателей на русских и русскоязычных, — все эти вехи истории советской культуры генетически связаны с антропологизмом подходов к образу человека, формировавшихся еще до революции и лишь кристаллизовавшихся в послеоктябрьский период, и являются лишь их исторически изменившимися модификациями.
Платонов, естественно, не был неким добровольным сотрудником (далеко не всегда) компетентных органов. Поэтому его оговорку о помощи партии, более эффективной, по его словам, нежели работа РКИ, следует истолковать как непосредственное указание на антропологический аспект своей художественной деятельности. Центральная роль антропологических интересов писателя может быть подтверждена также и тем, что под этим углом зрения он не только создавал свои произведения, но и прочитывал чужие. Анализ «критических» работ о «Пророке» и «Медном всаднике» А. С. Пушкина убеждает нас в том, что Платонов воспринимал великого поэта как исключительно антрополога, выявлявшего в своих вещах закономерности онтои филогенетического развития человека и моделировавшего на их основе гипотетические общественные отношения. Конечно, писатель вычитывал у Пушкина лишь то, что внушало ему уверенность в свои собственные интеллектуальные построения, однако не справедливо было бы утверждать, что он их только приписывал поэту для пущей авторитетности своих слов. Платонов, вероятно, был полностью убежден, что суть литературного творчества и заключается в подобного рода исследованиях, поскольку этика является неустойчивой, исторически переменчивой категорией, а следовательно, изначально не способной нести в себе его сущностное содержание.
Следует особо отметить, что антропологическая проблематика художественного наследия писателя чрезвычайно далеко выходит за пределы круга приоритетов культурной политики агитпропа 20−50-х годов, да и возникает во многом на иной почве. Так, классовость никогда не являлась для него значимой категорией искусства, хотя он отнюдь не игнорировал самый вопрос о ней. Платонов считал, что религиозные, национальные, классовые, идеологические и т. п. характеристики есть в действительности показатели качества вещества существования человека, которое он представляет собой на той или иной стадии антропогенеза. Генеральная роль вещества существования определяет возникновение в его художественном мире диахронно-антропологической «системы координат», в рамках которой осуществляются далеко не простые (и вовсе не диалектические) отношения между природой, человеком и техникой. Особенности вещества существования {архитектура телесного устройства, нравственные [обусловленные нравом — тем, что нравится, то есть специфически понимаемой эстетикой, как бы заданной психобиофизикой человека] значения и поведенческие стратегии) связывались Платоновым с силой совершенной жизни — с энергийным ресурсом человека, который он генерирует из окружающего его мира, Вселенной.
Специфику взаимоотношений человека и мира писатель выводил из особенностей внутренней структуры Вселенной. Стоит все же, видимо, отметить, что представление о внутренней структуре Вселенной было сформировано им не без значительного влияния антропологических теорий конца 19 — начала 20 веков. Здесь особую роль сыграли и дарвинизм, и оригинально перетолкованный фрейдизм. Строго говоря, однозначно источники идейно-философских воззрений Платонова выявить крайне сложно. Для него, стремившегося синтезировать разнородные религиозные, научные и идеологические элементы в некоем мировоззренческом синкрезе, были пригодны и язычество с христианством, и теория эволюции Ч. Дарвина, и диалектический материализм К. Маркса. Восходящее к древнему тотемизму язычество у писателя вполне состыковывалось с идеей о том, что прародителями человека были животные, новозаветное предание о Христе — с марксистской трактовкой исторического развития. В основе платоновского взгляда на создание Вселенной лежат представления, очень близкие к концепции Большого взрыва, которую, как известно, признает (с оговорками) и христианство, а обнаруживающаяся у писателя отзвуком теория катастроф Ж. Кювье не отрицает библейскую апокалиптическую традицию, берущую начало со Всемирного потопа.
Тот факт, что человек способен наращивать запасы (к примерумускульной) силы, не подлежит сомнению. Однако очевидность представления Платонова о возможности генерирования силы совершенной жизни, рассеянной в мире, не является несомненной, и поэтому это представление требует выяснения своих идейных оснований. Таких оснований мы находим несколько, но тем не менее не стремимся выбрать из них наиболее предпочтительное: у писателя, скорее всего, имел место в каком-то смысле структурный подход, позволявший рассматривать различные по происхождению и интенциям концепции близкими друг другу в типологическом отношении. Так, никак нельзя исключить возможного воздействия на Платонова догматики христианства, одно из положений которого утверждает, что источник духовных и физических сил человека находится в боге. Напомним, что (антропологически категориально) писатель признавал бога и именно с антропологической моделью Христа связывал пути антропогенетического развития человека: «<.> лишь мертвые питают живых во всех смыслах. Бог есть — покойный человек, мертвый» (97,153), — писал он в записной книжке. Между тем еще более значимым для него нам представляется фрейдистский подтекст. Есть весомые причины полагать, что представления о либидо (и шире — о структуре личности по 3. Фрейду), согласно которому эта инстанция является неким резервуаром психической энергии, было экстраполировано Платоновым на уровнь мега- (а также микро-)мира, то есть Вселенной — именно поэтому она виделась ему в виде объема силовых запасов. Кроме того, к выводу об «объемном» характере Вселенной писателя могло подвести и осмысление теории относительности А. Эйнштейна, которая содержит в себе предпосылки для вывода о том, что Вселенная не может быть стационарнойона должна или расширяться, или сжиматься. Платонов был склонен считать, что на современном этапе развития Вселенная начинает сжиматься (отсюда его идея «сделать человеком все» (124,309)), но в схематическом отношении у него описываются и расширение, и сжатие — как динамика соотношений пустотелости и заполненности в объеме мировой пустоты (эфира). Каковы бы ни были в действительности мировоззренческие источники взглядов писателя, безусловно тем не менее то, что Вселенная у него — это объем, подвижная конфигурация которого зависит от наполняющей его энергии, эволюционно движущейся от пустоты (то есть мертвой материи) к веществу (живой материи).
Судя по характеру архитектуры телесного устройства человека и внутренней структуры социума, человек и общество, по Платонову, изоморфны Вселенной. Человек, согласно его точке зрения, (изначально) также представляет собой пустоту, которая постепенно заполняется веществом. Этой схемой у него очерчивается процесс онтогенетического развития. Так, «пустое пространство» в чреве матери, где человек должен будет зародиться, писатель и рассматривал как расподобленно-метафизически понимаемую пустоту самого человека (заметим очевиднейшее сходство между материнским чревом и Вселенной, связанное со способностью расширяться и сжиматьсякроме того, отметим, что в «Эфирном тракте» Вселенная названа — речь явно идет об особенностях именно женской конституции — чревом мира). Вещество же человека образуется за счет траты (перемещения) силы от отца и матери в течение их жизнедеятельности (движения): во время зачатия, беременности и младенческого вскармливания {заслонения от мира) и воспитания (ознакомления с миром).
Платонов полагал, что энергийные ресурсы вещества существования человека находятся в прямой зависимости от наличия (а точнее говоря, использования) силы его родителей. На основе этой зависимости у него формируется некий комплекс, который мы назвали семейно-сексуальным комплексом: родители — ребенок. Особенности семейно-сексуального комплекса в свою очередь определяют видение писателем поколенческой проблематики. Не смотря на то, что проблема движения людских поколений разрешалась им в историософском ключе, а не семейно-родовом (как переход от старшего поколения к младшему), в целом именно семейно-сексуальный комплекс: родители — ребенок следует рассматривать как схему филогенетического развития человека. Являясь совокупностью силовых потоков, возникающей в результате деятельного соединения матери и отца, человек тем самым превышает каждого из них в отдельности качеством своего вещества существования — как целое свои части. Отношение человека (целого) к матери и отцу (как частям целого) и составляет платоновскую сущность филогенеза: человек восходит на более высокую ступень своего психофизиобиологического развития, которую писатель определяет категорией поколение', человек становится полным (в онтогенетическом смыслехотя у него есть представление и о филогенетической полноте) человеком.
У Платонова выделяются три ступени поколенческого развития человека, то есть три поколенческие модификации образа человека. Мы их назвали ветхим, новозаветным и новым поколениями. Антропогенетический характер выделения платоновских поколений как раз и позволяет рассматривать их в историософском ключе — как характерный признак того или иного историософского этапа. Человек, на основании образа которого обозначивается тот или иной историософский этап, обладает более или менее устойчивыми антропологическими определениями, доминантами которых писатель считал (для ветхого) близкую любовь (секс), (для новозаветного) хотъбу (ее видом он представлял и крестьянскую деятельность, понимая ее как «движение» вслед за природными сезонами), (для нового) технически оснащенный, определяемый работой сознания труд.
Платоновские историософские этапы ознаменованы событиями, отмечающими сдвиги антропологического развития человека: для ветхого человека это его собственное зарождение в природе, новозаветный связан с явлением Христа, а новый — с формированием (мифологической структуры) техники. Однако подчеркнем: писатель не привязывает свои историософские этапы к конкретным датам, не фиксирует их в системе летоисчисления календарно-хронологического времени. Поскольку после Октября 17-го появляется (не новый, приход которого, напомним, мыслится только в связи со специфически понимаемой Платоновым структурой техники, а) новозаветный человек, то следует допустить, что самая революция для писателя феномен, типологически схожий с явлением Христа, хотя с календарно-хронологической точки зрения их разделяют 1917 лет. Но с изменением историософского этапа не происходит автоматического сдвига психофизиобиологии человека. Все как раз обстоит прямо противоположным образом — именно антропогенез мотивирует самое движение Истории, ее этапов. То есть можно сделать вывод, что историософские этапы мыслятся писателем как (в первую очередь) антропологические категории.
Это заключение играет принципиальное значение для хода нашего дальнейшего анализа творчества Платонова. Поскольку историософская проблематика, как мы видим, сущностно антропологизируется писателем, то следует предположить, что самые пространство и время ставятся им в определенную зависимость от психофизиобиологических особенностей человека того или иного поколения. Точнее — следует говорить о каких-то антропометрических показателях пространства и времени, в которых они осуществляются процессуально-вещественно. Дело в том, что Платонов представлял себе пространство и время как некие предметно-вещественные среды, с которыми человек соприкасается, проходя через них (о чем свидетельствуют такие стилистические конструкции, как «проходя сквозь лето» («Котлован») и т. п.). Эта особенность достаточно зрима в случае с пространством, которое, нет сомнения, претерпевает изменения по мере взаимодействия с человеком (в целом им является создание (постройка) каких-либо культурных объектов). Но и в случае со временем необходимо исходить из этого же посыла. Представление о расширении/сжатии Вселенной, как и одно из положений христианской историософии, свидетельствующее о конце временсостоянии, когда времени больше не будет (то есть изначальном райском состоянии), допускает предположение о наличии некоего «числового» содержания времени, которое как бы априори задано, но не дано в цифровом эквиваленте. Если подойти ко времени с подобных позиций, то можно сделать вывод, что его «числовое» содержание должно не увеличиваться (о чем нам лукаво «говорит» календарь), а уменьшаться. Однако христианское летоисчисление (которому следуют и верующие различных христианских конфессий, и атеисты), основанное как раз на увеличении «числового» содержания времени от условной исторической точки, исказило, как, видимо, думал Платонов, самое представление о природе времени. Именно этим можно объяснить тот факт, что писатель уходит от идеи конвенциональное&tradeвремени и связывает историософскую проблематику своего творчества со спецификой телесности человека. Человек, согласно его точке зрения, живет в соответствии со своим особым, внутренним временем. Оно порождается в результате взаимодействия человека (его психофизиобиологии) с изначально заданным темпоральным объектом, то есть временем существования самой Вселенной.
Даже учитывая, что освоение пространства имеет, как это кажется, внешний характер, платоновский человек, как мы убеждены, обладает и внутренним пространством. Окультуривание изначально заданного пространственного объекта (то есть Вселенной, взятой в ее пространственном аспекте) есть утопизация человеком своего образа — вынесение своих собственных антропологических определений в предметный мир. В этом смысле сам человек и является пространством (им являются как его телесность, так и его утопизированные в объектах предметного мира черты, взятые в совокупности, дающей полного человека), возникающим как следствие его взаимодействия с (обладающим своими относительными, исторически изменяющимися пространственными характеристиками) миром. Пространство и время, следовательно, имеют внутренний характер, так как являются антропометрическими показателями качества вещества существования человека. Иначе говоря, можно и даже необходимо вести речь о том, что человек, своей (актуально и утопизированно данной) телесностью овеществляющий пространство и время — картографирующей и хронометрирующей Вселенную, есть, согласно взглядам Платонова, в сущности не что иное, как автохронотоп.
Взяв на себя смелость ввести в исследование поэтики писателя понятие автохронотоп, мы отталкиваемся от весьма авторитетной и разработанной в литературоведении традиции, основы которой заложил М. Бахтин. В работе «Формы времени и хронотопа в романе» он писал, что образ человека (как, естественно, эстетического феномена) «существенно хронотопичен» (9,235). Смысл этой идеи выдающегося литературоведа заключается в том, что образ человека зависим от пространственно-временных структур. Однако потенциальные возможности анализа хронотопа, которые (по ряду причин) сам М. Бахтин не смог осознать и, соответственно, выявить, позволяют нам сделать заключение, что элемент, называемый образом, формируется в сшибке (первоначального содержания) человека и обстоятельств, а следовательно, с неизбежностью несет в себе черты, являющиеся своеобразными антропологическими эквивалентами пространства и времени. Кстати говоря, эти черты (не касаясь их антропологического аспекта, который тем не менее вполне ясно просматривается) М. Бахтин четко обозначил, связав их с такими категориями, как национальность и возраст (старость/молодость, юность/зрелость).
В принципе, М. Бахтин мог отождествить образ человека и хронотоп (правда, это отождествление в его случае шло бы по смежности и являлось бы тропом). Тем не менее он оговорил только зависимость образа человека от структур пространства и времени. На его решение повлияло в первую очередь, видимо, то, что, согласно его персоналистски-экзистенциально ориентированным мировоззренческим взглядам, человек есть антропологически статичное существо, поэтому он может быть только подвергнут влиянию хронотопа (даже в том случае, если он сам воздействует на пространство и время), то есть, как писал литературовед, может быть лишь хронотопичен. Во вторую — оно связано, вероятно, с тем, что М. Бахтин рассматривал образ человека как эстетическую категорию, редуцируя к ней его антропологическую проблематику. И в третью — на него, безусловно, повлиял сам материал его исследования: в античном (древнегреческом и римском) романе, задавшем типологию романного жанра вплоть до Нашего времени, над человеком стоит неизбежная судьба (или боги), то есть он как раз объект действия, а не субъект (хотя, оговоримся, что самая субъектно-объектная система отношений не отвечает сути нашего подхода). Мы же, однако, исходим из того, что у Платонова человек — это филогенетически развивающийся образ, не устойчивый в своих (лишь исторически данных) антропологических определениях. Именно поэтому он не просто у писателя хронотопичен — он выступает хронотопом эволюционного развития Вселенной, то есть является автохронотопом. Как видно из наших рассуждений, мы не вполне следуем М. Бахтину. Но богатейший интеллектуальный ресурс именно его теоретических построений, который по сей день остается еще не выбранным его последователями, позволяет нам сформулировать одно из существеннейших положений платоновской поэтики.
В заключении следует сказать, что наше исследование не претендует на всю полноту знания о Платонове. Мы стремились внести посильный вклад в развитие платоноведения, подлинный расцвет которого еще впереди. В контексте будущих^ посвященных писателю, исследований наш труд видится как не более чем первоначальные наработки, открывающие перспективные.
296 возможности дальнейшего — более полного и полноценного — изучения художественного наследия великого русского писателя XX века.