Е. Замятин, и Ф. Достоевский: Культ. — ист.
истоки романа «Мы»
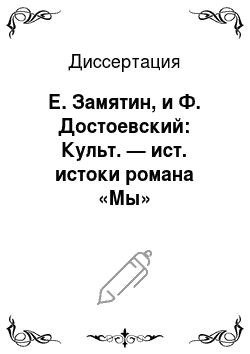
Как и Достоевский, Замятин придерживается исключительно высокого взгляда на человеческую личность и ее высокое предназначение. Он воспевает свободу личности и иррациональные начала человеческой души, он верит в бесконечные возможности интеллекта и чувств человека. Однако для подтверждения своей позиции Замятину не понадобилась религиозная аргументация. Как атеиста, его не особо интересуют бытие… Читать ещё >
Е. Замятин, и Ф. Достоевский: Культ. — ист. истоки романа «Мы» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- ВВЕДЕНИЕ.I
- ГЛАВА I. ДОСТОЕВСКИЙ В ОБЩЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ U ВЕКА И ТВОРЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА
- ГЛАВА II. ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ МЕДЦУ РОМАНОМ Е. ЗАМЯТИНА МЫ" И ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ Ф. ДОСТОЕВСКОГО
- I. «Здание судьбы человеческой»
- 2. Благо и Благодетель
- 3. Детство и детскость
В 1986 году в Воронеже, где почти век назад Замятин учился в мет стной гимназии, был выпущен сборник его произведений. В 1988 году в 4-ом и 5-ом номерах журнала «Знамя» впервые в истории русской литературы советского периода был опубликован написанный в начале 20-х годов роман «Мы», За несколько последующих лет роман был многократно переиздан и включен в различные сборники^.
В контексте художественных и философских исканий послереволюционной русской литературы Замятин занимает особое место. На его художественных и публицистических работах, особенно на романе «Мы», лежит печать мощной индивидуальности. Роман был закончен в 1921 году. И хотя при жизни писателя он так и не был опубликован в России, тем не менее о романе и даже сам роман слы.
1 Замятин Е. Повести, Рассказы. Воронеж, 1986 (Уездное. Алатырь. На куличках. Три дня. Север. Африка. Ела. Мамай. Пещера. Наводнение. Русь.).
2 Замятин Е. Сочинения. М., Книга, 1988; Замятин Е" Мы: Роман, повести, рассказы, пьесы, статьи и воспоминания. Кишинев, Литература Артистикэ, 1989; Замятин Е. Избранные произведения. М., Советский писатель, 1989; Замятин Е. И. Антиутопии XX века: Е. Замятин, О. Хаксли, .Дд.Оруэлл, М., Книжная палата, 1989; Замятин Е. Избранные произведения. М., Советская Россия, 1990; Замятин Е. Избранные произведения в 2-х тт., М., Художественная литература, 1990; Утопия и антиутопия XX века. М., Прогресс, 1990, и др. шали многие: как известно, состоялось несколько авторских чтений этого произведения. А. Гизетти в своей статье излагает основные положения доклада Замятина, который был сделан им в виде предисловия к чтению отрывков из романа «Мы» «*-. Н. И. Га ген-Горн вспоминает о том, что Замятин читал свой роман молодежи 20-х годов в помещении «Вольфилы» (Вольно-Философской ассоциации) на Фонтанке^.
Несмотря на то, что произведение Е. Замятина не было опубликовано, критика не обошла его вниманием.
В 1922 году была напечатана статья А. Воронского «Евгений Заq мятин, в которой критик, осуждая идейную направленность романа, отдает дань уважения таланту и уму его автора, видит в нем одного из крупнейших мастеров слова. «С художественной стороны роман прекрасен, — писал Воронский. — Замятин достиг здесь полной зрелости, — тем хуже, ибо все это пошло на служение злому делу», каковым, по мысли критика, является обличение социализма. Однако А. Воронский не только противопоставляет художественные достоинства романа его философии, но, главное, пытается прочитать и осмыслить его в контексте замятинского творчества в целом. Для А. Воронского создатель «Уездного», «Островитян» и «Мы» — это один.
1 Гизетти А. Дискуссии о современной литературе // Русский современник, 1924, № 2, с.275−276.
2 Гаген-Горн Н. И. Вольфила: Вольно-Философская ассоциация в Ленинграде в 1920;1922 гг.//Вопросы философии, 1990, f 4, с.98−99.
3 Воронский А. Литературные силуэты: Евг. Замятин // Красная новь, 1922, № 6, со307−322.
4 Воронский А. Избранные статьи о литературе. М., Художественная литература, 1982, с. 136. и тот же автор, «исключительный словопоклонник и словесный мастер», писатель, обладающий цельным художественным мировоззрением. Но, признавая за Замятиным большой талант, Воронений отмечает и то, что ставят в вину писателю другие критики и исследователи: его художественный эксперимент, доведенный «до крайности, до предела, так сказать, эксперимент в чистом виде». Воронекий, как и многие другие, в частности В. Шкловский, считал, что «по Замятир ну, вещи не пишутся, а делаются» .
Я.Браун также отмечает, что Замятин подчас не художник, а строитель своих произведений, но это не умаляет, по мнению критика, их художественной значимости и ценности: «.пускай строит их, как инженер, а не рожает, как птица, — но синтез — намеченный им — огромен.» , — пишет он в своей статье «Взыскующий человео ка» ¦ Статья эта вышла с подзаголовком — «Творчество Е. Замятина». В ней критик рассказывает о разных этапах творческого пути Замятина, видит в нем писателя и человека «нашего завтра» и, что очень важно, считает Замятина литературным потомком и наследником русской классической литературы XIX в. и европейской культуры в целом. В жилах героев «Уездного» течет, по словам Брауна, «благородная кровь Шпоньки, гоголевских городничих и щедринских помпадуров и помпадурш.». Тимоша с его подленьким философствованием о том, поднимется ли у Бога рука на детей несмышленных,.
1 Воронский А. Избранные статьи о литературе. М., Художественная литература, 1982, с. 127.
2 Там же, с. 137.
3 Браун Я. Взыскующий человека.//Сибирские огни, 1923, №№ 5−6, с. 240.
4 Там же, с. 226. может «папашей Смердякова числить», а порывы героев, задыхающихся в атмосфере мещанства — это «глупость» «вечных дурачков» в русских народных сказках, мнимый идиотизм князя Мышкина". Русский «подъяремный народ», по мнению Брауна, воплощен у Замятина «в образе собаки с лучистыми человечьими глазами, собаки, по-рабьи покоряющейся тому, кто даст ей мясо в черепке и вздернет о ошейник на цепь у конуры». Поэтому первая часть статьи Брауна, в которой он рассматривает «Уездное», «Алатырь» и повесть «На куличках», названа им «Человек-собака», вторая — «Человек-автомат». Человек-автомат — это лондонский обыватель. И здесь, по мнению критика, у Замятина есть литературные предшественники и учителя — особенно Уэллс, чье влияние коснулось, в частности и последней работы Замятина (роман «Ш»), «Но своеобразие и пафос Замятина. именно в том, — пишет Браун, — что не из Алатыря глядит он на мир и не из Лондона, но где-то между Алатырем и Лондоном строит дом свой и храм свой». Я. Браун воссоздает в своей статье «биографию идей» романа «Мы11: «.ее зарождение — в «Островитянах», ее русифицированное продолжение — в «Последней сказке о Фите», ее созревание и ретроспективное освещение — в «Огнях св. Доминика». И дальше критик замечает: «Тема романа — наше прошлое, доведенное до абсурда, до логического предела, и опро.
1 Браун Я. Взыскующий человека // Сибирские огни, 1923, М 5−6, с. 228.
2 Там же, с. 230.
3 Там же, с. 230.
4 Там же, с. 233. т кинутое в тысячелетнее будущее". Таким образом, Браун видит в замятинском «Мы» не пародию на современность, не утопию или антиутопию, а прежде всего роман, ставящий философские вопросы, которые задолго до Замятина решали, кавдый по-своему, русские писатели. «Великий Инквизитор — вот истинный предтеча и творец о всех заветов «принудительного спасения» , — пишет критик. В мире Единого Государства, принявшего этот закон, господствует, по утверждению Брауна, монофония, — «ибо «в полифонии» всегда есть о опасность какафоний». И если даже воспринимать слова Брауна только в контексте осмысления мира идей, а не характеристики стиля Достоевского, то и тогда, несомненно, он видит в Замятине единомышленника и последователя русского классика.
Более того, говоря о том, что нельзя, как это делает А. Во-ронский, видеть в романе «Мы» лишь пародию и карикатуру на коммунизм, Браун, утверждая самоценность и высоту «художественного и философского прозрения» Замятина, в первую очередь обращает внимание читателей и критиков на то, что Замятин смотрит на мир «очами Достоевского» и видит «неизбежный приход того „даентель-мэна“ (из „Записок из подполья“), кто бросит вниз тормашками Вселенную, пришедшую в равновесие, вселенную электричества и таблицы умножения.». Браун отмечает и центральную антитезу романа Замятина — идея неукротимой свободы противостоит идее счастья, и замечает, что в замятинском мире «нет и красоты». В контексте.
1 Браун Я. Взыскующий человека, с. 233.
2 Там же, с. 232.
3 Там же, с. 233.
4 Там же, с. 234.
— б ч рассуждения критика о том, что существуют нити, которые тянутся от творчества Достоевского к произведениям Замятина, такие замечания и наблюдения становятся особенно ценными.
Отмечая глубинную связь замятинского творчества с наследием Достоевского, Браун утверкдает, что Замятин все же не Достоевский XX века. Браун — критик, который в отличие от многих своих современников, принимает не только художественный мир, но и философию Замятина — философию бунтаря и еретика, — упрекает, тем не менее, писателя в излишней расчетливости и рационалистичности: «11ламен-. ный борец против стеклянного „Интеграла“ и его инженеров, он сам слишком инженер и конструктор, чтобы вырваться за „Зеленую стену“ Разума, к гениальным прозрениям, к ослепительным сверканиям пророчеств Достоевского» «^. Браун, как и Шкловский, видит слабость Замятина в том, что он слишком расчетливо умен, чтобы быть истинным художником. Но, невзирая на это, он утверкдает: «.явление Замятина — большое, многорадостное явление литературной современно-р сти», а творческий путь Замятина он рассматривает как восхождение ко все новым и новым пределам.
Виктор Шкловский, признающий, что он не является большим поклонником Замятина, склонен ввдеть в нем всего лишь одного из «эпио гонов Адцрея Белого. Давая мастерский анализ приемов и методов, образов и сюжетного построения различных произведений Е. Замятина, он утверкдает, что Замятин «не умеет строить мир вне своих рядов» ^.
1 Браун Я. Взыскующий человека, с. 239.
2 Там же, с. 240.
3 Шкловский В. Пять человек знакомых. Тифлис, 1927, с.43−67.
4 Там же, с. 67.
Что это за ряды, критик объяснил уже в словах, следующих за названием работы и предваряющих саму статью: «Ослабление сюжета вследствие переноса внимания на образ. Систематизация образа. Мнимая наполненность формы механическим построением образа»-. И дальше — уже в рамках самой статьи — Шкловский показывает, что Замятин работает с помощью одного и того же приема. «Этот прием состоит в том, что определенная характеристика, нечто вроде развернутого эпитета, сопровождает героя через всю вещь. Замятин о канонизирует протекающий образ .
Критик признает у Замятина большое умение, талант, но считает, что «умение это «однобокое». Так лее как Браун и Воронский, 1 он отмечает близость романа «Мы» и лондонских рассказов. Но если даже Воронский, не разделяющий взглядов и идейных убеждений Замятина, признает роман вершиной его творчества, произведением сформировавшегося, зрелого писателя, то для Шкловского «Мы» — ро-~1 ман, в котором метод и манера автора обнажены, виден набор инструментов, которыми тот пользуется. «Несмотря на присутствие в «Мы» ряда удачных деталей, вся вещь неудачна и является ярким указанио ем того, что в своей старой манере Замятин достиг потолка» .
В отличие от Шкловского вцдающийся русский писатель, мастер и знаток литературы Ю. Зкнянов рассматривал роман как замечательное в художественном отношении произведение. «Удача Замятина, -писал он в статье „Литературное сегодня“ , — личная удача, его окристаллизованный роман цельным сгустком входит в литературу» ^.
1 Шкловский В. Пять человек знакомых. Тифлис, 1927, с. 44.
2 Там же, с.50„
3 !Вам же, с. 67.
4 1княнов JD. Литературное сегодня // Русский современник, f I, 1924, с. 298.
Тынянов находил, что «фантастика вышла убедительной», оказалась естественной для стиля Замятина.
Однако, к сожалению, большинство критиков — современников Е. Замятина — интересовало не столько художественное совершенство романа, сколько политическое кредо автора.
Оставляя вне поля зрения слова А. Воронского о мастерстве писателя, эти критики восприняли лишь ту оценку, которую А. Ворон-ский дал пафосу романа. «Если бы Замятин писал свои едкие вещи, оставаясь на почве революции, его можно было бы только приветствовать, — пишет Воронский в упомянутой выше статье. — К сожалению, дело обстоит совсем не так. Замятин подошел к Октябрьской революции со стороны, холодно и враждебно: чужда она ему не в деталях, хотя бы и существенно важных, а в основном» Эту последнюю мысль Воронского в гораздо более грубой форме и подхватили многочисленные критики-политики. Их окриками была заглушена та глубокая оценка, которую дали роману профессиональные критики и литераторы. Так, И. Машбиц-Веров в статье «Евгений Замятин» обвинил автора романа «Мы» в том, что он — «мещанин», а его творчество — это «своеобразно-образное выражение настроений этого мещанства», и, наконец, в том, что в «произведениях Замятина о совершенно отсутствует пролетариат .
Для Полянского Замятин — это прежде всего представитель враждебного идеологического лагеря. Критик пересказывает содержание одной из сказок Замятина лишь для того, чтобы прийти к вы.
I Воронский А. Избранные статьи о литературе, с. 129. Z Машбиц-Веров И. Евгений Замятин // На литературном посту, 1927, № 17−18, с. 58. воду: «Подобные „художественные“ вещи — пасквильные и явно контр революционные.» .
Летом 1929 года после публикации повести Б. Пильняка «Красное дерево» в берлинском издательстве «Петрополис» обвинения в адрес Е. Замятина и Б. Пильняка достигли своего пика. Статья Б. Волина под пугающим названием «Вылазки классового врага в литературе», напечатанная в журнале «Книга и революция» (1929 г., № 18) стала началом организованной травли Замятина, практически прекратившей творческую жизнь писателя на родине и вынудившей его в конечном счете выехать в 193I году за границу. Имя Замятина и его творчество были забыты в Советском Союзе почти на полвека, а если порой и мелькало на страницах литературоведческих работ упоминание об авторе «Мы», то исключительно как пример чуждого советской литературе явления. Пак, в разных изданиях «Литературного энциклопедического словаря» роман «Мы» характеризовался как о карикатурно изображающий коммунистический идеал. .
Пока отечественная критика обходила молчанием творчество писателя, его роман активно читался и изучался на Западе. Yl. хотя В. Чаликова в своей статье «Антиутопия Евгения Замятина: пародия или альтернатива?» замечает, что «роман „Мы“ не стал на Западе бестселлером», американский исследователь Гарри Керн утверждает, что.
I Полянский В. Гершензон и Замятин // Современник, 1922, кн.1, с.148−154. Z ЛЭС, М., 1964, 1987.
3 Чаликова В. Антиутопия Евгения Замятина: пародия или альтернатива? // Социокультурные утопии XX века, вып.8, М., ИНИОН, 1988, с.134−135. произведение Замятина было изучено американскими славистами «возможно, больше, чем какой-либо другой современный русский роман» .
Интерес к роману на Западе стал стремительно расти, когда в 1952 году издательство имени А. Чехова в Нью-Йорке опубликовало роман на русском языке. Этот текст и стал каноническим, на ос нове его были опубликованы четыре английских перевода. Располагая достаточным количеством переводов текста романа, опираясь на другие работы Замятина и используя все критические и историко-биографические материалы, связанные с ним, западная критика рассмотрела роман Е. Замятина на самых различных уровнях, используя разные литературоведческие методики. В поле зрения западных критиков оказались проблематика романа, философские и эстетические взгляды Замятина, проблемы метода, стиля и жанра, образная система и символика романа. Но особое внимание западные критики уде лили поискам культурно-исторических истоков романа и изучению его влияния как на русскую, так и на западную литературу.
В исследовании Э.Дж.Брауна Замятин предстает как «русский писатель, корни литературного творчества которого в России тянут ся к Гоголю, Лескову, Ремизову, и чье влияние на все другие литературы оказалось, возможно, больше, чем любого другого совет-р ского писателя». Наиболее непосредственно его влияние отразилось на творчестве Оруэлла и Хаксли. Более того, несмотря на дол.
1 Kern G. Introduction // Zamjatin’s We. A Collection of Critical Essays, Ann Arbor, 1988, P.14.
2 Brown E.J. Brave New World, 1984 & We: An Essay on Anti-Utopia // Zamjatin’s We, P.209. гий запрет работ писателя, отмечает Г. Керн^, его влияние не может ощущаться в расцветшей русской фантастике в 60-е годы, особенно в творчестве Абрама Терца (Андрея Синявского), В. Войнови-ча и братьев Стругацких. Таким образом, Замятин воспринимается западными исследователями не только как продолжатель опытов Уэллса или других писателей XIX и XX века, но и как писатель, который стоял у истоков жанра антиутопии или был даже родоначальником современного варианта этого жанра. Так, В. Бондаренко в мюнхенском издании сочинений Е. Замятина пишет, что «первенство Замятина как писателя-антиутописта, его своеобразие заключается в том, что он коренным образом обновил и видоизменил весь многоо вековой жанр.» л.
Пальму первенства в жанре антиутопии Замятину присуждают и многие другие западные критики, А. Кашин в том же мюнхенском издании сочинений Замятина, сравнивая романы Оруэлла и Замятина, утверждает превосходство романа «Мы», так как Оруэлл, по его мнению, «сгущая краски, в сущности, пишет гротескную пародию на современную коммунистическую действительность», тогда как «замысел Замятина был и шире, и глубже .
О романе Замятина как об очень значимом в ряду произведений, написанных в жанре антиутопии, говорит и сам Оруэлл. Силу Замятина он видит в том, что он, по его мнению, интуитивно раскрыва.
1 Kern G. Introduction // Zamjatin’s We, P.17.
2 Бондаренко В. Века и десятилетия.//Замятин Евг. Сочинения, т.З., Мюнхен, 1986, с. 368.
3 Кашин А. Художник и человек.//Замятин Евг. Сочинения, т. I, Мюнхен, 1979, с. 17. ет «иррациональные стороны тоталитаризма» *.^.
Замятин интересовал исследователей не только как создатель романа — антиутопии, но и как творец современного романа — мифа.
Некоторые критики, в частности Коллинз, пытаются рассмотреть роман как миф о духовном росте западного человека XX века, то есть как «современны», «городской» миф, созданный под влиянием Фрейда и Юнга, которые могли интересовать Замятина, и оказали влияние на философский, психологический подтекст романа, и р даже более того, на всю его образную систему.
Другим подходом западных литературоведов к исследованию мифологического смысла подтекста романа Замятина является рассмотрение его религиозных, библейских основ. В этом контексте, как отмечают многие западные критики, безусловно, большое влияние на Замятина оказали русские философы и мыслители. Э.Дж.Браун склонен видеть в «Мы» следы увлечения Замятина русскими религиозными идео ями XX века и работами В. Соловьева, Н. Бердяева и В. Розанова .
В работах западных исследователей известное место принадлежит стремлению увидеть роман Замятина в его связях с русской классической литературой, прежде всего с творчеством Ф. Достоевского,.
0 чем речь пойдет ниже.
Спектр проблем, занимающих западных критиков, исследующих роман Замятина «Мы», представлен здесь далеко не полностью, однако даже на основании представленного материала несложно заметить, что многие исследователи так или иначе затрагивают пробле.
1 Оруэлл Дж. Рецензия на «Мы» Е.И.Замятина//Оруэлл Дж., 1984. Эссе разных лет. М., Прогресс, 1989, с. 308.
2 Collins Christopher. Zamjatin’s We as Myth // Zamjatin’s We, P.70−80.
3 Brown E.J. Brave New World, 1Э84 & We: An Essay on Anti-Utopia //.
7 — —— 1 ЬТ Г> ОЛП ООО му «Замятин — Достоевский» и рассматривают ее на самых различных уровнях, в зависимости от того, что является предметом их исследования: философия, проблематика, стиль или система образов романа.
Обращение к изучению литературного наследия Замятина в России оказалось возможным только после изменения идеологической атмосферы на родине писателя. Отечественное литературоведение уже внесло свой вклад в изучение творчества Замятина. Интерес исследователей вызывают и отдельные работы писателя, и он сам как яркая фигура литературной жизни России начала века. Первыми появляются работы, предваряющие публикации произведений Замятина и освещающие творчество писателя с преимущественным уклоном в дореволюционный (0.Михайлов) или пореволюционный период (Е.Скороспело ва, М. Чудакова, И. Шайтанов). Публикуются маленькие монографии (Т.Даввдовой, Л. Шишкиной), посвященные Замятину. Начинается пристальное изучение дореволюционного периода в творчестве Е. Замятина СО.Михайлов, Е. Девятайкин), литературно-критической деятельности писателя (А.Галушкин, А. Стрижев).
В центре современных историко-литературных исследований оказался роман Евг. Замятина «Ш» .
Большинство из обращавшихся к этому произведению рассматривало его на жанровом уровне, отдавая преимущество трактовке его как антиутопии (В.Акимов, И. Шайтанов, О. Михайлов, Т. Давьщова, Р. Гальцева и Р. Воднянская и др.), вводя также «Мы» в ряд антиутопий XX века (А.Зверев). На высоком профессиональном уровне выявлено место романа в контексте литературной ситуации 20-х годов (И.Доронченков, Л. Долгополов, Н. Примочкина).
В этом контексте представляется необходимым рассмотреть литературные взаимоотношения Е. Замятина и его романа с русской литературой XIX века, в частности с творчеством Ф.Достоевского.
В ряде статей, посвященных русским и зарубежным писателям, 1 указывая на тот или иной вклад, внесенный ими в мировую литературу, Замятин нередко признает их влияние на формирование его собственной творческой личности. Такое признание Замятин делает, например, в статьях «Герберт Уэллс» и «Генеологическое дерево Уэллса», где он относит свой роман «Мы» к числу литературных потомков уэллсовского романа.
Своих литературных наставников Замятин видит и в двух исполинах русской литературной классики — Гоголе и Достоевском. Хэ-тя ни тому, ни другому классику Замятин не посвятил специальных статей, это никоим образом не дает повода предполагать, что Замятин воспринимал их влияние как второстепенное, как влияние второго плана. О значении Гоголя и Достоевского для формирования своей творческой личности Замятин неоднократно писал в своих автобиографиях. Так, в автобиографии 1929 года Замятин вспоминает огромное впечатление в детстве от чтения Достоевского: «Много одиночества, много книг, очень рано — Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои щеки — от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оставался старший и страшный дажедругом был и т.
Гоголь (гораздо позже — Анатоль Франс). Имена Гоголя и Достоевского нередко упоминаются Замятиным в его статьях как знак подлинной гениальности, как критерий подлинной художественности по отношению к современной ему литературе. В статье «Генеалогическое дерево Герберта Уэллса» Замятин определяет художественное нова.
I Замятин Евгений. Мы: Роман, повести, рассказы, пьесы, статьи и воспоминания. Кишинев, Литература Артистикэ, 1989, с. 4. торство английского писателя-фантаста, сопоставляя его поиски с достижениями Достоевского. «Взяв форму авантюрного романа, Уэллс значительно углубил его и повысил его интеллектуальную ценность, внес в него элемент социально-философский и научный. В своей области, разумеется, в пропорционально меньшем масштабе — Уэллс сделал то же, что Достоевский, взявший форму бульварного, уголов ного романа и сплавивший эту форму с генаиальным психологическим анализом». Об особом внимании Замятина к Достоевскому свидетель ствует одна литературная деталь, на первый взгляд, чисто формаль ная: в романе «Мы» в памяти нумеров — жителей Единого Государства — наряду с именами Шекспира и Пушкина сохранилось также имя Достоевского как знак художественного таланта преодоленной ими «неорганизованной эпохи». Такая подробность, на наш взгляд, по-своему свидетельствует о внутреннем тяготении Замятина к своему великому предшественнику.
В своем творчестве, и особенно в романе «Мы», Замятин перекликается с Достоевским не только на уровне конкретных деталей или даже писательской техники. Он, можно сказать, ведет со своим великим литературным наставником творческий диалог, проникает в глубину художественного мира Достоевского и наследует, прежде вс го, масштаб и глубину постановки философских вопросов, качественно новое понимание реализма, новаторские принципы создания и раз вертывания характеров, а сходные мотивы делают роман «Мы» родственным в буквальном смысле слова произведениям Достоевского. Поэтому для того, чтобы установить подлинный облик романа «Мы» так необходимо рассмотреть его сквозь призму литературных взаимоот.
I Замятин Евгений" Мы, Кишинев, 1989, с. 607. ношений Замятина с Достоевским.
На генеалогическую связь образов и идей Замятина и Достоевского впервые было указано еще в 1923 году в статье Я. Брауна «Великий Инквизитор — вот истинный предтеча и творец всех «заветов принудительного спасения11*, Я. Браун полагал, что обращение к философской проблематике, разработанной Достоевским, придает роману «Мы» большую художественную и идейную ценность. Критик заявил, что «именно в этом пункте Замятин взлетает на головокружительную высоту художественного и философского прозрения, обретает пророчески-революционный пафос, насыщается неукротимой грозор вой тоской буревестника» .
О присутствии Достоевского в романе «Мы» говорят и многие современные критики и исследователи. Отдельные суждения и замечания о том, что Достоевский оказал влияние на проблематику за-мятинского романа, на философские вопросы, затронутые в нем, и даже на систему образов представлены не в одной статье и не у одного автора (см. статьи И. Шайтанова, Л. Григорьевой, М. Михайлова, Л. Шишкиной, В. Келдыша и др.).
Первая и пока единственная специальная статья на тему «За- / мятин и Достоевский» в российском замятиноведении появилась только в 1992 году. Автор статьи «Елаго и Благодетель в романе Е. Замятина „Мы“ (о литературно-философских истоках произведения)» В. Недзвецкий ставит целью, как видно из подзаголовка, выявить литературно-философский контекст романа, проследить трактовку философской категории «благо» у предшественников Замятина. Нови.
1 Браун Я. Взыскующий человека // Сибирские огни, 1923, №№ 5, 6, с. 232.
2 Там же, с. 234. зна подхода Недзвецкого к этой проблеме, широко трактуемой в романе, заключается в том, что такие связанные с понятием «благо» проблемы, как «счастье и свобода», «личность и коллектив», «ценность искусства и материальная полезность», рассматриваются автором не только как отклик на идеологическую борьбу эпохи, но и в свете обращения Замятина к решению вековечных, метафизических вопросов бытия. Под таким углом зрения В. Недзвецкий пытается найти прототипы образа Благодетеля. Он видит их в лице Великого Инквизитора из романа Достоевского «Братья Карамазовы» и «сверхчеловеке» В.Соловьева.
Как и они, — пишет Недзвецкий, — это атеист и аморалист, отрицающий божественную свободную природу, следовательно, и самоценность человека, присущий ему дар самоуправления и усматривающий в человеческой индивидуальности лишь материал (или функцию) для обезличенного и обезличивающего тоталитарного государствамашины. Как и Инквизитор у Достоевского, это идеолог не Богочеловека, а Человекобога — существа, возносящегося над морально-духовными нормами и ценностями человечества и исконно враждебного им. Его «благо», которое он сулит людям ценою их свободной воли и личной неповторимости, — это «благо» люмпенов, добровольных (психологических) рабов, нравственных и социальных иждивенцев, единиц стадной толпы" .
Как уже было сказано, проблеме «Замятин и Достоевский» современное русское литературоведение уделяет недостаточно внимания. В этом плане оно существенно отстает от уровня западного.
I Недзвецкий В. А. Благо и Благодетель в романе Е. Замятина «Мы» // Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1992, т.51,№ 5,с.27.
Хэтя в этом вопросе и результаты западного замятиноведения не вполне удовлетворительны, но все же там создан ряд ценных аналитических работ о литературных взаимоотношениях Достоевского и За-. J мятина, проведены интересные параллели.
Так, в статье А. Кашина Замятин рассматривается как наследник^ философских идей Достоевского. Сила Замятина, как художника, мыслителя и философа, по мнению критика, в том, что он «идет путем Достоевского». «Пусть все построено и все идеально, и все обещания выполнены, что тогда?. Сможет ли человек за эти дешевые, земные блаженства продать свою свободу (хотя бы только потенциальную)? Согласен ли он на это? «Оруэлл такого вопроса не ставит. Замятин на него отвечает: «Нет, не согласен. Словами Достоевского.». С Достоевским, по мнению А. Кашина, Замятина роднит и то, что он воспевает иррациональное как единственно действенное.
— У оружие против «железных законов логики» .
Ричард А. Грегг рассматривает литературные взаимоотношения о.
Замятина и Достоевского в контексте современного мифотворчества. Статья Грегга посвящена исследованию тех связей, которые существуют между романом Замятина, произведениями Достоевского и Библией. Герою Д-503, по мнению критика, Замятин отводит роль Адама, героине 1−330 — Евы, которая соблазняет его и увлекает за стену, окружающую рай бессознательного счастья. Этот миф, как считает Грегг, мог быть заимствован Замятиным, как и непосредст.
1 Кашин А. Художник и человек // Замятин Е. Сочинения, т.1, Мюнхен, 1970, с. 19.
2 Gregg Richard Two Adams and Eve in the Crystal Palace: Dostoevsky, the Bible, and We // Slavic Review 1965, No.4,P.680−687. венно из Библии, так и из произведений Достоевского, в частности из романа «Бесы», один из персонажей которого — Шигалев — предсказывает, что человечество через безграничное число поколений достигнет первичной невинности и будет жить в некоем подобии биб лейского рая. Таким образом, критик считает, что замятинская «сказка» о коммунистическом рае могла быть написана им под влиянием Достоевского и его персонажа.
По мнению Грегга, влияние, которое оказал на роман Достоевский вообще, и «Записки из подполья» и «Братья Карамазовы» в частности, бесспорно. Дилемма, мучающая замятинского героя, состоя щая в том, совместимы ли земное счастье и свобода, для исследова теля связана с Легендой о Великом Инквизиторе, которую рассказывает Алеше Иван Карамазов. Огромный стеклянный дом, каким является Единое Государство, считает Грегг, — это замятинская ипостась ненавидимого Достоевским Хрустального Дворца, образ которо го появляется в «Записках из подполья». В этой же повести он находит литературного предшественника — Д-503, доверяющего своему дневнику антисоциальные чувства и мучительные размышления об иррациональной природе человека.
О художественной и тематической близости «Мы» Замятина и повести Достоевского пишет также Роберт Льюис Джексон в книге «Подпольный человек Достоевского в русской литературе», где показывает художественную и тематическую близость «Мы» и «Записок из подполья» ^.
В книге «Три русских писателя и иррациональность» автор Эдвард Т. первую глазу посвящает проблеме взаимоотношений Замятина.
I Jackson, Robert Louis. Dostoevsky’s Underground Man in Russian Literature.
The Hague 1958.
— Я) с Достоевским*. В трактовке взашоотношений рационализма и иррационализма он находит Достоевского несомненным предшественником Замятина.
Влияние антиутопического пафоса автора «Записок из подполья», «Бесов», «Братьев Карамазовых» на становление замятинской концепции исследует и немецкий ученый К.Каспер. Он утверждает, что «в духовном плане Замятин был наследником Достоевского и его антиутопического отношения к социальным утопиям». Каспер напоминает читателям, что «Записки из подполья» Достоевского тем более можно рассматривать как антиутопию, что они — «своего рода ответ на утопию четвертого сна героини Чернышевского, пародия на «людей 60-х годов» .
Последовательно представляя антиутопический пафос трех романов Достоевского, Каспер доказывает, что именно в его творчестве необходимо искать истоки замятинской антиутопии, хотя «непосредственными „провокациями“ для написания романа „Мы“. были утопические лозунги и программы неистовых теоретиков и поэтов „левых“ направлений в канун революции и первые послереволюционные годы». Каспер тем более убедителен в своих положениях о том, что Замятин — духовный наследник Достоевского, когда приводит его собственные слова из статьи «Рай», объясняющие, что именно не пришлет писатель в той утопии, в том «рае», который представлен в произведениях писателей и поэтов Пролеткульта. Замятин, — ут-вервдает Каспер, — отвергает пролеткультовскую утопию прежде всего потому, что «там — «только монофония», в то время, как во всеi Edwards Т. Three Russian Writers and the irrational, Cambridge, 1982. ленной — «полифония», т. е. «вода и огонь, горы и пропасти, праведники и грешники» .
Кроме этих работ, специально посвященных раскрытию генеалогической связи «Мы» с художественным миром Достоевского, проблемы «Замятин и Достоевский» в той или иной мере коснулись авторы статей, анализирующих те или иные аспекты творчества Замятина или литературу 20-х годов.
В заключение следует сказать, что характерное для работ такого рода сведение исследования к констатации прямого контакта Замятина с Достоевским и указанию на актуализацию тем и образов Достоевского в романе Замятина без учета философских и общеэстетических представлений обоих писателей не проясняет семантики его образной и лейтмотивной структуры и принципов трансформации в нем художественного опыта Достоевского.
Несмотря на известный вклад сегодняшнего замятиноведения в исследование проблемы литературных взаимоотношений Замятина и Достоевского, многие аспекты этой проблемы остаются еще слабораз-работанными или вообще незатронутыми.
Так как проблема «Замятин — Достоевский» занимает исключительно важное место в изучении творчества Замятина, ее неизученность создает существенный пробел в сегодняшнем замятиноведении. Восполнению этого пробела и служит данное диссертационное исследование.
Актуальность исследования обусловлена:
— стремлением осмыслить природу творческой индивидуальности Замятина, раскрыть философские и эстетические истоки его искусства;
I Каспер К. Антиутопия «Мы» Е. Замятина //Zeitsch fur Slawistik- 35 (I^'CS, с. 248.
— недостаточной изученностью предложенной к исследованию проблемы на фоне общей активизации в литературоведении историко-культурного подосода к изучению произведения;
— необходимостью установить более широкое поле творческих контактов писателя и интерпретировать важнейшие интертекстуальные связи романа Замятина как семантически значимые, формирующие философский каркас романа «Мы» .
Основные цели и задачи данного исследования состоят в воссоздании культурно-исторической ситуации, в которой формировался интерес Замятина к творчеству Достоевского, и определении тех аспектов художественного мира Достоевского, которые оказались существенными для «неклассической» трактовки современной Замятину действительности и определили его художественную установку на преодоление известной односторонности «классического» реализма.
Первостепенное значение для методологического обоснования работы имеют исследования, осуществляющие сквозное культурно-историческое «прочтение» литературы. Речь идет о трудах С. Аверин-цева, Г. Гачева, А. Гуревича, Ю. Давьщова, Д. Лихачева, Ю. Лотмана, А.Панченко. Методологически ценны в данном аспекте работы З. Минц и Д. Максимова о БлокеЛ. Долгополова об А.Беломй.Бэлзы, Н. Уте-хина о Булгакове и Н. Утехина о Ф.Сологубе. Эти исследования позволяют рассмотреть неомифологические тенденции творчества Замятина, реализовавшиеся в романе «Мы», и интерпретировать внутренние связи этого произведения с «метатекстом» Достоевского, который в эстетической концепции Замятина приобретает статус своеобразной мифологической системы ~ прототипа.
Методика исследования. Автор диссертации идет от аналитической характеристики культурно-исторических концепций начала.
XX века и их экстраполяции на современную им литературу к прочтению романа «Мы» сквозь призму некоторых значимых мотивов и образов Достоевского.
Научная новизна работы обусловлена выбором нового аналитического ракурса. Литературные связи Е. Замятина анализируются не только как проблема освоения и наследования традиций Достоевского, но и как творческий «диалог» художественных миров писателей, что позволяет осмыслить культурно-исторические истоки произведения не только как исходные положения или предает для полемики, но и как интертекстуальное пространство, активно формирующее структуру и образную систему романа.
Практическая ценность диссертации обусловлена возможностью использования ее материалов в учебном процессе для изучения темы «Творчество Е. Замятина» .
Выводы Розанова сильно отличаются от суждений Леонтьева и Соловьева. Розанов рассматривает эволюция воззрений Достоевского от «Записок из подполья» к «Братьям Карамазовым». Он приходит к выводу: «Усталость и скорбь сменили в нем (Достоевском — Л.Л.) прежнюю уверенность, и жажда успокоения сказывается всего сильнее в «Легенде». Высокие дары свободы, истины, нравственного подвига — все это отстраняется, как тягостное, как излишнее для человека, и зовется одно: какое-нибудь счастье, какой-нибудь отдых для «жалкого бунтовщика». «Легенду об Инквизиторе» до известной степени можно рассматривать как идею окончательного устроения судеб человека, что, безусловно, было отвергнуто в «Записках из подполья» .
Трактуя философские аспекты «Легенды», мыслители начала XX века связывают их с актуальными проблемами эпохи. В статье «Иван.
1 Соловьев B.C. Из речей в память Достоевского//Достоевский и последующие, с. 57.
2 Там же, с. 139.
Карамазов" (1901 г.) С. Булгаков пишет: «Легенда о Великом Инквизиторе» есть один из самых драгоценных перлов, созданный русской литературой. В этом причудливо гениальном создании соединено величие евангельского образа с вполне современным содержанием, выражены тревожные искания наших дней" *. В образе Ивана Карамазова С. Булгаков видит выразителя мук и сомнений XIX века, каким Фауст был для ХУШ в. «Если последний является представителем эпохи миросозерцания индивидуализма, то Иван Карамазов есть скептический о сын эпохи социализма. В этом мировое значение образа Карамазова» .
Бердяев, в отличие от Розанова, который в рассуждениях Великого Инквизитора видит долю правды, категорически утверждает, что кажущаяся забота Великого Инквизитора о счастье людей, основанная на отрицании свободы и Божьей истины, является ложью и презрением к человеку. Бердяев проводит аналогию между духом Великого Инквизитора и исторической действительностью: «В разных, часто противоположных образах скрывался этот дух Великого Инквизитора, это образование в мире и воплощение в истории злого начала, коренного метафизического зла: оно равно проявляется и в старой церкви, отрицавшей свободу совести и сжигавшей еретиков, поставившей авторитет выше свободы, и в позитивизме — религии человеческого самообожествления, предавшей высшую свободу за довольство, и в стихии государственности, поклонившейся кесарю и мечу его, во всех формах государственного абсолютизма и обоготворения государства, отвергающего свободу человеческую и опекающего человека, как презренное животное, и в социализме, поскольку он отверг вечность и сво.
I Булгаков С. Н. Иван Карамазов//Достоевский и последующие, с. 207. Z Там же, с. 212. боду во имя земного устроения, земной равной сытости человеческого стада" *.
Думается, что позиция самого Достоевского по отношению к Легенде близка пониманию Бердяева. Она четко сформулирована писате-s лем во время выступления перед студентами столичного университета ' 30 декабря 1879 года: «Смысл тот, что если исказить Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум, несомненно, должен впасть в безветрие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к р человечеству является уже замаскированное презрение к нему» .
Следует отметить, что оценки представителей русского культурного Ренессанса (С.Булгакова, Н. Бердяева, С. Франка) сыграли особо важную роль в восприятии Замятиным идейного наследия Дос-1 тоевского. Они значительно сократили временную и психологическую дистанцию между Замятиным и его идейным предшественником. Но, с другой стороны, было бы несправедливо не указать на коренное различие в мировоззрении двух писателей. Мы видим, что сходные подходы обоих писателей к решению проблемы «счастье и свобода» часто определяются различными исходными позициями. Будучи трезвым аналитиком и талантливым художником, Достоевский, прежде всего, представляет собой глубоко верующего человека. Оспаривая дерзкие рассуждения Великого Инквизитора, Достоевский черпает силы из Слов Божьих, как из неисчерпаемого источника истины. По мнению Досто.
1 Бердяев Н. А. Великий йнквизитор//Достоевский и последующие, с. 220,.
2 Там же, с. 13. евского, человек есть существо духовно свободное и иррациональное именно потому, что он создан по образу и подобию Божию. Бее духовные силы, иррациональные начала склада души переданы человеку Творцом в самом акте творчества. С этих позиций Достоевский осуждает презрение Великого Инквизитора к достоинству личности и отвергает его программу насильственного осчастливливания человечества.
Как и Достоевский, Замятин придерживается исключительно высокого взгляда на человеческую личность и ее высокое предназначение. Он воспевает свободу личности и иррациональные начала человеческой души, он верит в бесконечные возможности интеллекта и чувств человека. Однако для подтверждения своей позиции Замятину не понадобилась религиозная аргументация. Как атеиста, его не особо интересуют бытие Божие и Слово Божие. Для Замятина личность значима не потому, что она есть творение Божие, а потому, что она самоценна. Свобода неотделима от личности и потому она является важнейшим условием развития интеллекта и чувства человека. Если нужно определить философскую почву замятинского мировоззрения, то мы можем назвать лишь собственную теорию Замятина о «бесконечной революции». По мнению Замятина, закон «бесконечной революции» существует повсеместно в космическом масштабе. Он доминирует и в природной сфере, и в человеческом обществе, и во внутреннем развитии человека". «Все течет, все меняется», любая попытка остановить процесс истории или внутреннего духовного действия на неподвижном отрезке окажется бессмысленной и невозможной. Отсюда вытекает и протест Замятина против райско-счастливой жизни Единого Государства, основанной на абсолютном отрицании свободы личности нумеров. Перейдем к рассмотрению того, как Замятин решает проблему «счастья и свободы» в романе «Ш» ,.
В том, что прототипом утопического общества под названием ]Цдиное Государство является «земной рай» Великого Инквизитора, нет оснований сомневаться. В Едином Государстве программа по созданию «земного рая» реализована, а в отдельных аспектах доведена до абсурда. Как и у Великого Инквизитора, основа жизнеустроения в «Едином Государстве» сводится к формуле «счастье = несвобода». Всевластный правитель Единого Государства — Благодетель близок Великому Инквизитору в понимании сути человеческой природы и человеческой истории. Особенно поражает сходство унижающих человека представлений о его предназначении: человечество создано, по мнению как Великого Инквизитора, так и Благодетеля, для блаженного счастья, а счастье совершенно несовместимо со свободой. Поэтому для достижения полного, непоколебимого счастья необходимо полностью отвергнуть свободу. В «Легецце» такую мысль неоднократно повторяет Великий Инквизитор. Он прямо заявляет Христу: «Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается» (289). В романе «Мы» трактовке этой мысли посвящается единственный разговор Благодетеля с нумером Д-503. После подавления «бессмысленного бунта» Благодетель призывает к себе участника бунта, главного строителя «Интеграла» Д-503 и декларирует ему свое кредо: «О чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз и навсегда скааал им, что такое счастье — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае. Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные, с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божии.» (132). Нельзя не заметить, что, излагая позицию Благодетеля, Замятин «конструирует» ее по образу и подобию речей Великого Инквизитора.
Мотив оков, без которых невозможно счастье, и «пагубной свободы» повторяется в рассуждениях R — 13 про «древнюю легенду о рае» и намеренно отсылает к словам Ивана Карамазова: «Человек был устроен бунтовщикомразве бунтовщики могут быть счастливыми?» (285).
Следует отметить, что хотя в Едином Государстве торжествует логика Великого Инквизитора («счастье и свобода несовместимы»), но исходные позиции Благодетеля и Великого Инквизитора различны. Великий Инквизитор не отрицает Божию истину и ценность свободы, он отвергает свободу не потому, что он принимает ее за зло, а потому что, как он полагает, она недоступна для низкой человеческой природы. В его теории звучит открытое презрение к достоинству человека, но не к самой ценности свободы. Несколько иначе обстоит дело с Единым Государством. Фундаментальная для Единого Государства идея отрицания свободы мотивируется ее «диавольским» происхождением или рассматривается как проклятый остаток дикой эпохи человеческого развития, равно как и хвост дикаря (Д-503). Более того, Д-503 ставит категорию «свобода» в один ряд с преступлением. Когда он читает в Государственной Газете, что обнаружены следы организации, ставящей своей целью освобождение от «благодетельного ига» Государства, он начинает размышлять следующим образом: «Свобода и преступление также неразрывно связаны между собой, как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движетсясвобода человека =0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений — это избавить его от свободы» (30).
Надо сказать, что «несвобода» в романе «Мы» становится еще и эстетическим критерием. В эстетике Единого Государства «красота» непосредственно зависит от «несвободы». Во второй записи романа Д передает свое восхищение машинным балетом: «Почему — красиво? Почему танец — красив? Ответ: потому что это несвободное, движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе» (12). С этих же позиций оценивает Д-503 и музыку: «Наша музыка есть математическая композиция (математика — причина, музыка — следствие)», она есть «незыблемая закономерность» (19), «как жалка своевольная, ничем — кроме диких фантазий — не ограниченная музыка древних» (19).
Итак, полностью отвергнув свободу, препятствующую, по логике Единого Государства, достижению математически безошибочного счастья и величественному ходу Машины, Единое Государство, как учил Великий Инквизитор, делает фундаментом Вавилонской башни хлеб земной, чудо и авторитет. Замятин иронически обыгрывает евангельские мифологемы Достоевского, превращая хлеб земной в «нефтяную пищу», делая воплощением чуда Машину Благодетеля, и авторитет «подпирая» системой ангельского надзора. Таким образом, используя в качестве прототипа программу Великого Инквизитора о создании «земного рая», Замятин создает образ мира в своей «реальности» более бесчеловечного, но отстраняющее действие иронии придает этому образу амбивалентный характер и разрушает изнутри незыблемость этого мертвого царства, этого «стеклянного рая» .
Итак, мифологический мир «Легеццы», в романе Достоевского сохранявший автономию по отношению к сюжетному действию Сна что указывает уже жанровое определение), в романе «Мы» материализуется, обретая черты романного хронотопа. Гипотетическое пространство счастья из «Легенды» Достоевского получает «временные» и «географические» координаты. Сама же «Легенда», как бы «теряя» авторство в художественном пространстве романа «Ми», встает в один ряд с библейскими преданиями о рае и аде, об Адаме и Еве, о дьяволь-. ском искушении, приобретая вместе с тем в сфере воздействия за-мятинской иронии трагифарсовый характер.
§ 30 Детство и детскость.
Точки соприкосновения художественных миров Е. Замятина и Ф. Достоевского просматриваются не только в сходном в значительной степени понимании обоими писателями иррациональной сущности человеческой природы и отрицании социального утопизма, а также активном использовании Замятиным соответствующих мифологем Достоевского в качестве первоосновы, но и в наличии в романе «Мы» других мотивов Достоевского. Имеются в виду, в первую очередь, такие мотивы, как «детство» и «детскость». Представляется странным, что до сих пор эта проблема не обратила на себя внимания исследователей между тем мотив «детства» и «детскости» — один из наиболее идейно-емких и для Достоевского, и для Замятина. Его введение в художественные миры писателей выполняет двойную роль: с одной стороны, он является критерием моральной и этической состоятельности жизненного уклада в «хрустальном дворце» или «стеклянном рае», с другой стороны, с помощью этих мотивов авторы предпринимают попытку создать положительный художественный образ и утвердить положительные человеческие устремления.
Считаю нелишним прежде всего сделать некоторое пояснение — понятий «детство» и «детскость». «Детство» и «детскость» — поня-| тия неадекватные. «Детство» — как совокупность явлений, связанных с определенным возрастным периодом жизни и состоянием личности, часто служит сюжетной линией романа о воспитании, а «детскость» — сугубо философская категория, обозначающая определенное состояние души человека, определенное миросозерцание- «детскость» может в равной степени проявляться как во взрослых, так и в детях. Но в то же время нужно отметить, что в художественных произведениях темы «детства» и «детскости» неразрывно связаны друг с другом, как Достоевский, так и Замятин считают, что именно в детстве человек наделен наибольшей способностью к добру, вместить в себя положительные нравственные стремления.
Тема «детства» в художественных произведениях Достоевского претерпела большие изменения. В начале творческого пути писатель интересовался преимущественно выявлением детской психологии и жизнеощущений детей. На этом этапе Достоезский в изображении детства заявил о себе как писатель большого художественного мастерства и психологической проницательности. Наиболее ярко это проявилось в повести «Неточка Незванова», в ряде других ранних произведений. Но с усилением религиозного и морального пафоса в позднем творчестве писателя он обращается к философским аспектам темы «детство». В изображении «детства», детских персонажей писатель-психолог Достоевский уступает место писателю-метафизику и писателю-моралисту Достоевскому, а образ «детства» проецируется на образ «детства человечества» о.
Интерпретация «детства человечества» как синонима Золотого века, а состояния детской невинности и неискушенности как аналога состояния благодати можно найти как в Ветхом, так и в Новом Завете. В 18-ой главе Евангелия от Матфея есть известные строки: «В то iвремя ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Щрстве.
Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, и так, кто умалится, как это дитя, тот и больше в фрстве Небесном, и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает". Это знаменитое речение Христа, как и другое: «Пустите детей приходить ко мне», а также образы не вкусивших еще от древа познания добра .и зла Адама и Евы стали источником мотивов «детства» и «детскости» в мировой литературе.
Идеализация «детства», возвышенный подход к детям как к первоисточнику подлинной человеческой личности, безусловно, восходит у Достоевского к библейским текстам. Дети для Достоевского становятся неким символом и воплощением высшего морального критерия. Детство как состояние непротиворечивого и безмятежного восприятия мира, не осложненного анализом, у Достоевского впрямую противостоит исступленности многих взрослых героев, одержимых фанатическими мыслями. Можно сказать, что в позднем творчестве Достоевского «детство» рассматривается как абсолютный критерий оценки действительности. Дети у Достоевского — последняя и решающая проверка всех и всяких идей, всех и всяких теорий. Здесь беспощадно разоблачаются все и всяческие самообманы.
Свой нравственный идеал Достоевский не только связывает с темой «детства», но и находит его в «детскости» взрослых персонажей. Читателю нетрудно заметить, что всех положительных героев произведений Достоевского — князя Мышкина, Алешу Карамазова, старца Зосиму и других — при всем разнообразии их характеров объединяет одно общее начало — детское состояние души: душевная невинность, тяга к простодушному блаженству, непосредственное восприятие мира, неспособность к злобе и ожесточенному взгляду на мир.
В текстах Достоевского мотивы «детства» и «детскость» часто играют важную сюжетообразующую роль. Так, общение князя Мышкина с детьми в швейцарской деревне восходит к евангельским мифологемам. «Золотой век» «альтернативного» человечества в фантастическом рассказе «Сон смешного человека» конструируется писателем при активном использовании мотивов «детства» и «детскости» в качестве реализованной метафоры. В этом рассказе слиты воедино элементы утопии и антиутопии.
Остановимся подробнее на том, как изображена в рассказе ситуация «до грехопадения» .
Детство" и «детскость» выступают здесь как некий эталон недосягаемого, изначального совершенства. Давая портрет «Детей Солнца», рассказчик восклицает: «Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой» *.
Лица обитателей этой Аркадии «сияют разумом» и исполнены спокойствия: «В словах и голосах этих людей звучала детская радость» .
Земля, не оскверненная грехопадением", гармонично продуцирует самодостаточные личности, которым неведомы экзистенциальные проблемы и для которых сциентистско-прашатический взгляд на мир глубоко неорганичен.
Восхитительная «детскость» этих не отягощенных созданий декларируется напрямую: «Они были резвы и веселы, как дети» — «они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети» .
I Достоевский Ф. М. Рассказы. М., Правда, 1989, с.443−444.
Детски стихийным представляется и коллективизм этих созданий: «По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры». В детски-открытом сообществе не существует абсолютно никаких проблем в сфере сексуальных отношений по причине царицей в данном социуме заботливой полигамии: «У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью» .
Мы столь подробно останавливаемся на всех этих элементах, составляющих мотивы «детства» и «детскости» во «Сне смешного человека» потому что данные мотивы наличествуют и в романе Замятина, но почти всегда в перевернутом виде, аналогично изменению знаков при построении хронотопа «рай — ад» .
Но и у Достоевского нерассуждающе-доверчивое состояние ребенка, детское восприятие мира чрезвычайно удобно для патерналистского тоталитарного режима. Наряду с утверждением подлинной детскости как важнейшего атрибута полноты и совершенства человеческой личности Достоевский открывает возможность опасной подаены подлинной детскости лжедетскостыо. 1Ь. к, предполагаемое мироздание Великого Инквизитора, в котором подвиг Христа обесценен, претендует на статус «рая» прежде всего потому что в этом мироздании будет повсеместно торжествовать «детскость» — детское веселье и детское простодушие: «О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордитьсядокажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого о Они робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы игл позволим грешить. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред Тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь» (295). Ткк темпераментно Великий Инквизитор мотивирует возможность существования своего земного «рая» именно тем, что в этом «раю», как и в ветхозаветном, будут обитать невинные, блаженные, счастливые «младенцы» .
Не прибегая к прямому отрицанию «рая» Великого Инквизитора, Достоевский в романе развенчивает ложность той «детскости», которую Великий Инквизитор берет за основу своего мироустройства. Сравнивая «детскость» в мироздании Великого Инквизитора с том детскостью, которой наделены князь Мышкин, Алеша Карамазов и старец Зосима, читатель в первом случае может легко заметить подмену душевной невинности, непосредственного восприятия мира и тяги к простодушному блаженству погашением духовной силы человека, причем такая «детскость» достигается не путем внутреннего откровения и прозрения, а путем насилия извне. Поэтому «детскость» у Великого Инквизитора — это лжедетскость. Вводя мотив «лжедетскости», Достоевский с огромной художественной силой вскрывает лживость, моральную несостоятельность идей Великого Инквизитора об устроении счастья человечества.
Представление Достоевского о «детстве» и «детскости» как нравственном идеале, как уже было сказано, непосредственно восходит к его христианским воззрениям, к Библии. Для атеиста Замятина «детство» и «детскость» связаны с не изуродованными машинно-механической цивилизацией природно органическими и иррациональными началами Бытия. Но при этом исходном различии Замятин в разработке тем «детства» и «детскости», безусловно, унаследовал художественный опыт Достоевского. Как и у Достоевского, «детство» и «детскость» служат Замятину способом проверки подлинности рая. С «детством» и «детскостью» связана также попытка Замятина воплотить свой нравственный идеал.
В «Мы» как бы объединяются мотивы «Сна смешного человека» и «Легенды о Великом Инквизиторе». Состояние «детскости» как синоним состояние благодати, изображенное в первой части «Сна», с одной стороны, и насильственная инфантилизация человечества, отрицание свободы во имя счастья, декларируемое в «Легенде» , — с другой стороны, обе эти темы получают у Замятина новое развитие.
Как и Достоевский, Замятин выступает с критикой нравственной несостоятельности рукотворного рая — Единого Государства, прежде всего, исходя из того, что в этом кажущемся раю искажено, изуродовано детство как счастливая и беззаботная пора жизни. В Едином Государстве воспитание детей, особо не отличаясь от механических процессов, введено в русло «научности». Дети воспитываются на.
Детско-воспитательном Заводе. Наряду с садоводством и животноводством создана и «наука о детоводстве», определены материнская и отцовская «нормы», право на рождение ребенка имеют только нумера, соответствующие этим нормам. Все нумера готовы оторвать от себя новорожденного ребенка и отдать его Единому Государству. Чувство родителей к собственному ребенку, по логике Единого Государства, должно отождествляться с чувством нумеров к государству. Все это говорит о том, что дети — самые жизнерадостные и беззаботные существа, в Едином Государстве рассматриваются всего лишь как некая механическая продукция. Устами героини Ю Замятин определяет характер отношения Единого Государства к детям: «Самая трудная и высокая любовь — это жестокость» (79).
Лейтмотив «любовь — жестокость» в контексте комического повествования о ее проявлениях порождает саркастический эффект.
Поскольку в нашей работе речь идет не только о теме «детства» в романе «Мы», но и о проблематике «детскости», то следует обратить главное внимание на героев, непосредственно участвующих в развитии сюжета. Как обстоит дело со взрослыми нумерами? Может быть, сняв с себя бремя свободы личности, подчинившись игу повиновения и организации, они действительно стали жить по-детски, по-райски? Может быть, идя. различными путями, Благодетель и Христос пришли к общей цели? Но и тут, среди взрослых нумеров, подлинную детскость, на которую так рассчитывал Христос для достижения всеобщей гармонии и благоденствия, нам найти не удается. Отчужденная от естественной потребности человека иметь собственных детей (в Едином Государстве такая нужда считается дикой нелепостью), взрослая жизнь в этом социуме становится неполноценной, ущербной и мучительной. Окаменело-догматический и машинномеханический социальный строй не только губит живое детское начало в нумерах, но и вырабатывают в них слепую любовь к властителю судеб миллионов нумеров — Благодетелю как всеобщему отцу. А функции матери выполняют Хранители. Для Д-503 образ Хранителей всегда связан с чувством нежности. Нумерам присуща интуитивная психологическая близость к этим Ангелам-Хранителям. Таким образом, Замятин стремится показать, что насилие со стороны Единого Государства истребляет детское начало как важнейший элемент гармонии человеческой жизни как в детях, так и во взрослых нумерах. Те чувства, которые испытывают взрослые нумера: восхищение от зрелища жестокого публичного наказания «преступника-поэта11, инстинктивная привязанность к Благодетелю и Хранителям, свойственная им боязнь иметь «душу» и т. д. — ни в коем смысле нельзя причислить к подлинной детскости, как бы на то ни претеццовало Единое Государство, скорее это инфантилизм — отсутствие чувства личной ответственности и готовности к самостоятельному решению. Все те положительные стороны детски-невинного состояния души, о которых говорит Достоевский, получают у Замятина развитие в перевернутом виде, и используются для удержания массы нумеров в повиновении всезнающему взрослому Благодетелю.
Искусственный инфантилизм нумеров культивируется для создания «действующей модели» того рая, который в повести Достоевского «Сон смешного человека» является продуктом естественной эволюции.
Но Замятин идет дальше в своем доказательстве несостоятельности и лживости доктрины Единого Государства с ее ориентацией на «лжедетскость». Доказательством этому становится «Великая Операция» по удалению фантазии, облегчающая правителям манипулирование массовым сознанием. В результате нумера должны стать «стопроцентно счастливыми» и «машииоравными». Но именно эта операция выявляет лживость утверждений о «райской детскости» нумеров и их последующей счастливой и беззаботной жизни в хрустальных чертогах Единого Государства.
Необходимость Операции служит доказательством того, что полностью искоренить подлинное детское начало в натуре номеров «обычным» путем Единому Государству все-таки не под силу, несмотря на его тысячелетние усилия. Наряду с темой «ущербной детскости» в романе возникает мотив «нормального детства» и «здоровой детскости», тяга к которым коренится и в подсознании нумеров, и обнаруживается в их поведении.
Еще в самом начале романа, характеризуя свои записи как оду, прославляющую величие и совершенство Единого Государства, Д-503 сравнивает ощущение творца с ощущением женщины, ждущей ребенка: «Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового — еще крошечного, слепого человека. Это я и одновременноне я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства» (II). Это небольшое лирическое отступление многозначительно: внешне будто бы поддерживая пафос персонажа, связанный с его отношением к Единому Государству, Замятин на самом деле переадресует его иному, здоровому естественному началу. Здесь чувствуется, с одной стороны, нежность и любовь матери к своему ребенку, с другой стороны, осуждение Единого Государства, которое насильно отбирает у матери ее ребенка. Тем самым автор также намекает на возможность углубления непримиримого конфликта между подлинным детским началом и отчуждающим его внешним насилием.
Образ нормального, здорового детства как доказательство существования подлинной жизни возникает на протяжении всего романа, Как правило, он дается в ярком контрасте с мрачными и ожесточенными реалиями Единого Государства. Вот Д-503 описывает образ ребенка, принесенного на лекцию по детоводству в виде «образца»: «.Ребенок, живая иллюстрация — тянется к сердцу, засунут в рот подол микроскопической юнифы, крепко стиснутый кулачок, большой (вернее — очень маленький) палец зажат внутрь — легкая, пухлая тень — складочка на запястьи. Как фотографическая пластинка — я отпечатываю: вот теперь голая нога — перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух — вот сейчас, сейчас об пол» (72). В этом фрагменте особенно важен контраст. С одной стороны, лекция по детоводству (курсив Л.В.), деталь, говорящая о бесчеловечности Единого Государства, другой — невинный ребенок и вызванное им умиление в сердцах взрослых нумеров, доказывающее не-погашенность в их душах способности к восприятию прекрасного и милого.
Черты неущербного детства раскрываются и в воспоминаниях героев. Д-503 передает в 8-ой записи, как они вместе с поэтом Р -13 вспоминали детские шалости в школьные годы. (Дети остаются детьми даже в условиях механической цивилизации): «Вспомнили старого Пляпу: как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеивали благодарственными записочками. Вспомнили Законоучителя. Законоучитель у нас был громкогласен необычайно — так и дуло ветром из громкоговорителя — а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный К — 13 напихал ему однажды в рупор жеванной бумаги: что ни текст — то выстрел жеванной бумаги» (33). Сцена строится на контрасте: шалости детей противостоит безжизненность громкоговорителя. Из рассказов Ю мы также узнаем, что дети в ее группе не потеряли чувства юмора и способности к творчеству, изобразив ее с рыбьими жабрами, за что были сурово наказаны. Итак, с помощью этих деталей Замятин дает почувствовать, что даже самое окаменелое и принудительное воспитание и самое жестокое давление со стороны Единого Государства не в состоянии вытеснить беспечность и невинность, жизнерадостность, тяготение к игре, непосредственное восприятие внешнего мира. А значит, природно-органиче-ские начала в человеческой натуре не искореняются никакими силами — ни властью машины, ни железной организацией.
Убедительнее всего Замятин подчеркивает неистребимость детскости в нумерах, давая понять, что после головокружительного бунта, после «промывки мозгов» у Благодетеля Д-503, вопреки всякой Государственной Логике, как никогда почувствовал потребность в матери: «Если бы у меня была мать — как у древних: моя — вот именно — мать. И чтобы для нее — я не строитель „Интеграла“, и не нумер Д-503, и не молекула Е^гщного Государства, а простой человеческий кусок — кусок ее же самой — истоптанный, раздавленный, выброшенный. И пусть я прибиваю или меня прибивают — может быть, это одинаково — чтобы она услышала то, что никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами, губы -» (133). Эта потребность в родном человеке воспринимается тем острее, что перед нами защитник мира машин, насилия и унификации, который составляет одну из молекул организма EJiyiHoro Государства, Критическое мгновение призвано, по Замятину, обнаружить, что отношения «дети — мать» никакими искусственными препятствиями нельзя искоренить, их не может уничтожить даже тысячелетнее господство Скрижали, которая предусматривает каждый шаг нумеров, их не заменить эрзац-отношениями типа «нумер-Благодетель», потому что они только извращают природные чувства человека.
Исследуя проблему подлинной «детскости» в произведении Замятина, нельзя не остановиться особо на образе 0−90, так как на уровне системы персонажей главным носителем авторской мысли о подлинной Детскости" выступает в романе именно 0−90. Функция этого образа для понимания эмоционально-чувственных аспектов авторского мировоззрения исключительно важна. С образом 0−90 в романе связаны мотивы «любви», «цветов», «ребенка», «смеха», «слез», «ревности» и т. д. Благодаря образу 0−90 и ее участию в сюжетном развитии Замятину удается, с одной стороны, усилить отрицание бесчеловечности тоталитарного и технократического мироустройства, с другой, -возвысить свободу личности, свободу духа, полноту естественной жизни. Давайте, прежде всего, посмотрим, как внешне выглядит 0−90 в глазах Д-503:
Милая 0! — Мне всегда казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — оттого вся кругло обточенная, и розовое «о» -рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястьи руки — такие бывают у детей" (12).
Описание внешнего облика 0−90 — одна из повторяющихся деталей романа. Нужно отметить, что творчество Замятина подверглось огромному воздействию символистской литературы, в результате чего в его творчестве обнаруживаются такие яркие черты, как закрепление за определенными знаками символического содержания. Этот прием особенно активно использован в романе «Мы». Сама буква «О» в имени героини, а также описание ее внешнего вида имеют символический смысл. Если мотив прямой линии — «мудрейшей линии» — выражает господствующее в Е^цином Государстве однообразие, унификацию, искусственное выпрямление всего богатства и многообразия жизни, а треугольник, связанный с изображением 1−330, символизирует протест, несогласие, бунт, то буквенное обозначение «0» -ни то и ни другое. «0» прежде всего означает полноту, округленность, некую завершенность и одновременно бесконечность, простоту и одновременно загадочность, разумность и одновременно ирра-• циональность. «0» есть нечто самодостаточное, само по себе ценное. Если треугольник символизирует революцию и разрушение, а прямая линия — энтропию, застой, неподвижность, то «0» символизирует саму жизнь, саму ценность жизни. Это возможность совершенно нового, творческого пути. Поэтому проблему истинной «детскости», которая является важнейшим условием подлинной жизни, автор развивает и разрешает прежде всего с помощью образа 0−90.
Стоит обратить внимание на то, что художественные приемы, связанные с образом 0−90, куда сложнее, куда богаче, чем те, которые писатель применяет по отношению к 1−330, хотя сюжетно I-330, несомненно, занимает очень важное место в романе. Характер 1−330 и отношение к ней автора мы могли уже почувствовать, прочитав у Д-503 ее первое описание: «И тут же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо» (13). «Все это — без улыбки. Я бы даже сказал — с некоторой почтительностью. Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение» (13). «.Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови — как острые рожки икса» (13). Как мы видим, уже во 2-ой записи романа облик 1−330 связан с символикой «икса». Далее в ходе сюжетного развития «икс» лейтмотив лишь репродуцируется. По-другому обстоит дело с 0−90. Ее образ раскрывается постепенно, по ходу развития сюжета. Это, на мой взгляд, объясняется тем, что Замятин пытается придать образу 0−90 некую таинственность, загадочность, символизируя богатство духовных ощущений.
Можно сказать, что образ 0−90 воплощает замятинское представление об идеальном начале (такие образы, кстати, очень редко встречаются в произведениях Замятина). Конфликт, в который вступает 0−90 с Единым Государством и с другими нумерами, выражает авторское неприятие абсолютно механического, рационального мира. Протест 0−90 есть протест живого человеческого чувства против сухости идей, не принимающих в расчет естественные человеческие побуждения, и утверждение наивности, искренности, непосредственности и поэтичности, противостоящих ортодоксальной механистичности, рациональности Единого Государства.
Следует отметить, что вместе с мотивом подлинной" детскости" Замятин связывает с 0−90 и мотив подлинной взрослости, которая противостоит инфантильности остальных нумеров. Мотив подлинной «детскости» и мотив подлинной взрослости не только не ущемляют друг друга, не противоречат друг другу, наоборот, они дополняют друг друга, они вместе служат выражением авторской концепции полноты жизненности и человечности.
В романе подлинная взрослость 0−90 выражается в ее неудержимом желании иметь ребенка. Поскольку в романе не рассказано, что в Едином Государстве детей «производят» в пробирках или лабораториях, следовательно, ихвсе-таки рожают женские нумера, но рождение ребенка Единое Государство рассматривает не более как занятие, полезное для Государства, как долг женских нумеров перед.
Государством. По логике Единого Государства между женскими нумерами и рожденными ими детьми никаких личных отношений, никакой привязанности друг к другу не должно быть. Желание 0−90 иметь собственного ребенка, как и желание Д-503 в конце произведения иметь собственную мать являются, с точки зрения Единого Государства, ненормальными, даже преступными, тем более, что 0−90 даже и не соответствует Материнской Норме, созданной Государственной наукой. Но все же, как мы видим, жестокий, бесчеловечный запрет не властен над 0−90, в ее душе побеждает неудержимое стремление быть настоящей матерью. Д-503 записывает: «Она так очаровательно-розово слушала — и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья, — прямо на раскрытую страницу. — Милый Д, если бы только вы — если бы.» (20).
Эта сцена выявляет идеальное сочетание в 0−90 двух начал: «детскости» (плач) и зрелости (желание иметь ребенка).
Конфликт между 0−90 и Единым Государством предельно обостряется, когда она, рискуя жизнью, требует от Д-503 дать ей ребенка.
— Я не могу, я сейчас уйду. я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка, и я уйду, я уйду!
— Что? Захотелось машины Благодетеля?
— Пусть! Но я же почувствую — я почувствую его в себе. И хоть несколько дней. Увидеть — только раз увидеть у него складочку вот тут — как там — как на столе. Один день.
— Так вы хотите? Совершенно сознавая, что.
• • •.
— Да, да! Хочу!" (74).
За этим разговором между Д-503 и 0−90 стоит, с одной стороны, осуждение нелепой, бесчеловечной этики Единого Государства, с другой, — утверждение писателя, что ни безошибочная Государственная Наука, ни сурово карающая машина Благодетеля, ни Хранители, берегущие нумеров от малейших просчетов, не могут воспрепятствовать жажде 0−90 иметь собственного ребенка.
Состояние беременности позволяет писателю еще больше подчеркнуть «округленность», «полноту» 0−90. Д-503 так описывает внешность беременной 0−90. «Вся она была как-то по собственному, законченно, упруго круглая. Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас прорвет тонкую материю — и наружу, на солнце, на свет.» (106). Далее самоощущение 0−90:
— Я так счастлива — так счастлива. я полна.
— Понимаете: вровень с краями. И вот — хожу и ничего не слышу, что кругом, а все слушаю внутри, в себе." (106).
Таким образом Замятин показывает, что чувство полноты и истинное счастье вовсе не в том, что провозглашает Единое Государство, оно нераздельно связано с естественными потребностями человека, с реализацией человеческой личности в ее полном объеме.
Конфликт 0−90 и Единого Государства достигает кульминации, когда 0−90, как и всем нумерам, предстоит «Великая операция». Тогда, чтобы сохранить новую жизнь, 0−90, вопреки чувству ревности и собственного достоинства, проявив высшую степень ответственности по отношению к ребенку, обращается к Д-503 за помощью:
— Я каждую ночь,., я не могу — если меня вылечат. Я каждую ночь — одна, в темноте думаю о нем — какой он будет, как я его буду. Мне же нечем тогда жить — понимаете? И вы должнывы должны." (118).
Здесь подлинное материнство раскрыто полностью. Презирая Единое Государство и пренебрегая угрозой жестокого наказания, 0−90 готова идти на все ради новой жизни.
В финале романа 0−90 и новая жизнь в ее чреве отправлены за Зеленую Стену. Этот поворот сюжета многозначителен, он говорит о желании автора сказать, что новая жизнь, жизненные силы, такие положительные жизненные начала, как подлинная детскость и подлинная зрелость, никогда, ни при каких условиях не погибнут, независимо от того, удастся ли бунт против стеклянного рая Единого Государства .
Итак, в отличие от произведений Достоевского в романе Замятина тема детства не получает сюжетной автономии и не связывается напрямую с психологической мотивировкой действия. Мир детства не образует самостоятельного хронотопа и представлен либо в ретроспективе (как школьные воспоминания героя-повествователя), либо в перспективе (как мечты 0−90 о будущем ребенке). В настоящем же романного действия о детстве и детях речь заходит в беседах главного героя с Ю (которая работает на Детско-воспитательном Заводе), и лишь один раз «дети» появятся на страницах романа (точнее, записок героя) «лично» — в качестве живой иллюстрации на лекции по детоводству. Гораздо более важное значение у Замятина получает мотив «детскости», который обретает устойчивый семантический ореол: с «детскостью» связаны непосредственные движения души, неподвластные «логическому маховику» и необъяснимые с точки зрения рациональной необходимости. Вплетаясь в лейтмотивную систему всего романа, прочитываемую сквозь призму метатекста Достоевского, мотив «детскости» (и тема «детства») получает дополнительный смысловой объем. Причащение к детству видится как спасение, как уход з мир подлинных ценностей. Броме того, сюжетное противопоставление 0−90 и 1−330 с учетом мотива «детскости» может быть рассмотрено более широко, чем позволяют рамки любовного треугольника. Судьба 0−90 становится важной сюжетной линией, поскольку реализует архитипический сюжет зачатия — рождения — материнства, связанный в романе с библейским мотивом изгнания из рая. В сравнении с О, устремленной к миру детства, I с ее «улыбкой-укусом» представляет бесовские силы в романе и, скорее, примыкает к лагерю Благодетеля с его официально провозглашенной программой детоводства. В конечном итоге, мотив «детскости» оказывается связанным и с противопоставлением «рая» и «ада» в романе: перевернутая оппозиция «рая — ада» вновь «переворачивается, когда и к 0−90, и Д-503 приходит осознание того, что человек счастлив лишь там, где мать может заботиться о своем ребенке, а ребенок обретает мать. Параллельно с образом 1−330, которая несет в себе символ абсолютного бунтарства, выраженного в ее формуле «нет последней революции», 0−90 выступает как символ устойчивых жизненных начал. Присутствие этих персонажей пророчествует неизбежный крах Е^циного Государства.
Таким образом, мотив «детскости», авторство которого в русской литературе неизменно связывается с именем Достоевского, рассматривается в диссертации в контексте тех важнейших лейтмотивов, которые роман Замятина также унаследовал из произведений Достоевского. Вне христианской символики, связанной с темой «детства» в творчестве русского классика XIX века, Замятин приходит к утверждению «детскости» как важнейшего критерия подлинности человеческого бытия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
В диссертации была предпринята попытка осмыслить природу творческой индивидуальности Замятина, раскрыть философские и эстетические истоки его творчества, интерпретировать связи романа Замятина с творчеством Достоевского как содержательно значимые, формирующие философскую основу романа «Мы» .
Проблему «Е.Замятин — Ф. Достоевский» вряд ли можно понять вне процесса освоения художественного опыта Достоевского эпохой русского культурного Ренессанса, для которой было характерно небывалое внимание к творчеству автора «Братьев Карамазовых», что явилось причиной того, что читатель начала XX века, и Замятин в том числе, воспринимали Достоевского не только «в оригинале» (как" сугубо", «только лишь» художника слова), но и через призму тех философско-эстетических представлений, которые утвердились в общественно-эстетическом сознании под влиянием деятелей русского культурного Ренессанса, работ А. Волынского, Д. Мережковского, С. Булгакова, Л. Шестова, Вяч. Иванова, А. Белого, Н. Бердяева и др., в которых при всем различии философских и эстетических позиций этих мыслителей формируется обобщенный образ Достоевского -" современника" .
Замятин, как и другие его современники, тяготеющие к обновлению классического реализма, выступает в романе «Мы» как непосредственный наследник Достоевского, творчество которого воспринимается в ту пору как начало новой эстетической эпохи. В соответствии с собственными художественными целями Замятин использует, подчас предельно заостряя их, такие характерные для творчества Достоевского художественные принципы, как тяготение к условности («фантастический реализм»), внимание к сознанию персонажа и перестройка в связи с этим моментом всей структуры повествования, лейтмотивный принцип его построения, своеобразный психологический анализ, и как один из приемов такого анализа, прием двойничества, разного рода символику и т. д. Речь может идти в таком случае о наследовании Замятиным традиции Достоевского в прямом смысле слова. Эти явные и постоянные знаки «присутствия» Достоевского в романе «Мы» указывают на принадлежность художника к «генеалогическому дереву» Достоевского. С другой стороны, Замятин использует образы и мотивы творчества Достоевского в качестве шифра-кода к собственному роману. В концептуальных и образных решениях Достоевского, в его философски и психологически насыщенных метафорах Замятин усматривает «ключ» к разгадке глубинной сущности всего происходящего в истории и современности. 3 этом смысле замятинский роман опирается на текст Достоевского как на своего рода мифологический текст, текст-первооснову.
Список литературы
- Адамович Г. Вечер Евг.Замятина // Последние новости, № 4113 (26 июня 1932 г.), с.З.
- Александрова Вера. Евгений Замятин//Евгений Замятин. Мы, Нью-Йорк, 1952, с. J —X/'/'/,
- Андреев Н. Ересь Замятина//Грани, № 32 (октябрь декабрь 1956 г.), сЛ18−126.
- Анненков Ю. Евгений Замятин/Днненков Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий, Ною-Йорк, т.1, 1966, с.205−266.
- Барабанов Е. Предсказание или предупреждение? К публикации романа Замятина «Мы»//Московские новости, № 9, 28 февраля 1988 г., с.II.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского, издание 2-е, М., 1963.
- Безыменский А. Трибуна писателя, за право на эпиграмму//Ли-тературная газета, № 12 (8 июля 1929 г.), с. 2,
- Бердяев Н. Человек и машина//Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства. М., Искусство, 1994, т.1, с.499−523.
- Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского//Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства, т.2, с.7−151.
- Бердяев Н. Откровение о человеке в творчестве Достоевского// Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства, т.2, с.151−176.
- Бердяев Н. Русский духовный Ренессанс начала XX в. и журнал «Путь"// Бердяев Николай. Философия творчества, культуры и искусства, т.2, с.301−322.
- Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда//Вехи. Интеллигенция в России. М., Молодая гвардия, 1991, с.24−43.
- Бердяев Н. Духи русской революции//Из глубины. Сборник статей о русской революции, М., Новости, 1991, с.49−91,18с Бердяев Н. Великий Инквизитор//0 Великом Инквизиторе: Достоевский и последующие. М., Молодая гвардия, 1991, с.219−243.
- Богданов В.А. Метод и стиль Ф.М.Достоевского в критике сим-волистов//Достоевский и русские писатели. М., Советский писатель, 1971, с.375−415.
- Бондаренко В. Евгений Замятин и советский период русской литера туры//Ев г. Замятин. Лица, Нью-Йорк, 1967, с.283−308 ,
- Бондаренко В. Века и десятилетия//Евгений Замятин. Сочинения, т. З, Монхен, 1986, с.365−382.
- Браун Я. Взыскующий человека. Творчество Евгения Замятина// Сибирские огни, 1923, № 5−6, с.225−240.
- Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество//Вехи, с.43−85 ,
- Булгаков С.Н. Иван Карамазов в романе Достоевского «Братья Карамазовы» как философский тип//0 Великом Инквизиторе: Достоевский и последующие, с.193−219 .
- Василевский А. Открывая 3амятина//0ктябрь, 1987, № 3, с.202−203,
- Волынский А. Человекобог и богочеловек//Творчество Достоевского в русской мысли I88I-I93I годов, М., Книга, 1990, с. 74−86,
- Воронский А.К. Об отшельниках, безумных и бунтарях/Драсная новь, 1921, Ш I, с.292−295.
- Гаген-Горн Н.И. Вольно-философская ассоциация в Ленинграде в 1920—1922 гг.//Вопросы философии, 1990, № 4, с.88−104 .
- Гальцева Р., Роднянская И. Помеха человек. Опыт века в зеркале антиутопий//Новый мир, 1988, № 12, с.217−230 ,
- Гангнус А. На руинах позитивной эстетики//Новый мир, 1988, Ш 9, с.147−163 ,
- Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита"// aviса Hierosolymitana, 1978, № 3, с.198−251 .
- Геллер Л. Вселенная за пределами догмы, Лондон, 1985 (
- Геллер Л. Божественная гармония несвободы. Леонид Андреев и Евгений Замятин//Геллер Л. Слово мера мира, с.97−102
- Геллер Л. Сологуб и Замятин//Геллер Л. Слово мера мира, C. I03-II3 .
- Горький М. Заметки о мещанетве//Достоевский в русской критике. М., Советский писатель, 1956, с.386−389 t
- Горький М. 0 карамазовщине//Достоевский в русской критике, с.390−393 .
- Григорьева Л.П. Возвращенная классика (из истории советской прозы 20 30-х годов), Л., 1990 t
- Давыдова Т.Т. Евгений Замятин. М., Знание, 1991 #
- Дикий А. Переписка с Е.И.Замятиным и Б. М. Кустодиевым по поводу спектакля «Блояа"//Дикий Алексей. Статьи, переписка, воспоминания. М., Искусство, 1967, с.279−353,
- Жолковский А.К. Замятин, Оруэлл и Хворобьев: о снах нового типа//Йолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М., Наука, 1994, с.167−191 .
- Зайцев В. Памяти Замятина//Русская мысль, № 1810, (10 марта 1962 г.), с. 7.
- Замятина Л. Письмо в редакцию//Русские новости, август, 1955,
- Иванов Вяч. Борозды и межи. М., Мусагет, 1916 ,
- Иванов-Разумник Р. Тюрьмы и ссылки, Нью-Йорк, 1953, с.41−42 ,
- Исупов К.Г. В школе философской критики//Вопросы философии, 1991, Ш 7, с.182−185 .
- Каспер К. Антиутопия «Ми» Е.Замятина// Zeltschr 1 ft fur Slawistik, 35 (J990) 3j c.342−350,
- Касторский С. «Городок Окуров» и повесть Замятина «Уездное»// Касторский С. Повесть М. Горького «Городок Окуров» и «Низнь Матвея Кожемякина», Л., I9601, с.323−329,
- Кашин А. Художник и человек//Е.Замятин. Собрание сочинений, т.1, Мюнхен, 1970, с.5−21 .
- Келдыш В.А. Е.И.Замятин//Замятин Е. Избранные произведения. М., Советский писатель, 1989, с.12−36^
- Краснов Г. В. Мотив в структуре прозаического произведения. Вопросы сюжета и композиции. Вып.4, Горький, 1990, с.70−81,
- Лакшин В.Я. Антиутопия Евгения 3амятина//3намя, 1988, № 4, с. 127,
- Лундберг Е. Записки писателя, Берлин, 1922, с.117−118 .
- Максим Д. 0 мифопоэтическом начале в лирике Блока//Блоковский сборник, Ш выпуск 459, Тарту, 1979, с.3−33 #
- Миллер-Будницкая Р. Потомки лудцитов//Звезда, 1934, № 4, с.177−193.
- Минц 3. 0 некоторых неомифологических текстах в творчестве русских символистов//Блоковский сборник, Ш выпуск 459, с.76−120
- Михайлов 0. Мастерство и правда//3амятин Е. Повести и рассказы. Воронеж, 1986, с.5−26 ,
- Мущенко Е. Я и мы//Побьем, 1989, № 4, с.219−227с
- Мясников А. Достоевский и Горький//Достоевский художник и мыслитель, с.552−602,
- Оруэлл Дж. Рецензия на «Мы» Е.И.Замятина//0руэлл Дж. 1984, Эссе разных лет, М., Прогресс, 1989, с.306−309t
- Опуп Н. Евгений 3амятин//0пуп Н. Современники, Париж, 1961, С.9&-96е
- Переверзев В. Достоевский и революция//Печать и революция, 1921, № 3, с.3−21
- Полянский В. Гершензон и Замятин//Современник, 1922, кн.1, с.148−154 .
- Ремизов А. Стоять негасимую свечу. Памяти Евгения Замятина //Наше наследие, 1989, № jt Со119−202,
- Розанов В.В. 0 легенде «Великий Инквизитор»//0 Великом Инквизиторе: Достоевский и последующие, с.73−193 ,
- Силард JI. К вопросу об иерархии семантических структур в романе XX века. «Петербург» Андрея Белого и «Улисс» Джеймса Джойса»» Hungaro-Slavlca j Budapest, I983j C.297−3I3,
- Скалой H.P. Роман Е.Замятина «Мы» в зоне контакта с М. Бахтиным //Диалог. Карнавал, Хронотоп, 1993, № 4, с.25−38^
- Скороспелова Е.Б. Возвращеше//Замятин Е. Избранные произведения. М., Советская Россия, 1990, с.3−14,
- Слоним М. Письмо в редакцию//Руль, № 2679, 18 сентября 1929 г., с. 5 ,
- Соловьев В. Три речи в память Достоевского//Соловьев Вл. Сочинения двух томах, М., Мысль, 1990, т.2, с.289−324.
- Старикова Е. На пути к целому (Ф.М.Достоевский)//Время и судьбы русских писателей. М., Наука, 1981, с.282−310 ,
- Струве Глеб. Новые варианты «Шигалевщины»? 0 романах Замятина, Хаксли и 0руэлла//Новый журнал, № 30, (1952), с.152−163,
- ТЬманин Т. Е.И.Замятин//Русские записи, № 16, (апрель 1939), C98-I08 ,
- Терапиано Ю. Е.И.Замятин//Русская мысль, № 1810 (10 марта 1962 г.), с.6−7I
- Туган-Барановский М. Нравственное мировоззрение Достоевского //Творчество Достоевского в русской мысли I88I-I93I годов, с.128−148 ,
- Филиппов Б. Евгений Замятин в своих прозаических миниатюрах //Замятин Е. Сочинения, т. З, Мюнхен, с.5−9,
- Франк С.Л. Легенда о Великом Аквизиторе//0 Великом Инквизиторе: Достоевский и последующие, с.243−251
- Фридлендер Г. М. Эстетика Достоевского//Достоевский художник и мыслитель, с.106−139 .
- Чаликова В. Крик еретика (Антиутопия Евгения Замятина)//Вопросы философии, 1991, № I, сЛ6−27,
- ПО. Чаликова В&bdquo- Антиутопия Евгения Замятина: пародия или альтернатива ?//Социокультурные утопии XX века, вып.6, М., 1988, с.134−176 ,
- Шагинян М. Письмо из Петербурга//Россия, 1922, кн.1, с.29−30.
- Шеншин В. Традиции Ф.М.Достоевского и советский роман 1920-х годов, Красноярск, 1988,
- Шинцева Н.В. Интеллигенция и революция в произведениях Л.Леонова и Е. Замятина//Анализ художественного текста. Йошкар-Ола, 199I, с.88−98,
- Шкловский В. Потолок Евгения Замятина//Шкловский В. Пять человек знакомых. Тифлис, 1927, с.43−67
- Шкловский В. 0 рукописи «избранное» Евгения 3амятина//3амя-тин Е. Избранные произведения. М., Советский писатель, 1989, с.5−11 ,
- Шохина В. На втором перекрестке утопии//Звезда, 1988, № II, с. I2I-I79.
- Штейнман Зел. Замятины, их алгебра и наши выводы/ Альманах «Удар», кн.1, М., Новая Москва, 1927, сЛ94−198.-1 и 1. Bibliography
- Barratt A. Revolution as Collusion: The Heretic and the Slave in Zamjatin'-s My II Slavonic and East European Review, vol. 62, No. 3, July 1984.
- Carden P. Upotia and Anti-Utopia: Aleksei Gastev and Evgeny Zamjatin II The Russian Review, vol.46, january 1987.
- Collins C. Zamjatin’s We as Myth II Slavic and East European Journal, No.2, 1966, 125−133.
- Collins C. Zamjatin. Wells and the Utopian Literary Tradition II Slavonic and East European Review, No.103, 1966, 351−360.
- Connors J. Zamjatin’s We and the Genesis of 1984 II Modern Fiction Studies, No.1, 1975.
- Edwards T. Three Russian writers and the irrational: Zamjatin, Pilnyak and Bulgakov, Cambridge, 1982.
- Ehre M. Zamjatin’s Aesthetics II Slavic and East European Journal, No.3, 1975, 288−296.
- Gregg Richard. Two Adams and Eva in the Crystal Palace: Dostoevsky, the Bible, and We II Slavic Review, No.4, 1965,680−687.
- Hacker Andrew. Dostoevsky’s Disciples: Man and Sheep in Political Theory II Journal of Politics. XVII (November, 1955), 590−613.
- Jackson, Robert Louis. Dostoevsky’s Underground Man in Russian Literature. The Hague, Mouton & Co., 1958.
- Layton S. Zamjatin’s Neorealism. Theory and Practice, Diss. Yale, 1972.
- Layton S. Zamjatin and Literary Modernism II Slavic and East European Journal, No.3, 1973, 279−287.
- Lewis K., Weber H. Zamjatin’s We, the Proletarian Poets and Bogdanov’s Red Star II Russian Literature Triquarterly, No.12, 1975, 253−278.
- Proffer C. Note on the Imagery in Zamjatin’s We II Slavic and East European Journal, No.3, 1963, 269−278.1. Но
- Richards D. Four Utopias II Slavonic and East European Review, No. 94, 1961, 220−228.
- Richards D. Zamjatin- A Soviet Heretic, New York, Hillary House Publisher, Ltd., 1962.
- Rhodes C. Frederick Winslow Taylor’s System о f Scientific Management in Zamjatin’s We II Journal of General Education, No. l, 1976.
- Russell, RObert. Literature and Revolution in Zamjatin’s My II Slavic and East European Review, No.1226 1973, 36−46.
- Sandoz, Ellis. Political Apocalypse- A Study of Dostoevsky’s Grand Inquistor. Baton Rouge: Louisiaaa State University Press, 1971.
- Shane, Alex M. The Life and Works of Evgenij Zamjatin. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968.21+ Shane, Alex M. Zamjatin’s Prose Fiction II Slavic and East European Journal, No. l, 1968, 14−25.
- Trahan, Elizabeth W. The Golden Age-Dream о f a Ridiculous Man? II Slavic and East European Journal. New Series XVII, 1959, 349−371.
- Weber, Eugen. The Anti-Utopia-, of the Twentieth Century II SQuth Atlantic Quarterly. LVIII, 1959,440−447.
- White J. Mathematical Imagery in Musil’s «Young Torless» and Zamjatin’s «We» II Comparative Literature, No. l, 1966, 71−78.