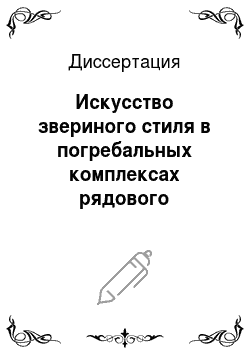Внешняя форма произведения творится ради незримой, А та ради другой, более сокровенной, и так далее. Ты можешь постичь третье, четвертое или десятое Соответствие, насколько позволит тебе твоя мудрость" .
Руми.
Актуальность и научная новизна исследования семантики искусства звериного стиля, роли и значения языка изображений в пазырыкских погребальных комплексах обусловлены, во-первых, тем, что недавно в научный оборот раскопками В. Д. Кубарева, Н. В. Полосьмак, В. И. Молодина на юго-востоке Российского Алтая, З. С. Самашева и А.-П. Франкфора на юго-западе Алтая, в пределах Республики Казахстан введен большой корпус источников. Здесь раскопаны неразграбленные рядовые погребения и захоронения представителей знати пазырыкской культуры, в которых благодаря подкурганной мерзлоте в не потревоженном виде сохранен первоначальный контекст ритуальных атрибутов, в том числе артефактов с богатым изобразительным рядом. Это зооморфная атрибутика головных уборов (навершия и другие детали головных уборов, диадемы и «эгреты»), нашейные гривны, детали одежды, а также предметы вооружения и другие артефакты, сопровождавшие умершего, в частности, оружие, зеркала, детали поясной гарнитуры. Кроме того, в убранстве коней, сопровождавших захоронения людей — носителей пазырыкской культуры, развернуты сложные ансамбли зооморфных образов: в погребальных или культово-церемониальных масках, на парадной узде, седельных подвесках и т. п. В контекст погребального ритуала также включены сосуды из разных материалов, сопроводительная пища, жертвенные животные, погребальные конструкции — деревянные ложа, колоды и т. п.
С одной стороны, для погребений, чья целостность не разрушена грабителями, существуют возможности достоверной фиксации контекстуальных связей артефактов, «номенклатура» которых максимально полно сохранена в мерзлоте. С другой стороны, сохранность произведений изобразительного искусства в условиях подкурганной мерзлоты (например, сюжетов пазырыкских татуировок или изображений на артефактах из органических материалов — дерева, кожи, войлока), позволяет провести детальное формальное изучение набора образов, дает возможность судить о точной иконографии зооморфных персонажей. Это служит отправной точкой для анализа идейного содержания образов животных и семантики артефактов с данными изображениями в структуре комплекса. В большой серии неразграбленных пазырыкских погребений артефакты с изображениями в зверином стиле составляют единый ансамбль атрибутов погребального ритуала с изобразительным рядом, определенным единой смысловой структурой, а сочетания зооморфных персонажей с определенными артефактами повторяются в захоронениях мужчин, женщин и детей. Первоначально анализу был подвергнут комплекс погребальных памятников рядового населения пазырыкской культуры юго-восточного Алтая — могильники Юстыд, Уландрык, Ташанта и др. (в середине 80-х это были частично опубликованные материалы из раскопок В. Д. Кубарева, антропологические определения выполнены к.б.н. Т.А. Чикишевой).
Структурные конфигурации ансамблей артефактов с изображениями в зверином стиле были достаточно четко явлены в представительной серии рядовых пазырыкских погребений, раскопанных В. Д. Кубаревым (в течение нескольких полевых сезонов в раскопках принимал участие автор), однако только после исследований Н. В. Полосьмак и В. И. Молодина на плато Укок (могильники Ак-Алаха, Верх-Кальджин, Кутургунтас) были получены полные образцы головных уборов, что позволило точно определить их форму и назначение деталей с зооморфными изображениями. По материалам из захоронений в верховьях р. Чуй точная реконструкция головных уборов была невозможна, хотя место и назначение деталей убора в виде зооморфных фигур, как и принцип сочетания определенных образов с определенными категориями вещей прочитывались по совокупному контексту неразграбленных комплексов (в частности, были очевидны различия в типах зооморфных деталей мужских и женских головных уборов). Укокская серия непотревоженных погребений позволила увидеть погребальный комплекс пазырыкской культуры в этнографическом приближении, и реконструкции, выполненные на базе более многочисленных, но фрагментированных материалов соседних высокогорных степей истоков Чуй, были верифицированы, уточнены и дополнены, а необходимость в некоторых просто-напросто исчезла. Автор также принимал участие в работах археологических отрядов Н. В. Полосьмак (сезон 1991 г.) и В. И. Молодина на плоскогорье Укок (сезоны 1992;1996 гг.).
Цель работы определена как реконструкция семантики зооморфных образов, связанных с определенными категориями погребального инвентаряпрочтение «изобразительного текста» пазырыкских захоронений, структура которого представляется единой для погребений знати и рядовых ч захоронений. Согласно авторской гипотезе, сюжеты изображений в зверином стиле, манифестированные в ансамблях ритуальной атрибутики, определены мифом и являются частью языка погребального комплекса, которым прокламированы идеологемы, единые для всего общества.
Задачи исследования — определение методики реконструкции семантики искусства звериного стиля пазырыкской культурывыяснение на основе реального культурного контекста тех или иных артефактов и изображений на этих предметах семантики зооморфных образов и реконструкция содержания, которое заключено в ансамбле изображений. Особую ценность для изучения идейного содержания древнего искусства имеет сохранность, целостность и полнота источника. Неразграбленные пазырыкские комплексы представляют собой именно такой источник, позволяющий достоверно судить как о точной иконографии тех или иных зооморфных персонажей, так и о месте их в системе образов, которое по материалам рядовых погребений можно достоверно реконструировать, о роли изобразительного ряда в структуре погребения, о соответствии изображений определенным артефактам, а также о связях в погребальном обряде сопровождающих человека вещей между собой. Статистически пазырыкская серия ритуальных атрибутов с изображениями столь представительна, что можно фиксировать существование устойчивых традиций помещать определенные зооморфные изображения на определенные артефакты.
Одной из задач исследования и была попытка установить, существуют ли какие-либо соответствия для тех пазырыкских погребений, в которых представлен стандартный набор погребального инвентаря и сохранен изначальный контекст артефактов (будь то захоронения мужчин, женщин или детей). Эти сведения дали бы дополнительные возможности для интерпретации сюжетов и реконструкции семантики изображений, для прочтения смыслового содержания изобразительных памятников, позволили бы выйти на реконструкцию идеологии пазырыкского общества. Очевидно, что если бы нам удалось зафиксировать соответствие определенных зооморфных персонажей определенным могильникам, то в таком случае у нас были бы основания говорить о значении образов искусства звериного стиля как родовых или клановых эмблемустойчивое закрепление же каких-либо зооморфных образов за мужскими, а иных звериных изображений — за женскими погребальными облачениями дало бы основание связывать семантику данных образов с половозрастными классами пазырыкцев, считать их зооморфными маркерами мира мужчин и женщин и т. п. Можно было ожидать также определенных соответствий в сюжетах изображений и типах ритуальных атрибутов для захоронений представителей разных социальных групп, т.к. кроме социально однородных рядовых захоронений в истоках Чуй, на Укоке были раскопаны непотревоженные курганы родовой верхушки (по Н. В. Полосьмак — представителей «средней знати» пазырыкского общества). Наличие в ряде могильников захоронений, в которых погребенные отсутствовали (кенотафов), давало возможность определить, существовала ли какая-либо специфика артефактов с изображениями в зверином стиле в погребениях такого типа.
Совершенно очевидна гораздо большая информативность источников, и как следствие — возможность более достоверных интерпретаций и реконструкций на материалах неразграбленных погребений пазырыкской культуры, сохраненных в древней мерзлоте, по сравнению с сильно фрагментированными синхронными комплексами, в которых органика не сохраняется, или теми, что были разрушены грабителями. Насыщенность пазырыкских погребальных комплексов изображениями заключает возможности провести сравнительный анализ изобразительных материалов на уровне могильников, на уровне отдельных погребений внутри могильника, на уровне определенных категорий артефактов как внутри могильной группы, так и в сравнении с другими погребениями, тем более что в нашем распоряжении были данные по ряду полностью раскопанных пазырыкских могильников (опубликованные материалы В.Д. Кубарева).
Несомненно, важное значение имеет определение адекватных методов исследования. Попытки изучения семантики произведений скифского искусства на основе древнегреческой мифологии были предприняты непосредственно после открытия памятников скифской культуры. История развития методики семантических интерпретаций раскрывается при обзоре историографии проблемы.
Формированию исследовательских направлений и истории изучения идейного содержания скифского искусства посвящен ряд специальных работ, в том числе обзорное исследование — кандидатская диссертация Д. М. Дудко «Проблемы верований ираноязычных народов Восточной Европы I тыс. до н. э. — первой половины I тыс. н. э. в отечественной и зарубежной историографии» (Дудко, 1989). Подходы к раскрытию идейного содержания анималистического искусства ранних кочевников Азии разработаны не столь глубоко и подробно. Как правило, используются общие для произведений искусства звериного стиля, происходящих из разных частей Евразии, стратегии интерпретации изобразительных памятников. В нашем исследовании больше внимания уделено методам семантического анализа памятников, происходящих из азиатской части степного пояса Евразии I тыс. до н.э. и новейшим тенденциям в подходах к реконструкции идейного содержания искусства звериного стиля пазырыкской культуры («шаманской» и «эзотерическим» концепциям), которые особенно активно разрабатывались с 80-х гг. XX в.
В тех случаях, когда говорится о прочтении «языка» и реконструкции содержания пазырыкского искусства, имеется в виду, что целью является раскрытие семантики сюжетов и образов звериного стиля, интерпретация символики ансамблей артефактов с изображениями. В противоположность изучению «художественных особенностей» и стилистического своеобразия изобразительной системы пазырыкского искусства, наше исследование направлено на изучение семантической структуры, идейного содержания, с которым эта система связана и выражению которого служит.
Хронологические и территориальные рамки работы ограничены территорией распространения и временем существования пазырыкской культуры Горного Алтая, основной массив источников происходит из погребальных комплексов юго-востока Горного Алтая, относящихся ко второй половине IVначалу III вв. до н. э. (см.: Слюсаренко и др., 2002). При этом в качестве аналогий в рамках сравнительного анализа широко привлекаются археологические материалы из синхронных, более древних и позднейших культур степной Евразии. В основу исследования положен изобразительный комплекс из погребений рядового пазырыкского населения юго-восточного Алтая (степи в истоках р. Чуй и высокогорное плато У кок, на территории которого также раскопаны неразграбленные захоронения представителей пазырыкского общества более высокого социального ранга). В качестве данных, служащих источником для семантических реконструкций, привлекаются гораздо более разнообразные материалы из культурного наследия древних индоевропейцев, особенно ираноязычных народов, а также тюркоязычных народов Евразии (прежде всего данные об искусстве, мифологии и обрядовой сфере культуры).
Характер источников, отсутствие достоверных письменных свидетельств, не позволяет восстанавливать целиком те или иные мифологемы, определять связь изображенных персонажей с конкретными божествами индоиранской, иранской или «пазырыкской» мифологии. Однако выявляемая структура изобразительного комплекса пазырыкских погребений позволяет выйти на уровень реконструкции содержания, определившего систему образов и изобразительный ряд на артефактах, зафиксированный в большой серии пазырыкских погребальных памятников.
Семиотический метод позволяет воспринимать каждый элемент изобразительного ансамбля как интегральное составляющее некоего целого («текста», мифа), обусловившего определенную структуру данного ансамбля артефактов с изобразительным рядом. В соответствии с методикой структурно-семиотического исследования этапами реконструкции являются определение прагматики и синтактики (выяснение назначения артефактов с изображениями и характера их связи между собой внутри комплекса, т. е. определение внутренней структуры изобразительного текста), а затем интерпретация семантики образов, выяснение смыслового содержания в контексте внешней по отношению к изображениям, информации. Возможность привлечения такой информации обоснована в работах Я. А. Шера о ритуально-мифологических моделирующих системах (Шер, 1980, с. 257−289- 1998, с. 85−86- см. также: Евсюков, 1988, с. 21−34- Антонова, Раевский, 1981, с. 234). Использовать сравнительно-исторический метод следует в соответствии со строгой процедурой анализа, дифференцируя привлекаемые сведения на относящиеся к той же культурной традиции, что и интерпретируемый комплекс изображений, и связанные с инокультурными традициями, ранжируя привлекаемые материалы на соответствующие уровню культурных универсалий либо отражающие генетически или культурно связанные традиции. Обращение к мифологическим универсалиям.
— один из возможных способов интерпретации и реконструкции содержания изображений (Раевский, 1985, 1996; 1998, с. 47−48- 1999, с. 118−123- Антонова, Раевский, 1991, с. 219−223).
Продуктивным представляется использование понятия «концепт» (подобно тому, как эта дефиниция понимается в когнитивной лингвистике, когда речь идет об отражении в лексике картины мира) в том смысле, что в древнем искусстве реализован не «фотографический», а концептуальный принцип (См.: Шер, 1980, с. 41−42). Например, характерные для пазырыкского искусства изображения животных в позе с вывернутой задней частью тела и закинутыми на спину задними конечностями можно понимать как воспроизведение задней ноги животного «.в той позе, которую мы можем наблюдать у баранов или козлов, когда они чешут ею голову» (Руденко, 1953, с. 190, табл. L, 4 LI, 3), а можно считать, «что этот судорожный изгиб тела жертвы служил символом поражения или предсмертной агонии животного» (Руденко, 1952, с. 174−175). Оба суждения в отношении одних и тех же пазырыкских изображений высказаны одним исследователем — Сергеем Ивановичем Руденко. Видимо, именно с последним значением связано почти полное преобладание изображений копытных животных, а «фантастических копытных» с клювовидной мордой исключительно в этой позе — на всех пазырыкских татуировках. Фиксируются также соответствия определенных поз оленей, изображенных на атрибутах мужских или женских головных уборов пазырыкцев, типам этих уборов.
В становлении современных научных парадигм и определении методов изучения семантики искусства звериного стиля археологическая наука прошла довольно значительный путь, в ходе которого менялись подходы и представления о содержании звериных образов в искусстве населения степей Евразии I тыс. до н. э.
Гл. 1. История изучения семантики искусства звериного стиля пазырыкской культуры и методы исследования.
Подходы к исследованию семантики искусства звериного стиля населения Евразии I тыс. до н.э. традиционно подразделяют на три направления или концепции идейного содержания: тотемическую, магическую и мифологическую теории. Разделение это достаточно условно. Тотемическая трактовка природы анимализма древних кочевников Евразии обычно сочетается с магической интерпретацией изображений в духе охотничьей или военной магии. К данному направлению примыкают работы, авторы которых при анализе семантики скифо-сибирского звериного стиля ориентируются на шаманистические представления или мифы охотников. Эти исследования объединяет стремление отыскать корни искусства звериного стиля в идеологии примитивных охотничьих обществ.
Впервые идеи о том, что скифское искусство основано на тотемизме и магии, высказал Н. П. Кондаков. Он полагал, что изображения животных в скифской торевтике могли служить тотемами (образы оленя, быка), воинскими эмблемами (лев, грифон), воплощением души покойника (птицы) (Кондаков, 1929, с. 16−31). Концепцию о териоморфном мировоззрении кочевников Евразии в 1931 г. предложил А. Альфёльди, привлекая для интерпретации анималистического искусства древних кочевников сюжеты мифологии урало-алтайских народов, тотемические верования которых считал сходными с представлениями северных иранцев (Alfoldi, 1931). Так, семантику сцены терзания он прочитывал в свете тотемических мифов финно-угров о преследовании мужским предком-тотемом (хищником) женского предка (оленихи). Данный подход имеет сторонников в лице Д. Ласло, трактующего сцену терзания оленя двумя хищниками как охоту двух братьев — тотемических предков двух фратрий на олениху, тотем другой фратрии (Laszlo, 1972, р. 107−109), и А. Фаркаш, которая видит в сцене борьбы животных миф об убийстве-растерзании предка-тотема с целью создания человека и обретения культурных благ (Farkas, 1977). Й.-Г. Андерсон в 1932 г. выдвинул идею об охотничьей магии как идейной основе искусства звериного стиля, причем интерпретировались произведения торевтики, происходящие из азиатской части Евразии — (коллекция, включающая так наз. ордосские бронзы) (Andersson, 1932). Сторонники сопоставления сюжетов скифского искусства звериного стиля с содержанием урало-алтайской мифологии обращались к археологическим памятникам Зауралья, Западной Сибири и Центральной Азии.
Тотемизм как основа искусства звериного стиля в первой трети XX в. понимался как непосредственное воплощение в образах животных определенных тотемов древних племен, причем для прочтения семантики артефактов привлекались этно-лингвистические материалы народов урало-алтайской семьи. В советской археологии в 30−40-х гг. концепцию тотемизма и магии как основ искусства звериного стиля развивала В. В. Гольмстен, изображения животных на предметах вооружения считавшая тотемическими знаками, ибо в оружии прежде всего была нужна помощь тотема-предка, магическая сила, заключенная в его изображении. По ее мнению, в сценах терзания и борьбы животных звери «являются тотемами — символами определенной общественной группы», а вся композиция осмысляется как изображение с целью «нанести вред враждебной группе через ее тотем» (Гольмстен, 1933, с. 113, 117). При этом с развитием общественных отношений изменяется и идейное содержание сюжетов и образов. Искусство пазырыкской культуры В. В. Гольмстен рассматривала как отражающее определенную стадию всеобщего развития «культового образа зверя», в качестве тотема сначала изображавшегося на оружии, а по мере разложения родовых отношений расширявшего свою «сферу». Пазырыкское искусство, по ее мнению, фиксирует «отход от сознания кровной связи с тотемом» и «переход» изображений животных на принадлежности конского снаряжения «в силу своего магического значения» (Там же, с. 113).
Подобным образом сцены терзания в искусстве саков интерпретировал А. Н. Бернштам, считая, что борьба родов в этих памятниках представлена путем изображения их тотемов (Бернштам, 1952, с. 49). С. С. Черников полагал, что в сакском зверином стиле отражены «пережитки древнего тотемизма», что и обусловило представления людей о связи изображений животных с силами природы, и в качестве символов эти изображения помещались на культовых предметах, «в частности, на ритуальном костюме и иных аксессуарах племенных колдунов-шаманов» (Черников, 1965, с. 135). H.JI. Членова усматривала тотемическую основу изображений животных в тагарском искусстве (Членова, 1967, с. 129).
В 70-е гг. XX в. тотемическую концепцию искусства звериного стиля поддержал А. Д. Грач, считавший, что звериные образы в первую очередь отражают тотемические представления ранних кочевников разных этнокультурных зон Евразии. Сцены терзания А. Д. Грач расшифровывал как отражение в произведениях искусства звериного стиля реальных событийотношений противостояния родов или военно-политических союзов эпохи разложения родового строя, когда война стала обычным явлением общественной жизни степняков (Грач, 1972). По А. Д. Грачу, сюжеты искусства звериного стиля призваны прославлять торжество победителя, апофеоз войны, право сильного, славу и победу, а «соединение тотемистической первоосновы и магического значения объектов и сюжетов произведений скифо-сибирского искусства лежало в основе семантики этих произведений» (Грач, 1980, с. 83). Существует установившаяся традиция определять идейное содержание скифского искусства как отражение тотемизма. Так, А А. Нейхард в работе, посвященной историографии отечественной скифологии, отмечала, что «звериный стиль свидетельствует в первую очередь о преобладании тотемистических представлений в религии скифов» (Нейхард, 1982, с. 213- см. также: Доватур, Каллистова, Шишова, 1982, с. 39).
Многочисленные опыты интерпретации произведений скифо-сибирского искусства были предложены на основе тотемизма первобытных охотников, а также промысловой, симпатической или военной магии. Помимо археологов, к тотемизму и магии как основе искусства кочевников Евразии обращались этнологи и фольклористы, определяя истоки мифологических систем народов Сибири. Например, тюркологи А.-М. фон Габэн и Ж.-П. Ру, изучавшие мифологию народов Северной Азии, сцену терзания произведений «скифо-сибирской» торевтики трактовали как «борьбу народов, являющихся разными тотемами» либо как воплощение симпатической магии: «атакующий хищник идентифицируется с человеком-охотником, и в этом заключено магическое значение этих произведений искусства» (Roux, 1966, р. 95, 172).
Другие исследователи связывали магическую семантику искусства ранних кочевников Евразии не с охотой, а с военным бытом степняков-скотоводов. И. В. Яценко полагает, что «магическое содержание звериного стиля своими корнями связано с древними тотемистическими представлениями», но назначение этого искусства в том, чтобы наделять воина — обладателя предметов с изображениями животных, прежде всего оружия, атрибутами этих животных, и поэтому в образах зверей «подчеркивалось то, что убивало жертву. и то, что помогало выследить ее» (Яценко, 1971, с. 131−133). К. Ф. Смирнов считал, что главный характер скифо-сибирского искусства звериного стиля — магический, а животные в изображениях символизируют определенные качества (зоркость, силу, ловкость и смелость в бою) (Смирнов, 1976, с. 75, 88). A.M. Хазанов и А. И. Шкурко определяли звериный стиль как «нерасчлененное единство социальных, этико-эстетических и религиозных компонентов», социальной основой которого была военная аристократия, а религиозная основа, единая для всего общества — магическая (Хазанов, Шкурко, 1972; 1976, с. 44). Сторонники «мифологического» подхода критиковали такое понимание как пример «расчленения» составляющих компонентов. А. П. Смирнов также считал изображения зверей в сюжетах скифского искусства оберегами, которые и ограждали людей от беды, и давали им качества зверя (Смирнов, 1966, с. 168). Сторонники магической концепции приводили мнение Б. Н. Гракова, не отрицавшего возможности интерпретации изображения животных в скифском искусстве с точки зрения магии (Граков, 1971, с. 86, 99−100), но видевшем в нем ряд эпических сюжетов развитой мифологии.
Прочтение идейной основы искусства звериного стиля как сочетания тотемизма и магии (охотничьей или военной), идеи о перерастании древних тотемов в духов-покровителей вождей в условиях разложения родового строя, привлечение идеологии первобытных охотников и собирателей было справедливо оценено критиками подобных подходов к интерпретации скифского искусства как тенденция архаизировать скифское общество и уровень социальных отношений ираноязычного населения Евразии, а саму магическую концепцию — как не выводимое из анализа археологических источников заключение, как теорию, сконструированную a priori и апплицированную к изобразительным памятникам (см.: Дудко, 1985, с. 153). Как правило, заключения о магическом характере изображений звериного стиля весьма кратки, носят характер констатаций, а метод получения подобных заключений специально не прописывается и не выводится непосредственно в результате анализа изобразительного комплекса.
Более подробно аргументировал метод интерпретации сюжетов скифского искусства Г. А. Федоров-Давыдов, полагавший, что назначением предметов звериного стиля было служить оберегами, амулетами и апотропеями: «древний анимизм и аниматизм наделял изображение качествами живого существа, способного помочь человеку». Апотропеем является не изображение животного, а то, что исследователь называет «предметом-животным», в котором образ зверя неотделим от вещи (Федоров-Давыдов, 1979, с. 22−24). Создание фантастических персонажей на примере образов пазырыкского искусства Г. А. Федоров-Давыдов объяснял желанием заполучить более сильный оберег, в русле этого предположения сцена терзания видится им как процесс проникновения одного животного в другое, чтобы стать его «полезной частью». В результате соединения несоединимых в природе частей, мистически воплощавших различные свойства зверей, получались «сверхсинтетические» существа, самые сильные апотропеи, в которых быстроногий олень сливался бы с мощным тигром (Федоров-Давыдов, 1975). Идея исследователя о тесной связи изображений с артефактами, на которых они помещались, представляется очень продуктивной, но вряд ли назначение предметов с изображениями в зверином стиле можно сводить только к функции оберега.
В дискуссиях 70-х- 80-х гг. прошлого века подходы к интерпретации искусства звериного стиля на основе охотничьей и военной магии подвергались критике, в основном сторонниками «мифологической концепции», неоднократно указывавшими на недостатки магической теории семантики звериного стиля. Необоснованным представляется тенденция искусственного вычленения «магии» как основы изобразительного искусства из общей системы верований. Магия, согласно определения С. А. Токарева -" общее обозначение многочисленных и разнообразных обрядов и соответствующих им поверий" (Токарев, 1959, с. 72). По И. М. Дьяконову, «магия. есть совокупность способов воздействия на природные силы с помощью метонимически-ассоциативных средств и отражает точно то же состояние мышления, что и мифология» (Дьяконов, 1990, с. 181).
Археологи, развивавшие с конца 60-х гг. прошлого века иной подход к анализу семантики скифо-сакского искусства, в частности, Д. С. Раевский, Е. Е. Кузьмина неоднократно указывали на невозможность объяснить феномен звериного стиля выражением исключительно магических представлений, приводя мнение исследователей духовной культуры первобытных обществ, согласно которым никогда не было такого периода в истории человечества, когда его рефлексия в отношении окружающего мира сводилась бы к магии (Арутюнов, 1982, с. 140). Д. С. Раевский убедительно показал, что гипотеза об исключительно магическом значении образов звериного стиля не соответствует уровню развития скифской религии.
Я.А. Шер, определяя методику изучения семантики образов древнего искусства, в частности, наскальных изображений Средней и Центральной Азии, указывает, что «мифические образы, обряды и магические действиячасти единой ритуально-мифологической моделирующей системы», в которой магические действия, заклинания, гимны были соотнесены с образным строем изобразительного искусства (Шер, 1980, с. 258−262). Миф, функционирующий в качестве универсальной знаковой системы, реализовался в ритуале, призванном обеспечить постоянное функционирование так или иначе понимаемого миропорядка. Согласно мнению В. Н. Топорова, именно ритуал был колыбелью изобразительного искусства (Топоров, 1982, с. 18). Е. Е. Кузьмина предложила интерпретацию сюжета противоборства пары животных (коней и верблюдов) путем соотнесения авестийского гимна Тиштрии и текстов магических заклинаний на согдийском языке, читавшихся во время обряда вызывания дождя, с сюжетами изображений (Кузьмина, 1978, с. 105−106). Принципы парциальной магии, возможно, отражены в парциальных изображениях животных, когда акцентировались определяющие видовые признаки, животные наделялись дополнительными изображениями и т. п.
Таким образом, можно говорить о магической составляющей мифо-ритуапьной картины мира и возможном соотнесении магических действий и представлений о качестве оружия, одежды или ритуальных атрибутов с сюжетами и образами изобразительного искусства, но невозможно объяснить феномен звериного стиля выражением исключительно магических представлений или воплощением тотемов древних племен.
Другие исследователи, не отрицавшие магической природы атрибутов с изображениями в зверином стиле, избегали выделения магии как главного содержания анимализма искусства скифской эпохи. По М. И. Артамонову, на том уровне религиозного мышления, которого достигло население Евразии в первой половине I тыс. до н. э., зооморфные образы «превратились в образы стихийных явлений» (Артамонов, 1961, с. 83), «образы животных или их частей «играли роль оберегов» и одновременно «воплощали в себе злые и добрые космические силы, наполнявшие мир» (Артамонов, 1968, с. 45). М. И. Артамонов полагал, что эти образы искусства на территории всего скифо-сибирского мира восходят к искусству Передней Азии, связаны с «иранским дуалистическим мировоззрением», «служили апотропеями-амулетами, с одной стороны, и воплощениями космических сил, с другой» (Артамонов, 1973, с. 235). Представления о борьбе противоположных начал, характерные для иранского религиозного мировоззрения и отраженные в образности Древнего Востока, были переработаны на просторах Евразии в соответствии с местными верованиями и тотемическими традициями, примером чего, по мнению М. И. Артамонова, являются пазырыкские культовые конские маски и образ «человеко-зверя с оленьими рогами» на войлочном ковре Пазырыка-V (Артамонов, 1973, с. 235).
В связи с дискуссией по проблемам языкознания (1951) и критики марризма (в том числе теории стадиальности и «яфетической теории» Марра, с которой были связаны исследования исторической семантики изобразительных памятников в рамках изучения «палеонтологии мышления» и «стадиальности надстроечных явлений»), «мифологическая» концепция была на определенное время дискредитирована, хотя значение работ, в которых ученые базировались на строгом источниковедческом анализе, например, исследования К. В. Тревер — на изобразительных и письменных древнеиранских материалах (Тревер, 1937), безусловно сохраняется. В данном направлении в 20−40-х гг. с памятниками скифо-сарматской эпохи работали сотрудники ГАИМК И. И. Мещанинов, К. В. Тревер, А. А. Миллер, JI.A. Мацулевич. Собственно о мифологии как основе скифского искусства говорилось и раньше, но она считалась утраченной, а источники, прежде всего касающиеся азиатской части Евразии, не позволяли выйти на достоверный уровень интерпретаций.
С конца 60-х — начала 70-х гг. обсуждение проблем семантики сюжетов скифского искусства и его идейной основы проходило в рамках дискуссий представителей разных направлений и подходов. «Мифологическая» концепция семантики искусства звериного стиля развивалась на фоне становления структурно-семиотического направления, работ Тартусской школы по теории знаковых систем, определенной «реабилитации» направления, связанного с разысканиями в области исторической семантики, дискредитированной лингвистическими постулатами Н. Я. Марра и его последователей, прежде всего И. И. Мещанинова. Стоит отметить конференцию по проблемам скифо-сибирского звериного стиля (Москва, 1972 г.), материалы которой были опубликованы в 1976;м г. (Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии, 1976), хотя работы, специально посвященные семантике, немногочисленны.
Развитие и глубокая разработка «мифологической концепции» семантики скифского искусства связана с исследованиями Д. С. Раевского. Д. С. Раевский значительно расширил возможности изучения скифо-сакской мифологии и искусства, предложив целостную характеристику скифской религиозно-мифологической системы как части мифологии древнеиранской (Раевский, 1977; 1985). Основным источником для реконструкции служили сюжетные изображения на драгоценных культовых сосудах, убедительно расшифрованные Д. С. Раевским как графическое выражение этногонической скифской легенды. При этом Д. С. Раевский показал, что преобладание в скифо-сакском искусстве зооморфных персонажей, звериных образов, связано с автономным антропоморфному коду способом моделирования мира, зооморфные образы которого сформированы в стабильную знаковую систему, «призванную адекватно выражать скифскую модель мира» (Раевский, 1979, с. 74).
Сцена терзания, по Д. С. Раевскому, выражает космологические представления ираноязычных кочевников Евразии о жизни как вечном цикле рождений и смертей, где смерть объектов терзания (копытных травоядных животных) хищниками — необходимое условие для постоянного возрождения мира (Раевский, 1978). В монографии «Модель мира скифской культуры» Д. С. Раевскиий, не разделявший гипотезу центрально-азиатского происхождения скифской культуры, выступил против тенденции априорного, без опоры на надежные лингвистические данные (прежде всего ономастику) отнесения носителей культур «скифского типа» к ираноязычному миру, полагая, что лишь «культура скифов Северного Причерноморья представляет оптимальный материал» для реконструкции представлений о скифской «модели мира» (Раевский, 1985, с. 10, 91). Возможности получения надежных результатов он видел в высоком уровне духовной культуры скифов, в системности мифологического мышления и надежной этнолингвистической идентификации скифских памятников Восточной Европы, что служило основанием для достоверной реконструкции. Д. С. Раевский считал возможным прочтение семантики «изобразительных текстов», переданных с помощью использования «зоологического кода», однако его опыты обращения к иконографическим схемам зооморфного искусства скифской культуры как генетически связанным с предскифской орнаментикой (Раевский, 1985, с. 109−134), не представляется убедительными. При этом целый ряд интерпретаций идейного содержания изобразительных сюжетов и зооморфных образов, связанных с выражением мифологического «текста», служил Д. С. Раевскому источником для реконструкции модели мира скифской культуры (Раевский, 1971, 1972; 1978; 1979; 1985, с. 77−205- 2003).
Значительный вклад в изучение проблематики содержания скифо-сакского искусства звериного стиля внесли исследования Е. Е. Кузьминой. Исследовательница рассматривает скифо-сибирский звериный стиль как знаковую систему бесписьменных народов Евразии, как «воплощение в изобразительном искусстве всего строя их мышления, их мифологии и фольклора» (Кузьмина, 1977, с. 119). Для работ Е. Е. Кузьминой, посвященных анализу семантики скифского искусства, свойственен подход к анализу мышления скифов и других народов восточноиранской группы языков, восходящего к идеологии индоиранцев, переход от случайных иранских аналогий к системному анализу скифской духовной культуры как части мифологии индоиранской. Символизм мышления, синкретизм образов и полисемантизм, дуалистическая концепция мироздания, по мнению Е. Е. Кузьминой, обусловили специфику изобразительного искусства ираноязычных народов I тыс. до н. э.
Методу исследования идейного содержания искусства звериного стиля посвящена специальная работа Е. Е. Кузьминой «О „прочтении текста“ изобразительных памятников искусства евразийских степей скифского времени», в которой очерчены источники и обоснована методика реконструкций семантики сюжетов и образов в контексте индоиранской мифологической системы. Становлению системы образов и формированию звериного стиля кочевников Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири, по мнению Е. Е. Кузьминой, служили древние связи с населением юга Средней Азии, прежде всего Бактрии, которые обусловили особенности сакского искусства звериного стиля Евразии (Кузьмина, 1982, с. 97). Е. Е. Кузьмина предложила и обосновала целый ряд убедительных авторских «прочтений» сюжетов и образов в искусстве скифов и саков. Показательно, что наиболее надежной и достоверной интерпретации поддаются насыщенные образами, обладающие сложной структурой памятники изобразительного искусства (пектораль из Толстой могилы, Чертомлыцкая ваза и т. п.), а также сюжет терзания и борьбы зверей в искусстве скифов и саков (Кузьмина, 1976, 1977, 1977а, 1978, 1979, 1980, 1982 и др.). В 2002 г. серия статей Е. Е. Кузьминой 1970;х — 80-х гг. прошлого века, посвященных семантической интерпретации искусства населения степей Евразии издана в виде отдельной монографии «Мифология и искусство скифов и бактрийцев (культурологические очерки)» (Кузьмина, 2002). Результатом изучения большого корпуса изобразительных источников стала реконструкция ядра мифологических представлений ираноязычного населения евразийских степей.
Следует отметить, что в рамках «мифологической» концепции звериного стиля ее сторонниками (Е.Е. Кузьминой, Д.С. Раевским) в значительной мере иначе, чем теми исследователями, кто придерживался идеи о тотемном характере образов звериного стиля, рассматривается понятие «тотемизм». Связанная с многотомными концептуальными исследованиями К. Леви-Стросса о мифологии, а в особенности с его небольшой по объему книгой «Тотемизм сегодня» (Levi-Strauss, 1962, Леви-Стросс, 1994, с. 37−110), концепция тотемизма как первобытной классификационной системы, на основе которой сложились развитые классификационные концепции древности, в т. ч. «мифопоэтическая» традиция, космологические и социальные модели и т. п., была принята культурологами, этнологами, археологами (см.: Дмитриева, 2000). Животные в таких системах естественной классификации явлений природного и культурного мира «выступают как один из вариантов мифологического кода» — зооморфического (зоологического), отдельные элементы которого «имеют постоянно закрепленное за ними значение» и играют роль своеобразных классификаторов (Топоров, 1982; 1987, с. 440−448).
В отношении прочтений семантики искусства звериного стиля подобное понимание тотемизма обсуждалось в связи с мнением А. Д. Грача о тотемической основе сюжетов терзания и борьбы зверей в искусстве ранних кочевников разных этнокультурных зон Евразии (Грач, 1980, с. 83). В рамках «мифологической концепции» изображения животных рассматриваются как образы, имеющие мифологическое содержание и выражавшие развившуюся на основе первобытной (тотемической) классификации природных и социальных явлений систему миропонимания. Соответственно, мифологическое значение образа-концепта (в определенной части) может быть реконструировано.
Ряд интерпретаций памятников сакского звериного стиля предложен в работах Б. А. Литвинского, Ю. А. Раппопорта, A.M. Беленицкого, А. К. Акишева (Литвинский, 1968; Рапопорт, 1977; Беленицкий, 1978; Акишев,.
1978). Развернутую реконструкцию сакской мифологии осуществил А. К. Акишев, в основном опираясь на материалы «царского» кургана Иссык (неразграбленное погребение «принца») (Акишев, 1984). Основываясь на достижениях иранистики, аккумулированных, в частности, в чрезвычайно информативной и глубокой работе Д. Кэмпбела, посвященной отражению в памятниках изобразительного искусства митраистской идеологии (Campbell, 1968), А. К. Акишев дал системный анализ языка зооморфных образов в структурировании сакской космологии и принципов прокламации основных мифологем сакской «модели мира» в парадном одеянии вождя из кургана Иссык (Акишев, 1984). Прочтение семантики звериных образов, как показал А. К. Акишев — один из путей к реконструкции иссыкской «космограммы» .
Ряд исследований Е. В. Переводчиковой посвящен разработке проблемы «языка звериных образов» скифского искусства (Переводчикова, 1979, 1980, 1994). Исследовательница, разделяя точку зрения о том, что в искусстве звериного стиля «посредством зооморфных образов выражались определенные идеологические представления», показала, что при этом разделению персонажей скифского звериного стиля в качестве маркеров определенных сфер мироздания соответствовали различные изобразительные приемы трактовки разных групп звериных образов (Переводчикова, 1994, с. 13−16). Большое значение имеют опыты Е. В. Переводчиковой, направленные на определение различных изобразительных способов воплощения в искусстве звериного стиля древней классификации животного мира через выделение совокупности признаков изображений.
На наш взгляд, наиболее впечатляющи результаты, полученные в ходе реализации Д. С. Раевским семиотического подхода и применения методов семантической реконструкции в отношении скифской мифологии. Существует и критический взгляд на достижения данного исследовательского направления. В. А. Кореняко принадлежит недавняя весьма экспрессивная попытка деформации существующих постулатов и подходов к проблематике, связанной с искусством скифо-сибирского звериного стиля (Кореняко, 2002, 2002а). Автор в чрезвычайно многословных публикациях подвергает сомнению предложенные трактовки природы этого феномена (дефиницию, определение социальных, эмоциональных, психофизиологических и эстетических основ, а также этимологические прочтения древних этнонимов, заключения о технологии производства артефактов и о семантике конкретных образов и композиций) в рамках авторской «эндогенной» «руколовческой» гипотезы, согласно которой истоки искусства звериного стиля связаны с субкультурой охотников — участников облавных охот, добывавших охотничьи трофеи живьем. Автор, принимая во внимание в числе других «не замеченные» археологами и не введенные в научный оборот изображения, подобные фигуре кабана с зеркала из мог. Жиланды (что напоминает «тонкочувственные» подходы эзотериков), ландшафтное районирование памятников скифской эпохи на территории Ставропольского края, а также поэтические описания охоты в литературных памятниках нового и новейшего времени, как и в нарративных средневековых источниках и т. п. сведения, постулирует однозначную для сюжетов звериного стиля трактовку — воспроизведение пойманных живьем и «связанных» диких животных (Кореняко, 2002а).
Автор полагает, что его «прагматическая» «эндогенная» «военно-охотничья» гипотеза позволяет предложить «конкретную реконструкцию семантики наиболее популярных и простых образов раннекочевнического искусства» во всем спектре составляющих (Кореняко, 2002а, с. 175). Претензии к семантическим реконструкциям Д. С. Раевского оформлены автором как демонстрация якобы неудовлетворительного состояния методов и практики применения «мифологического подхода», по его мнению, не объяснившего «художественное своеобразие скифо-сибирского звериного стиля и стилевое единство древнекочевнического искусства» (Кореняко, 2002а, с. 141). Автор усматривает недостатки исследований, по его мнению, лишь претендующих на статус «структурно-семиотических» (речь идет о работах Д.С. Раевского) в том, что они сосредоточены на изучении содержания образов, а синтактике и прагматике как разделам семиотики в изучении системы образов искусства звериного стиля приверженцы «структурно-семиотического метода» уделяли недостаточно внимания.
На наш взгляд, концепция В. А. Кореняко умозрительна и не обоснована сколько-нибудь серьезным корпусом источников и доказательств (музейные этнографические коллекции XIX—XX вв. не могут служить таковыми). Гипотеза о связи феномена звериного стиля с достаточно узким социальной слоем населения степной Евразии не работает на материалах культур, оставивших представительный массив изображений в зверином стиле на артефактах, имеющих отношение не только к престижной сфере культуры «элиты» общества. В частности, сфера прагматики изображений в зверином стиле пазырыкской культуры значительно шире постулируемых В. А. Кореняко значений, а фиксируемые на материалах пазырыкской культуры принципы сочетания определенных образов с определенными классами артефактов — причем вне зависимости от социальных и половозрастных стратов общества (часть анализа, соответствующая выяснению синтактики искусства звериного стиля как «текста»), только подтверждают результаты семантических реконструкций в рамках «мифологической концепции» и, в частности, заключения Д. С. Раевского об искусстве звериного стиля как феномене культуры, отражающем представления о «картине мира» ираноязычного населения степной Евразии.
Следует отметить также, что претенциозность публикаций В. А. Кореняко и строгость, с которой он проводит экспертизу концепций археологов и искусствоведов (С.И. Руденко, H.JI. Членовой, Д. Г. Савинова, Д. С. Раевского, Н. Ф. Корольковой и других), столь существенно не соответствуют методологии, на которой базируются его собственные «эндогенные» построения, что, по большому счету, всерьез соотнести глубину «противопоставляемой» им авторской гипотезы сформировавшимся подходам и направлениям анализа искусства звериного стиля, не представляется возможным.
Шаманизм. В середине 80-х гг. прошлого века Г. Н. Курочкин в ряде публикаций оформил авторское прочтение семантики элитных погребальных комплексов пазырыкской культуры, содержания изобразительных сюжетов и назначения ритуальных атрибутов, усматривая в археологических памятниках эпохи ранних кочевников на Алтае истоки шаманизма сибирских народов. «Шаманская парадигма», не впервые прилагаемая к произведениям анималистического искусства, происходящим с территории Сибири (Спицын, 1899), требует более подробного критического рассмотрения, так как, во-первых, основным объектом шаманских прочтений стали материалы пазырыкской культуры. Во-вторых, концепция Г. Н. Курочкина представляет собой определенно радикальный вариант обращения к концепции шаманизма, ибо в археологических материалах двух с половиной тысячелетней давности автор выделяет совершенно новую разновидность шаманских верований — «скифо-сибирский шаманизм» (Курочкин, 1992). На этом основании истоки мифо-ритуального (шаманского) комплекса народов Сибири, генетические связи которых с пазырыкской культурой в настоящее время активно дискутируются и изучаются методами гуманитарных и естественных наук, предлагается связывать с пазырыкской культурой. Кроме того, в конце XX — на рубеже XXI вв. ориентация на шаманизм как специфический мировоззренческий и ритуальный комплекс была чрезвычайно популярна в связи с исследованиями первобытного искусства разных эпох на разных континентах.
Реконструируя по археологическим источникам отдельные аспекты мифо-ритуального комплекса населения Евразии скифской эпохи (определение содержания ритуалов, прочтение «текста» изобразительных памятников, выяснение прагматики и символики артефактов, а также семантики погребальных комплексов и определения характера и специфики духовной культуры в целом) археологи часто обращаются к феномену шаманизма.
Введение
понятия «шаманизм» при интерпретации археологически фиксируемых памятников духовной культуры должно по крайней мере предполагать дефинированность понятий в научном и культурно-информационном плане.
De facto феномен шаманизма объемлет мифо-ритуальные традиции древних и современных традиционных (доиндустриальных) обществ, сохранивших традиционные основы культуры в социально-экономической и нормативной сферах. В конце XX в. шаманизм является одной из государственных конфессий в Юго-Восточной Азии, претендует на роль национальной идеологии в северо-азиатских регионах России, является одной из форм эзотерического оккультизма в странах Африки и Латинской Америки, используется в качестве метода коллективной терапии и т. д. В современной науке шаманизм рассматривается и как вневременная универсальная мировоззренческая система — своего рода натурфилософия, и как историческая стадия эволюции мировоззрения, и как особая форма естественной религии — «алтайский шаманизм», «центрально-азиатский шаманизм» (Л.П. Потапов, Т. М. Михайлов, Н. А. Алексеев и др.) (см.: Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции, 1992).
В конце XX в. «концепция шаманизма» стала предметом серьезных дискуссий в связи с «шаманской теорией» происхождения верхнепалеолитического искусства, т. е. генезиса древнейших форм искусства и роли в становлении конкретных форм изобразительного творчества измененных состояний сознания (см.: Первобытное искусство. с. 86−87- Дэвлет, 2004, с. 233−234- Helvenston, Bahn, 2002). Сборник трудов исследователей разных областей культуры — археологов, этнологов, искусствоведов, посвященный этой проблеме, вышел под редакцией Р. Гамаюн и А.-П. Франкфора с характерным названием «Концепция шаманизма: употребление и злоупотребление» (The Concept of chamainism., 2001). Большая часть статей этого сборника посвящена критике произвольного и необоснованного применения понятий и дефиниций, связанных с «концепцией шаманизма» или с этноспецифическими формами верований народов Сибири, Африки или Америки, к археологическим памятникам первобытного изобразительного искусства (The Concept of shamanism., 2001). Следует отметить, что в большинстве откликов теория о «шаманском» трансе и измененных состояниях сознания как источнике первобытных изобразительных знаковых систем, предложенная Ж. Клоттом и Д. Левис-Вильямсом, не получила поддержки среди археологов.
Сравнительно-исторические исследования этноспецифических форм шаманизма народов Северной Евразии демонстрируют их сходство и, возможно, генетическое родство в пределах одного этнокультурного массива при одновременной широкой вариативности акционального и атрибутивного аспектов. Его понимание невозможно без учета реального культурного контекста и исследования личности шамана на персонифицированном уровне. При расширительном толковании феномен шаманизма может быть соотнесен с любой формой архаической ментальности, тем более если ее конкретные формы реконструировать по вещественным (археологическим, в т. ч.. изобразительным) источникам в свете «шаманской парадигмы». Универсальность архетипов архаичных идеологических систем, сохраненных в шаманизме (представления о многослойности мироздания, идея медиациипосредничества шамана и возможности сверхъестественного воздействия на внешний мир), а также распыленность характеристик шаманизма и неисчерпаемость его вариантов приводят к тому, что гипотетически феномен шаманизма может быть приложим к всевозможным археологически фиксируемым следам этих систем, в т. ч. к изобразительному археологическому комплексу.
Древности пазырыкской культуры были неоднократно интерпретированы в свете концепции шаманизма. Основным источником шаманских прочтений пазырыкских реалий был комплекс Пазырыка-II. Ф. Ханчар определил погребенного во Втором Пазырыкском кургане как шамана (Hancar, 1952), с чем был не согласен С. И. Руденко (Руденко, 1960, с. 322−323). Впоследствии С. С. Сорокин (Сорокин, 1978), Ф. Р. Балонов (Балонов, 1987), Г. Н. Курочкин (Курочкин, 1988, 1992, 1993, 1994) обращались к этой идее Ф. Ханчара, расширяя возможное восприятие «шаманистической окраски» пазырыкской культуры в целом. При этом С. С. Сорокин и Ф. Р. Балонов считали возможным видеть в погребенном в Пазырыке-Н шамана «высокого ранга», тесно связанного с миром духов, и, возможно, исполнявшего функции вождя.
Г. Н. Курочкин выдвинул идею о «скифских корнях сибирского шаманизма», возводя к скифской эпохе ряд элементов ритуалистики сибирских народов (Курочкин, 1988;1994). Он определял могильник Пазырык как «корпоративное кладбище верховных жрецов», считая, что на Алтае помещался «сакральный центр скифского мира» (Курочкин, 1993). Основанием для подобной оценки в собственно археологическом комплексе Больших Пазырыкских курганов служил весьма ограниченный круг источников, среди которых наличие музыкальных инструментов, в т. ч. так наз. резонансного «барабана-тамбурина», факты бальзамирования и татуировки погребенных в больших курганах. Методы интерпретации изобразительного комплекса пазырыкской культуры (например, анализ сюжетов на войлочном ковре из Пятого Пазырыкского кургана) (Курочкин, 1988, 1993; Зуев, 1992), приводившие авторов к выявлению шаманской «окраски» пазырыкской культуры, представляются не обоснованными, а выводы излишне ангажированными и заданными априорной установкой на «скифо-сибирский шаманизм» и желанием представить Пазырыкский могильник как корпоративное кладбище жреческой аристократии (Курочкин, 1993, с. 94). С отражением шаманских представлений о строении мироздания Г. Н. Курочкин связывал не только материалы больших Пазырыкских, но и назначение ритуальной атрибутики рядовых пазырыкских курганов, сравнивая изобразительный ряд пазырыкских головных уборов со структурой шаманской картины мира, атрибутами шаманских обрядов и т. п. (Курочкин, 1988, 1992, 1994).
JI.C. Марсадолов предложил расшифровку календарной семантики Бухтарминского зеркала с изображениями копытных животных (коллекция.
Фролова), прочитывая в контексте сложного «календарного» содержания разметки этого зеркала семантику образов оленя и козла, изображения которых, по мнению автора, отмечают точки восхода и захода солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния (Марсадолов, 1982; 1996, с. 59, 89, рис. 2). «Линии» и «направления», которые исследователь определял на зеркале, он считал возможным соотносить с географической ориентацией долин, в которых расположены курганы Аржан в Туве, Башадар на Алтае и долина вдоль реки Улаган, в боковом урочище которой находятся Пазырыкские курганы, а также господствующее направление ветров в Туве и на Алтаеопределенную географическую направленность по линии Северо-ВостокЮго-Запад автор рассматривал как «основной фактор этногенеза племен Алтая» (Марсадолов, 1996, с. 59−60). JI.C. Марсадолов, также считая вождя из Пазырыка-П жрецом и шаманом, изображения фантастических зверей его татуировки допускал возможным определять как образы увиденных в состоянии транса зверей «астрального мира», таким образом «материализованных» и проникших в мир людей (Марсадолов, 2003, с. 375).
С точки зрения новых данных о пазырыкской культуре, полученных в ходе исследований на плато Укок Н. В. Полосьмак и В. И. Молодиным с • начала 90-х годов прошлого века, такой феномен пазырыкской культуры как татуировка на телах погребенных, теряет свою «шаманскую» уникальность. Обычай нанесения татуировки засвидетельствован не только для «вождя-шамана» Пазырыка-П, но и для знатной женщины (могильник Ак-Алаха-Ш, к. 1) (Полосьмак, 1994, с. 29−34- Полосьмак, 1995), а также для рядового воина (могильник Верх-Кальджин-И, к. 3) (Молодин, 2000). При этом близость сюжетов и иконографии татуировок Второго Пазырыкского и Ак-Алахинского курганов справедливо трактуется Н. В. Полосьмак как воспроизведение единого текста (Полосьмак, 1995, с. 84−85). Известно, что татуирован был также альпийский «снежный человек» (Der Man im Eis, 1992, s. 210−211, fig. 1−3) — многие из мумий Синцзяна сохранили татуированные изображения (Mallory, Mair, 2000, p. 22, ill. VII-VIII), известно также красочное изображение «солнечного символа» на левом виске у одной из мумий (Mair, 1995, р. 34). Недавно открытые татуировки на мумифицированных телах из Пызырыка, неизвестные в XX в. (Баркова, Панкова, 2005), в рамках концепции Г. Н. Курочкина можно было бы связать с «шаманской корпоративностью» пазырыкского могильника, хотя и здесь обнаружены сложные сюжетные изображения на теле женщины из Пазырыка-V, которую традиционно считали «наложницей» вождя, а не шаманкой.
Другим аргументом в пользу «шаманистической окраски» пазырыкской культуры было наличие в Пазырыке музыкальных инструментов — роговых «барабанов» (см.: Руденко, 1953, с. 324−325). После исследований В. Д. Кубарева на Юстыде (Кубарев, 1991, с. 68), Н. В. Полосьмак в Ак-Алахе-I, к. 1 (Полосьмак, 1994, с. 25, с. 28, рис. 18) и Ак-Алахе-Ш к. 1 (Polos'mak, 1994, р. 97) и В. И. Молодина в Верх-Кальджине-Н, к. 1 и в Верх-Кальджине-Н, к. 3 (Молодин, 2000, с. 95, рис. 102, с. 113, рис. 142) стало очевидно, что «барабаны-бубны», аналогом которых Г. Н. Курочкин считал «корейский шаманский барабан чанго», а О. Г. Олейник даже предполагала «использование рогового барабанчика как атрибута культовых церемоний, а не колдовских шаманских действ» (Олейник, 1995, с. 89), являются роговыми сосудами бокаловидной формы. Найденные на У коке in situ в отсеке для утвари в одном ряду с керамическими и деревянными сосудами (Феномен., с. 71, рис. 62, с. 95, рис. 102, с. 113, рис. 142, с. 146, рис. 175, 4), со всей очевидностью эти изделия не являются музыкальными инструментами и вряд ли могут иметь какое-либо отношение к реконструируемому «пазырыкскому шаманизму» .
Таким образом, «шаманистическая окраска» пазырыкской культуры, на наш взгляд, есть лишь результат авторских интерпретаций, следствие спорной или ошибочной атрибуции артефактов (так наз. «барабаны» как атрибуты шаманского культа), а также произвольного прочтения содержания ритуалов (трактовка пазырыкской мумификации в свете этнографических сибирских материалов как посмертное (?! — Д.Ч.) «посвящение в шаманы») и изобразительных сюжетов (постулируемое «шаманское» содержание изображений на войлочных коврах Пазырыка-V). Развитием этих авторских интерпретаций стали «метареконструкции» по определению мест «сакральных центров» Евразии в эпоху ранних кочевников, по восстановлению истории перемещений этих центров, а также опыты ранжирования археологических культур по степени их «идеологической нагрузки» и т. п., что вызывает серьезные возражения.
Более продуктивным представляется не поиск соответствий между «уникальными», экстраординарными по полноте и сохранности или просто «необычными» археологическими материалами и отдельными аспектами шаманизма народов Сибири, а анализ мифо-ритуального комплекса ранних кочевников Евразии в контексте индоиранской мифологической традиции. Зафиксированные для скифов и других ираноязычных народов черты культуры, которые некоторые исследователи сравнивали с шаманскими, видимо, восходят к тем элементам мифо-ритуальной практики индоиранцев, которые, по мнению ряда исследователей (Г.М. Бонгард-Левина и Э. А. Грантовского, А. Клосса, Г. Нюберга, Ф. Фюссмана, Ж. Келленса, Ф. Жинью и др.) типологически сходны с «шаманским комплексом» .
Однако чаще археологи предпочитают либо видеть изображения шаманов в маскированных или зооантропоморфных персонажах наскального искусства Центральной Азии и Южной Сибири (Боковенко, 1996), либо определять шаманский характер «религиозной» системы древних исходя из характера погребальных ритуалов носителей определенных археологических культур (Кузьмин, 1992). Обратившись к изобразительным сюжетам пазырыкской деревянной пластики, Н. А. Боковенко даже определил наличие «северного варианта буддизма», бывшего, по его мнению, наряду с зороастризмом и шаманизмом составной частью «саяно-алтайской» религиозной системы номадов Центральной Азии (Боковенко, 1996, с. 41). В. Д. Кубарев также был склонен трактовать некоторые мотивы в декоративно-прикладном искусстве ранних кочевников Алтая как «многочисленные символы буддизма» или еще более интересные «протобуддийские символы» (Кубарев, 1985). На мой взгляд, нет оснований для определения в пазырыкском изобразительном комплексе наличия элементов буддизма, зороастризма и других религий древности.
Эзотерика. Новое направление в интерпретации археологических памятников, возможно, имеющих отношение к античной традиции об аримаспах и грифах, в том числе изобразительных источников археологических культур Южной Сибири эпохи бронзы и раннего железа, связано с работами Д. А. Мачинского. По его мнению, с античной традицией представлять аримаспов одноглазыми можно соотнести «трехглазые» (определение Д.А. Мачинского) каменные изваяния окуневской культуры Минусинской котловины, где располагался древний «сакральный центр», который был «важнейшим фактом предыстории религиозной жизни Скифии» (Мачинский, 1996, с. 3- 1989, 1995; 1997). Возникновение этого центра связано с афанасьевской культурой, а в эпоху раннего железа он в силу каких-то причин, согласно концепции А. Д. Мачинского, «переместился» на Алтай.
Наиболее подробно концепция А. Д. Мачинского изложена в работе «Уникальный сакральный центр III — середины I тыс. до н.э. в Хакасско-Минусинской котловине», хотя сам автор называет ее только «системой ассоциаций» (Мачинский, 1997). Ассоциациями соединяются данные античной традиции о «восточных областях Скифии» и авторский анализ изобразительного комплекса окуневской культуры. Изучив по публикациям археологов-сибириеведов «развитие окуневской изобразительной традиции» и ее содержание, А. Д. Мачинский считает возможным сопоставить античные сведения об аримаспах и гипербореях с особенностями каменных изваяний Хакасско-Минусинской котловины (Мачинский, 1997, с. 270−273, 275−277). Под содержанием понимается воспроизведение на окуневский стелах эзотерического знания о «многослойном энергетическом поле человека», которое отражено также в индо-тибетской эзотерической традиции.
Единственный глаз на челе аримаспов", населявших в эпоху Аристея «северо-восточную треть Казахстана», но пришедших туда с востока (Мачинский, 1996, с. 4) — не что иное как «чакра аджна», орган экстрасенсорного зрения, воспроизведенный на минусинских изваяниях. Таким образом, по А. Д. Мачинскому, античные авторы, описав аримаспов одноглазыми, зафиксировали традиции эзотерических знаний обитателей уникального южносибирского сакрального центра эпохи бронзы, «переместившегося» в скифскую эпоху с берегов Енисея на просторы Алтая.
На наш взгляд, данные выводы сделаны на основе интуитивного, эзотерического подхода к трактовке археологических артефактов и письменных источников путем проецирования в диахронию достижений современной теософии и мистицизма. Идеи северного буддизма — ваджраяны некритически соотносятся с ведийскими, что задается древностью археологических (афанасьевско-окуневских) реалий. Показательно, что обоснованию этих аллюзий Д. А. Мачинскому служат не капитальные труды индологов — Т. Я. Елизаренковой, Я. Гонды или JI. Рену, а работы современных мистиков и теософов. При этом, в принципе, сам метод откровений и интуитивных ассоциаций не верифицируется, а аксиоматическое знание не подвергается сомнению путем рациональных суждений. Например, выделение «сакрализованного слоя общества аримаспов» — «одноглазых ясновидящих» (Мачинский, 1996, с. 5) представляется авторской интерпретацией, основанной исключительно на экстрасенсорном прочтении источников.
Между тем подобные ассоциации лежат в основе соединения многочисленных фактов культурной истории Евразии от Средиземноморья до Южной Сибири в диапазоне от III до I тыс. до н. э., хотя вопрос о природе эзотерического эксгибиционизма окуневцев не поднимается. Блуждающая между Енисеем и Алтаем география мест «интенсивной сакрализации» определяется и по картографированию археологических реалий, и по элементам древнеиранской картины мира, произвольно апплицированной к Южной Сибири. Любопытно, что основываясь на других данных (изучение генезиса шаманизма по археологическим материалам, не вдаваясь в детали методики подобного исследования), Н. Ю. Кузьмин уже заставил пропутешествовать евразийский «сакральный центр», но только в обратном направлении, т. е. с Алтая на Енисей (Кузьмин, 1992, с. 128−129). Таким образом, характер источников, глубина и тонкость ассоциаций позволяют авторам с одинаковым основанием «перемещать» сакральные центры Евразии как с запада на восток, так и с востока на запад, а также определять своеобразный синтетический характер духовной культуры населения Саяно-Алтая: «симбиоз индоевропейских и шаманистских представлений особенно ярко проявляется в пазырыкских курганах Алтая» (Кузьмин, 1992, с. 128).
А.Д. Мачинский отмечает, что афанасьевцы, побывав на плато Укок, не могли не заметить вершин горных массивов Алтая (Мачинский, 1996, с. 811), и «сакральный центр, судя по всему, перемещается с VI в до н.э. в Горный Алтай», где в материалах погребений, относящихся к «корпорации» «верховных жрецов-шаманов» (по Г. Н. Курочкину) «прослеживается развитие многих тем. афанасьевско-окуневской религиозной традиции» (Мачинский, 1997, с. 280). В частности, в пазырыкских налобниках «особо богато украшенных коней» Д. А. Мачинский видит не только солярные знаки, но и «знаки третьего глаза» (Мачинский, 1997, с. 280). Конская «чакра аджна» ассоциация смелая даже для Кундалини-йоги, но в рамках аксиоматического знания, основанного на экстрасенсорных способностях, возможно, вполне существенная. Однако как археологический факт, круглая форма налобной конской бляхи представляется совершенно недостаточным аргументом в пользу определения следов «переживания афанасьевско-окуневских религиозных тем» у пазырыкцев, нет оснований видеть в ней и знак глаза.
Постулируемое «шаманистическое» содержание пазырыкской культуры, выделение «центров сакральности» в Евразии, восстановление истории перемещений этих центров, введение «эзотерических» прочтений археологических реалий в исторические реконструкции «ранней истории религиозной жизни Скифии» (Мачинский, 1995, с. 57−60- 1996, с. 3- 1997) и интерпретации на основе этих ассоциаций сюжетов изобразительного искусства, на наш взгляд, не дают основания для территориального определения «земли аримаспов» и вызывают возражения (Черемисин, Запорожченко, 1996).
При этом обращение к «предыстории» самого сюжета о борьбе аримаспов и грифов, или, в терминах эзотерики, к его «прошлой жизни», представляет несомненный интерес, прежде всего, на наш взгляд, с точки зрения отражения в нем мифологических представлений его создателей. Разделяя мнение Г. М. Бонгард-Левина и Э. А. Грантовского о том, что легенда об аримаспах и грифах восходит к общеарийским представлениям о загробном мире, прямую параллель «скифскому мифу» мы предлагаем видеть в античном сюжете о борьбе пигмеев с журавлями (Гомер, Илиада, III, 5−7). На основании сравнительного анализа многочисленных вариантов подобного сюжета о борьбе фантастических персонажей, великанов или карликов, с птицами (данные иранской и индийской мифологической традиции), можно сделать вывод о том, что в основе всех версий лежит индоевропейская мифологема.
Она реконструируется в виде следующей схемы: на границе миров, в порубежном локусе обитают тератологические существа — стражи входа в потусторонний мир — одноглазые великаны, безносые карлики, пигмеи, змеи и другие чудовища. В «иной мир» могут проникать лишь фантастические птицы, вступающие в жестокие схватки с его охранниками и доставляющие «туда» души умерших, а «оттуда» — новую жизнь (напиток бессмертия, в поздних версиях — золото).
Свидетельством архаичности исходной мифологемы могут являться, с одной стороны, сходные мотивы в мифологии дардов и кафиров Гиндукуша, а с другой — данные скандинавской мифологии (сюжет о похищении меда поэзии Одином, по Ж. Дюмезилю — общеиндоевропейский, или миф о похищении золотых яблок орлиноподобным великаном Тьяцци, причем в отместку Один лишает Тьяцци зрения). И «скифская», и античная версии сохраняют исходный текст в инвертированном виде — грифоны превратились в охранников золота, а аримаспы стали его похитителями. Античная традиция сохраняет несколько версий изначального мифа, контаминировавших между собой и ставших благодаря Аристею и Геродоту общим местом позднейших историко-географических сочинений. Актуализации варианта грифономахии греки, видимо, обязаны скифам. Материалами археологических памятников Евразии (Пятый Пазырыкский курган, саркофаги из Вульчи) подтверждается идея М. И. Ростовцева о возможной связи данного сюжета, в частности, изображений сцен гераномахии в росписях «склепа пигмеев» в Керчи, с погребальным культом (Запорожченко, Черемисин, 1997, с. 83−90).
Таким образом, представляется, что мистико-интуитивный метод постижения евразийских культурных реалий дает возможность на уровне ассоциаций сопрягать экстрасенсорно воспринимаемое сегодня с фрагментами свидетельств иначе воспринявших эти реалии античных авторов. В блестящем приложении Д. А. Мачинского данный метод позволяет в известном смысле создавать новый гиперборейский миф о сакральных центрах в Сибири — на Енисее и на Алтае. На наш взгляд, очевидно, что достоверность результатов подобных метареконструкций определена методологией их построения.
Грифон — главный персонаж эпической традиции о Скифии, сохраненной античными авторами. Образ грифона — центральная фигура, воплощающая мифологический персонаж, чей образ в искусстве культур скифского круга Сибири собственно и позволяет исследователям проецировать античную традицию об аримаспах и стерегущих золото грифах на археологические материалы Южной Сибири (Алтай и Минусинскую котловину). Особо актуальной для Алтая является тема «Пазырыкский грифон и современность» (Марсадолов, 1996). Преобладание образа грифона в искусстве пазырыкской культуры стало основанием для тенденции сопрягать сведения Геродота о «стерегущих золото грифах» (восходящие к Аристею Проконесскому), с носителями пазырыкской культуры.
Образ фантастической птицы на гербе Республики Алтай, нового государственного образования, официально определен как «грифон — Кан-Кереде», в определении совмещены восходящий к античности образ грифона и персонаж алтайского эпоса, в персонаже на государственном гербе совершенно отчетливо явлены черты пазырыкской иконографии образа. JI.C. Марсадолов, базируясь на эзотерических (астрологических) понятиях и дефинициях, считает возможным определять образ грифона как персонажа «темного подземного мертвого астрального мира» (Марсадолов, 2003, с. 372). По мнению JI.C. Марсадолова, именно этот «астральный зверь» погубил династию Пазырыкских вождей, а связанный с образом грифона символ на гербе Республики Алтай пагубно влияет на социальное развитие края (Марсадолов, 1996, 2003).
Античной традиции об аримаспах, восходящей к Аристею Проконесскому и ставшей общим местом историко-географических сочинений, посвящена необъятная литература. Существование в античном и «греко-скифском» искусстве сюжета противоборства человека и фантастического грифона вызывает обращение к этой теме археологов. Все изобразительные памятники с данным сюжетом (килик из Вульчи, Келермесское зеркало, калаф из Большой Близницы и др.) подчеркивают его «скифский» характер (одежда, головные уборы, оружие варваров), что позволяет видеть в нем отражение скифской легенды, сохраненной античными авторами. По Д. Болтону, сюжет восходит к скифскому эпосу (легендам исседонов), с которыми греков познакомил Аристей (Bolton, 1962).
В исторических интерпретациях традиционно принимается во внимание связка Рипейские горы — стерегущие золото грифы и борющиеся с ними за золото одноглазые аримаспы. С аримаспами гипотетически отождествляются носители различных археологических культур эпохи бронзы и скифского времени, однако этногеографические определения исследователей противоречивы и недостоверны (с традицией о Рипейских горах на краю земли соотносили практически все значительные горные системы Евразиихарактеристика аримаспов как конных воинов, вызвавших подвижку номадов «из глубин Азии», применима к широкой кочевнической среде и т. д.).
Совершенно оригинальная концепция семантики сюжета терзания в скифо-сибирском искусстве на примере центрально-азиатских материалов была недавно предложена В. Е. Ларичевым. Исследователь продемонстрировал опыт применения принципиально новой методики раскрытия семантики искусства звериного стиля (Ларичев, 2000; 2001). В двух статьях, посвященных анализу сюжета терзания и борьбы животных на каменных плитках из Тувы, В. Е. Ларичев отметает традиционные подходы к прочтению содержания данного сюжета скифо-сибирского искусства, снисходительно определяя их как «гипотезы», «не подтвержденные доказательствами мнения» (Ларичев, 2000, с. 70). Альтернативу автор видит в разрабатываемом им методе прочтения семантики древних артефактов в плане выявления заключенных в них календарно-астрономических знаковых записей и астрально-космической мифологии, что смыкается с другими эзотерическими подходами, в основе которых лежит принцип ассоциаций или используются понятия астрологии.
При этом всегда нацеленный на точность, проверяемость и естественнонаучный характер подобных реконструкций, в случае с артефактами скифского времени из Тувы В. Е. Ларичев изменил этим принципиальным методическим установкам. Исследователь указывает, что «иллюстративные материалы представил геолог из Кызыла В. И. Кудрявцев», и его воспроизведение анализируемых артефактов (двух каменных плиток с гравировками из Тувы) отличается от рисунков, опубликованных в монографии, посвященной петроглифам Енисея (Sher, Blednova, Legchilo, Smirnov, 1994, p. XIX, fig. 20), где они приведены с масштабом. В работе В. Е. Ларичева, посвященной скифо-сибирскому искусству, анализируемые рисунки не являются документальными, количество «знаков», воспроизведенных на рисунках геолога Кудрявцева не соответствует тому, что можно увидеть непосредственно на артефактах. В результате выводы о возможностях производить по изображениям на каменных плитках сложные вычисления при «выравнивании счета времени» «в беспределах мироздания» по сути относятся только к современным прорисовкам, а не к оригинальным артефактам.
С определениями В. Е. Ларичева (изображенные на каменных пластинах животные понимаются как «лев» и «семейство кабанов фантастического обличья» — «с рыбьими головами») что, по мнению исследователя, является намеком на их «внеземную сущность» (Ларичев, 2001, с. 129−130) невозможно согласиться. Описания автора неадекватны природе искусства звериного стиля — оно не натуралистично, поэтому ни глаз, выпученных от страха или ярости, ни беспечности «несмышленышановорожденного детеныша» в скифо-сибирском искусстве никогда не воспроизводилось. Поэтому описание В. Е. Ларичевым сцены на одной из пластин в духе зоологического натурализма «как банальной обыденности сюжет из жизни звериного царства» представляется ошибочным, неприемлемым для передачи плана выражения искусства звериного стиля.
Между тем подобное восприятие внешнего плана изображений служит отправной точкой для применения авторских интерпретационных методик на пути постижения внутреннего содержания образов. Определив некий «знак», «высоко значимый в астрально-космической символике», на изображениях из Тувы, автор понимает изображения глаз животных как «наглядную и четко отражающую астрономическую реальность картину суток единения главных.
РОССИЙСКАЯ ГОСУДДРСТ1№ 1Ш БИБЛИОТЕК* светил Мироздания — Солнца и Луны", а в некоторых изогнутых («серповидных») линиях — лунные символы. Методическая несостоятельность данных исходных установок, на мой взгляд, очевидна. Затем предлагается подсчет «знаков» на каменной пластине, призванный подтвердить календарно-астрономическое значение изображений. При подобном подсчете знаков на первом камне с изображениями хищника и лошади 10 «знаков» были «реконструированы» автором (т.е. просто-напросто нарисованы) (Ларичев, 2000, с. 71). Во всяком случае, ни слова не сказано о методе подобной «реконструкции» знаков, на основании последующих вычислений которых затем выводится астральный характер изображенных персонажей. Подобный метод первоначальной «реконструкции» определенного числа знаков, как представляется, задает результат всех последующих счислений, и если в этом видятся новые подходы к семантике произведений искусства, то (кроме разве что эзотерического подхода) они не удовлетворяют требованиям научного анализа.
Представляется, что опыты эзотерических ассоциаций и оригинальные методы вычисления календарных и астральных знаковых записей, предложенные в качестве новых методов прочтения семантики памятников скифо-сибирского искусства, как и «шаманская парадигма», не дали на сегодняшний день достоверных результатов, не привели к пересмотру контекста и смене научных концепций, в рамках которых традиционно рассматривается проблематика идейного содержания искусства звериного стиля.
Имитация. Следует дать оценку еще одной новейшей тенденции в исследовании мировоззрения населения Евразии скифской эпохи, тем более что речь идет о духовной культуре носителей пазырыкской культуры. П. Д. Дашковский в ряде публикаций тезисного характера и кандидатской диссертации предложил реконструкцию социальной структуры и «системы мировоззрений населения Алтая пазырыкского времени» (Дашковский, 2002). Под пазырыкским временем понимаются материалы пазырыкской культуры, источниками сведений о «мировоззрениях» и об особенностях «ментального развития пазырыкцев» (Дашковский, 2002, с. 4) служат археологические источники, антропологические определения и результаты палеогенетических анализов, статьи и монографии исследователей-археологов, труды специалистов в области разных научных дисциплин -" литература по теоретическим аспектам изучения социальной и духовной сферы общества" - материалы религиоведения, исторической науки, лингвистики, психологии, этнографии, а также «религиозно-философские источники» (Дашковский, 2002, с. 4−5). В результате авторского приложения к этому корпусу источников «системно-структурного подхода» (на мой взгляд, некоторые опыты его применения и авторские оценки полученных результатов (см., например, Дашковский, 2001) определенно дискредитируют такой подход), по мнению автора, реконструированы несколько мировоззренческих комплексов — по крайней мере два, поскольку речь идет именно о «мировоззрениях» пазырыкцев.
Впоследствии П. Д. Дашковский в соавторстве с А. А. Тишкиным предпринял «структурно-аналитическое» изучение объектов пазырыкской культуры (Тишкин, Дашковский, 2003, с. 244), материалов погребально-поминальной обрядности пазырыкцев и в итоге определил их религиозно-мифологическую систему как синтез «маздаизма» в его митраистском варианте, шаманизма как «более ранней формы религии», элементов индоиранской религиозной традиции и индоевропейских верований (Тишкин, Дашковский, 2003, с. 277−279). Кроме того, авторами зафиксирована «трансляция архетипов» в обрядах и искусстве пазырыкцев и другие «тенденции в мировоззренческом и ментальном развитии номадов Центральной Азии» (там же, с. 280−284). Речь, судя по названию, в данной работе также идет о нескольких «мировоззрениях» населения Алтая скифской эпохи.
На мой взгляд, данные результаты не связаны с действительной реконструкцией мифоритуального комплекса пазырыкцев на основе материалов археологии, а представляют следствие аппликации методов наук, традиционно применяемых к корпусу источников, отличных от источников археологических. В результате применения методов аналитической психологии (в частности, психологии личности, что вряд ли допустимо в отношении психологии членов родового или потестарного общества) к погребальным археологическим комплексам, в последних можно определить любые (какие угодно) архетипы. В пазырыкских погребениях «и в искусстве» пазырыкцев авторам удалось обнаружить архетипы в том понимании, как их трактует медицина и психоанализ, а не культурология (у пазырыкцев, согласно реконструкциям исследователей, это «архетип Героя», «архетип Самости», «архетип Мирового дерева» и многие другие архетипы) (Тишкин, Дашковский, 2003, с. 284). Какими методами удалась эта фиксация и каким образом проявлены многочисленные «архетипы» в искусстве — в публикациях не уточняется, но авторы утверждают, что им удалось зафиксировать «трансляцию» архетипов. В подобном ключе воспринимаются обнаруженные авторами у пазырыкцев «комплексы» — «комплекс коня» и «комплекс Вселенной» (Дашковский, 2002, с. 21- Тишкин, Дашковский, 2003, с. 279). Обращение к сравнительному религиоведению и истории религии позволяет авторам определить не только наличие зороастризма в «религии» пазырыкцев, но даже опознать у них «классический маздаизм» или «вариант западноиранских верований», а также шаманизм и т. п. (Дашковский, 2002, с. 19−21- Тишкин, Дашковский, 2003, с. 277, 283).
Данные результаты и способы их получения мне представляются не обоснованными. При подобном подходе вряд ли возможно выделить собственно пазырыкское «мировоззрение», ту специфику, которая отличает идеологию носителей пазырыкской культуры. Представляется, что определение и исследование реального культурного контекста тех или иных комплексов артефактов служит основанием для достоверных исторических реконструкций, создает базу, на основе которой реконструируется сфера представлений пазырыкцев или их мировоззрение, а не различные мировоззрения", если только не понимать как несколько мировоззрений пазырыкские «менталитет» и «ментальность» (Тишкин, Дашковский, 2003, с. 120−126). Авторы в многочисленных публикациях, содержание которых в значительной мере дублирует друг друга, очень высоко оценивают личный вклад в дело реконструкции «мировоззрений» носителей пазырыкской культуры (на мой взгляд — безосновательно), связывая особые возможности постижения мира идей древних номадов с методами психологии, и даже предлагая опыты «психоархеологии». Между тем не учитываются требования методологической строгости при обращении к теории архетипов (см.: Раевский, 1998, 1999). Подобные «реконструкции», выполненные на основе «литературы по теоретическим аспектам изучения социальной и духовной сферы общества», на мой взгляд, таковыми не являются, скорее их можно определить как имитацию действительной реконструкции, украшенную множеством сносок на труды М. Вебера, JL Февра, Ж. Дерриды, М. Элиаде, К. Юнга и его последователей, и т. п.
Показательно, что при таком подходе, развивая собственный «системно-структурный подход», в реконструкциях мировоззренческих и мифологических представлений пазырыкцев, осуществленных Н. В. Полосьмак и основанных не на цитатах, а на междисциплинарном синтезе в исследовании источников (Полосьмак, 1997, 2001 и др.), авторы смогли определить лишь методологическую основу ее работ и усмотреть основания для «конструктивной критики», но при этом совершенно не заинтересовались результатами, хотя исследовательница, по их снисходительным оценкам, успешно реконструировала «определенные верования и обряды ранних кочевников Алтая» (Тишкин, Дашковский, 2003, с. 89−91).
Образцом археологических и исторических реконструкций, выполненных на основании комплекса археологических источников пазырыкской культуры, являются разработки М. П. Грязнова и С. И. Руденко, во многом по-разному видевших исторические реалии, отраженные в археологическом комплексе пазырыкской культуры. Новый этап в углублении представлений о пазырыкской культуре связан с работами В. Д. Кубарева, Д. Г. Савинова, А. С. Суразакова и других археологов, раскопками которых открыты массовые рядовые пазырыкские памятники. В конце XX в. новый корпус чрезвычайно информативных источников был получен и осмыслен в результате открытий непотревоженных комплексов Укока (раскопки Н. В. Полосьмак и В.И. Молодина).
Интерпретация пазырыкских изображений. Первые суждения о значении изображений животных «на костяных или деревянных пластинках» из раскопок на Алтае высказал В. В. Радлов, сравнивший «всевозможные резные деревянные изображения» из раскопанного им Катандинского кургана с произведениями звериного стиля, хранящимися в Эрмитаже (Радлов, 1989, с. 467−476). В. В. Радлов отметил существование в произведениях искусства из погребений «древнейшего железного века» на Алтае образов «фантастических чудовищ», которые он определял как I изображения мифических животных, и, возможно, копии идолов". В отношении катандинских деревянных скульптурных фигурок В. В. Радлов высказал мнение о том, что они «были не украшениями, а предметами, явно имевшими религиозное значение» (Радлов, 1989, с. 467−468).
Следующий шаг в интерпретации сюжетов и образов искусства пазырыкской культуры был сделан в связи с раскопками Первого Пазырыкского кургана, материалы которого служили М. П. Грязнову источником для широких исторических реконструкций (Грязнов, 1937, 1940, 1950). Одна из находок — маска с рогами оленя, надетая на коня № 10 из Пазырыка-I, стала источником интерпретаций, выходящих за сферу собственно семантики образа фантастического коня, «превращенного» в оленя. На основе идей о происхождении образа лошади, «замаскированной» оленем, были выдвинуты гипотезы относительно особенностей хозяйственно-культурного и исторического развития населения Алтая (см. ниже).
В подготовленной к печати, но не опубликованной из-за войны работе «Пазырык. Погребение племенного вождя на Алтае» М. П. Грязнов наиболее полно осветил свои взгляды о пазырыкском искусстве, согласно которым «основная масса изображений. в Пазырыке. представляют собой изображения религиозного содержания и позволяют установить особенности мировоззрения и религиозных представлений ранних кочевников Алтая» (Грязнов, 1940, с. 365). М. П. Грязнов считал, что такие представления создавались, возможно, задолго до эпохи ранних кочевников и в дальнейшем своем развитии послужили основой для сложения мировоззрения современных народов Алтая. М. П. Грязнов установил, что только в одном захоронении Пазырыка-I представлены образцы 11 разных зверей и фантастических чудовищ в 45-ти вариантах на 206-ти бляхах, аппликациях и бронзовых изделиях размерами от 5 см до 1 метра и более (Грязнов, 1940, с. 72). М. П. Грязнов отметил, что все изображенные животные являются представителями местной фауны, что и «мифические чудовища, и. реальные звери изображены на одних и тех же предметах, в одних и тех же местах, теми же изобразительными приемами, часто вместе в одной композиции. Очевидно, что и чудовища, и реального вида звери являются одной категорией образов. Все это зооморфные мифические образы, вероятно, тех мифических существ, которые в представлениях ранних кочевников обладали особыми чудодейственными свойствами и управляли событиями в окружающем человека мире» (Грязнов, 1940, С. 80). «Памятники изобразительного искусства,. знакомящие нас с кругом идей и представлений пазырыкского общества, запечатленных в художественных образах, представляют собой наибольшую ценность для изучения именно этих вопросов», а образы животных являют «материальное воплощение каких-то сверхъестественных сил, находящихся в борьбе друг с другом», считал автор раскопок Первого Пазырыкского кургана (Грязнов, 1940, С. 356).
Изучение артефактов из Пазырыка-I привело М. П. Грязнова к выводам о том, что они, по большей части, изготовлены специально для погребения. В более краткой форме результаты исследований М. П. Грязнова представлены в монографии «Первый пазырыкский курган» (Грязнов, 1950). По мнению М. П. Грязнова, изобразительное искусство Пазырыка-I позволяет предположить, что у ранних кочевников Алтая существовали «представления о делении мира на три части — землю, небо и подземный мир», обитателями каждого из них были «различающиеся по степени могущества» персонажи. «Мифический орел и крылатый тигр» могли быть обитателями неба, рыбоподобное чудовище — подземного мира, остальные образы отражали облик обитателей земли, среднего мира (Грязнов, 1950, с. 82).
С.И. Руденко, исследовавший Большие Пазырыкские курганы и курганы Центрального Алтая, глубоко разработал проблематику, связанную с искусством населения Алтая скифской эпохи, установив его связи с искусством Передней Азии. В отношении идейного содержания изобразительного искусства С. И. Руденко исходил из того, что «мировоззрение скифов нам неизвестно» (Руденко С.И., Руденко Н. М., 1949, с. 77). «Художественное творчество скифов, и алтайских в частности, прежде всего — искусство, и конечно, не репрезентативное, а декоративное» (Там же, с. 79). С. И. Руденко отвергал тотемическую и шаманскую трактовку содержания пазырыкского искусства (Руденко, 1953, с. 336−337- 1960, с. 322), мифологию «горноалтайских скифов» считал утраченной, на основании детального технологического, стилистического и искусствоведческого анализа пришел к выводам о связях пазырыкского изобразительного комплекса с искусством скифов Северного Причерноморья и особенно с искусством цивилизаций Передней Азии (Руденко, 1953, 1960, 1961). В отношении сцен борьбы животных в памятниках Алтая, он допускал «некоторое их дуалистическое значение», связанное с таковым в религиях Древнего Востока, но в силу того, что в скифскую эпоху их значение в значительной степени было переосмыслено, полагал, что мотивы борьбы используются не как символы, а как украшения, в частности, конской упряжи" (Руденко, 1953, с. 338).
С.В. Киселев писал об изживании идеологии тотемизма в эпоху разложения родового строя, что приводило к трансформации и созданию полиморфных образов в изобразительном искусстве и отражено в материалах пазырыкской культуры (Киселев, 1949, с. 192). М. П. Артамонов, считая население «восточной части степей Евразии» ираноязычным, родственным сакам, полагал, что идеи дуализма, свойственные иранскому религиозному мировоззрению и питавшие образность искусства Древнего Востока, были переработаны в местной среде, где еще жили традиции тотемизма (Артамонов, 1973, с. 12−13, с. 235). В результате в искусстве появлялись фантастические персонажи, в которых образы переднеазиатского искусства заменялись на представителей местной фауны, а также совершенно оригинальный образ «алтайского сфинкса» с оленьими рогами. Изображения животных, по М. А. Артамонову, служили амулетами-апотропеями и воплощениями космических сил. К семантике отдельных образов пазырыкского искусства эти исследователи не обращались.
С.С. Сорокин посвятил статью изучению мировоззрения ранних кочевников Алтая, обратившись к назначению пазырыкских артефактов и иконографии ряда зооморфных образов. Очень интересны версии автора и его подход к выяснению причин, обусловивших характер изображений реальных и фантастических животных на седельных подвесках, на теле вождя из Пазырыка-Il и на гвоздях крышки колоды из Большого Берельского кургана (Сорокин, 1978, с. 182−189). С. С. Сорокин предлагал интерпретацию пазырыкского комплекса, исходя из того, что «шаманизм был основой доклассовой идеологии общества ранних кочевников Азии», а вождь из Пазырыка-II мог быть шаманом. В пазырыкском искусстве С. С. Сорокин выделял «ряд изображений шаманских духов», семантику иконографии которых прочитывал в свете этнографических описаний «шаманских духов» алтайских тюрков (Сорокин, 1978, с. 185), полагая, что «шаманизм в той форме, которая нам хорошо известна по этнографическим материалам, уже существовал на Алтае в середине I тыс. до н. э.», а изображения на конской узде и саркофаге из Берельского кургана «являются изображениями добрых духов из пантеона ранних кочевников Алтая» (Сорокин, 1969, с. 232) .
С.С. Суразаков посвятил ряд публикаций исследованию семантики отдельных образов пазырыкского искусства (Суразаков, 1980;1999). Подход этого исследователя к интерпретации содержания изображений отличается непоследовательностью. С одной стороны, вслед за Е. Е. Кузьминой и Д. С. Раевским он рассматривает пазырыкское искусство как «письменность бесписьменного народа», но для прочтения неоднократно обращается к тюркскому эпосу, в частности, алтайскому (Суразаков, 1980), хотя доказано, что древнейшие пласты этой эпической традиции связаны с тюрками, а стиль близок слогу орхонских надписей.
В результате такие элементы пазырыкского стиля как «точки со скобками», в прочтении А. С. Суразакова являются «лунно-солнечными знаками», которыми отмечались «персонажи-небожители», к которым он относит также кошачьих хищников (Суразаков, 1986). Д. С. Раевский, напротив, полагал, что образ кошачьего хищника в скифском искусстве связан с нижним миром (Раевский, 1985, с. 119−125). В другой работе, посвященной семантике конского убранства коней в Больших Пазырыкских курганах, С. С. Суразаков связал структуру конских наголовников и масок с выражением космогонических идей о борьбе солярного божества с божеством нижнего мира, усматривая в сюжете противостояния животных лунно-солнечную символику. При этом «многочисленность воплощений солнца» и «поливариантность образа солнечного божества» в искусстве он трактует как результат эволюции образов животных во времени — «лось, олень — охотничья стадия, баран, козел — скотоводческая стадия, кошачий хищник, человек — военная демократия» (Суразаков, 1988, с. 20). Сюжеты, «отражающие календарные системы и объясняющие их мифы» А.С.
Суразаков видит также в изображениях на зеркалах из курганов пазырыкской культуры и саглынской культуры Тувы (Суразаков, 1992).
Представляется, что автор совершенно справедливо усматривает в сюжетах пазырыкского искусства и ансамблях ритуальных атрибутов (конском убранстве больших Пазырыкских курганов) противопоставление образов хищных и травоядных животных, отмечена связь определенных образов искусства звериного стиля с оружием (Суразаков, 1987), продуктивны интерпретации данных сюжетов в контексте космологических представлений индоиранцев, к которым аппелирует автор, прочитывая способы графического воплощения «древнеалтайской космологии». Однако при этом некоторые авторские определения образов и систем «знаков», прочтение «лунно-солнечной» символики изображений, а также идеи об отражении в пазырыкской образности пресловутых «стадий» (олицетворению которых, по его мнению, служили образы животных и антропоморфные изображения), как и «меморативное» прочтение семантики изображений на Башадарской колоде (см. ниже), на мой взгляд, недостаточно обоснованы.
С.А. Яценко рассмотрел образы фантастических зооморфных чудовищ («алтайский сфинкс» и «феникс», запечатленные на войлочным ковре из Пазырыка-V, рогатый тигр на татуировке из Ак-Алахи-Ш и конской попоне из Туэкты, «барс с длинным, закрученным спиралью хвостом» (пазырыкские татуировки), образ рыбы и т. п.) в искусстве пазырыкской культуры, полагая, что все это персонажи китайской мифологии (Яценко, 1996). Объяснение этим иконографическим «параллелям» в «мифологических текстах и изображениях Китая» С. Я. Яценко объясняет тем, что «исходным районом обитания предков пазырыкцев» были северо-западные окраины раннечжоусского Китая и родством пазырыкцев с сакскими соседями древнего Китая (Там же, с. 157). Предложения определить природу пазырыкских чудовищ через мифологизированные описания китайской традицией мира к западу от Поднебесной представляют определенный интерес как опыт соотнесения письменных и невербальных образных описаний, однако выводы о происхождении пазырыкской культуры, сделанные на основании такого анализа, представляются необоснованными.
Ф.Р. Балонов предложил прочтение смысловой структуры на ворсовом ковре из Пятого Пазырыкского кургана, предлагая интерпретацию семантики композиции, установив функциональную связь ковра с погребальным ритуалом и повозкой (1986, 1991). В подходе автора привлекает многоступенчатый семантический анализ, максимально учитывающий культурный контекст — технологию производства ковра, связь ковра с повозкой и структуру изображений на ковре. По Ф. Р. Балонову, в структуре ковра на разных уровнях — в метрике и ритме композиций, образной, цветовой и числовой символике закодирован сложный текст, подобный литургическим гимнам и обращенный к божествам. Те же принципы возможно более полного определения структуры комплекса изображений, свойственны этюду Ф. Р. Балонова, посвященного татуировке вождя из Пазырыка-И (Балонов, 1987). Совершенно очевидно, что строгая методология подобных интерпретаций обеспечивает возможности приближения к адекватному прочтению языка древнего искусства в контексте ритуала, идет ли речь о принципах анализа структуры импортного художественного изделия (среднеазиатского или переднеазиатского ковра), или произведений искусства, в прямом смысле бывших «плотью» пазырыкской культуры — татуировок вождя из Пазырыка-И.
Большое значение для разработки семантических интерпретаций пазырыкского искусства имеют работы JI.JI. Барковой, посвященные морфологии и типологии зооморфных образов в искусстве пазырыкской культуры (Баркова, 1983;2003, Баркова, Панкова, 2005). Исследовательница проследила развитие иконографии образов хищников и копытных животных, а также фантастических образов, провела подробный статистический, иконографический и стилистический анализ зооморфных изображений в коллекции артефактов из Больших Пазырыкских кургановобратилась к семантике композиций на Башадарской колоде и маске из Первого.
Пазырыкского кургана (Баркова, 1984, 1987, 1999). Л. Л. Баркова посвятила специальные работы изучению образов кошачьих хищников, оленя, орлиного грифона, отметив черты развития пазырыкского искусства во времени и многочисленные параллели с искусством Ирана, Передней и Средней Азии (Баркова, 1987, 1990, 1995). В прочтении семантики ритуальных пазырыкских артефактов (маски коня из Первого Пазырыкского кургана и колоды из Башадара) Л. Л. Баркова обращалась к протоиндийской мифологии (Баркова, 1984, 1999).
В.Д. Кубарев раскопал и монографически опубликовал материалы из рядовых захоронеий пазырыкской культуры на юго-востоке Горного Алтая, в истоках р. Чуй в степях у отрогов Сайлюгемского хребтавсего раскопано более ста пятидесяти захоронений в нескольких могильниках (Кубарев, 1979, 1987, 1989, 1992, 1997). Всестороннее изучение погребальной обрядности и погребального инвентаря позволило автору сделать ряд важных выводов о хронологии и этнокультурной принадлежности курганов в могильниках Юстыд, Уландрык, Барбургазы, Ташанта, Малтапу, Джолин. В результате раскопок был получен большой корпус источников о культуре рядового пазырыкского населения, оставившего эти памятники. Изучение археологических источников позволило В. Д. Кубареву значительно дополнить и уточнить данные, полученные в результате раскопок Больших Пазырыкских и других курганов знати.
В.Д. Кубарев сформировал великолепную коллекцию предметов с богатым изобразительным рядом (около 20-ти диадем, более 50-ти зооморфных наконечников гривен, более 100 экземпляров зеркал и т. п.), совокупность которых дает возможность сформировать представление о «номенклатуре» артефактов в наборах, составляющих ансамбль погребального инвентаря, сопровождавшего умерших пазырыкцеввыяснил особенности оружейного и керамического комплекса пазырыкцев, определил назначение некоторых «загадочных» предметов из курганов знати (например, деревянной основы колчана из Туэкты), а также артефактов с изображениями в зверином стиле (навершия головного убора из Пазырыка-Н с головой оленя в клюве грифона, фигурок коней и волков из Катандинского кургана) (Кубарев, 1981, 1987, 1987а, 1991, 1992).
В специальной статье В. Д. Кубарев в деталях рассмотрел изображения коней на пазырыкских головных уборах из рядовых погребений (Кубарев, 1981). Исследованию семантики образа птицы и волка в представлениях пазырыкцев были посвящены совместные с автором статьи В. Д. Кубарева, в которых атрибутика пазырыкских головных уборов, нашейные гривны и предметы конского убранства с изображениями этих персонажей были интерпретированы в контексте верований древнего населения Южной Сибири и Центральной Азии (Кубарев, Черемисин, 1984, 1987). Содержание данных статей было включено в публикации В. Д. Кубарева и стало основой авторских разделов в его монографиях, посвященных искусству, мифологии и верованиям пазырыкцев (Кубарев, 1987, с. 123−131- 1991, с. 135−168).
На максимальную достоверность полученных данных ориентирован новейший подход Н. В. Полосьмак, посвятившей свое исследование анализу совокупности новейших материалов из ее раскопок на плато У ко к, и реконструкции на этой основе мировоззренческих и мифологических представлений пазырыкцев (Полосьмак, 1997, 1999, 2000, 2000а, 20 006, 2000 В, 2001 и др. работы). Имея в качестве предмета исследования уникальный корпус источников, а отправной точкой данные, полученные в результате междисциплинарного синтеза естественных и гуманитарных наук, Н. В. Полосьмак обратилась к содержанию ритуалов (практике мумификации), костюму, мужским и женским головным уборам и прическам, татуировкам пазырыкцев. В результате проведенных исследований Н. В. Полосьмак обосновала ряд заключений, позволяющих представить некоторые аспекты общества пазырыкской культуры в этнографическом приближении. Н. В. Полосьмак исследованы культурные связи пазырыкцев и контекст погребений представителей разного социального статусаособое место в ее работах заняли сюжеты, связанные с изучением «женской сферы» в культуре древних скотоводов Алтая.
Множество констатаций Н. В. Полосьмак, основанных на тонких наблюдениях и глубоком анализе, имеют прямое отношение к сюжетам и образам изобразительного искусства, некоторым из которых (образу рыбы, грифона, «феникса») посвящены разделы монографий или отдельные статьи (Полосьмак, 1992, 1993, 1994, с. 90−95, 1999 и др.), однако предметом специального исследования изобразительный комплекс Укока или только могильников Кутургунтас и Ак-Алаха не стал, и в реконструкции мировоззрения и мифологии пазырыкцев «зооморфический» код как один из вариантов или одна из составляющих мифологического кода, специально ею подробно не исследовался. При этом заключения Н. В. Полосьмак о головных уборах, прическах, одежде пазырыкцев, о конском убранстве и т. п. в полной мере составляют основу для дальнейшего изучения контекста изображений, места и роли ритуальных атрибутов в структуре погребальных комплексов, реконструкции мифологических представлений пазырыкцев.
Впервые обнаруженные полностью сохранившиеся образцы головных уборов, например, дали возможность верифицировать наши представления о месте и роли зооморфных деталей, большая серия которых была уже известна ранее из раскопок рядовых погребений пазырыкских погребений в истоках р. Чуй. По многим категориям погребального инвентаря раскопками Н. В. Полосьмак значительно увеличен корпус источников, что делает заключения о роли определенных классов артефактов и месте тех или иных изображений в структуре погребального комплекса гораздо более достоверными, а реконструкции более обоснованными. Н. В. Полосьмак строго придерживается методики исторических реконструкций, предлагая широкую панораму возможных прочтений в свете данных этнографии, фольклора и мифологии народов Сибири. Исследовательница очень осторожна в том, что касается интерпретаций «информации» о социальном статусе, семейном положении и т. п., которая заложена, например, в женские головные уборы и прически, полагая, что достоверно можно судить только о символике убора (Полосьмак, 2001, с. 155).
Не менее ценны материалы неразграбленных мерзлотных захоронений, исследованных В. И. Молодиным в могильнике Верх-Кальджин, как и других, столь полно не сохранивших артефакты, пазырыкских курганов Укока (Молодин, 2000, 2003; Молодин и др., 2000; Молодин, Полосьмак, 2003; Полосьмак, Молодин, 2000). В. И. Молодин при анализе археологических материалов отметил ряд закономерностей формирования пазырыкского комплекса, затронул проблемы интерпретации назначения ряда ритуальных атрибутов, в частности, наверший головных уборов и нашейных гривен. В. И. Молодин привлек пазырыкские изобразительные материалы для решения проблем, связанных с историческими судьбами пазырыкской культуры, что, наряду с проблемой ее генезиса, стало предметом специального исследования в рамках авторской гипотезы (Молодин, 2000, с. 105- Молодин, 2003, с. 157−163, рис. 107−109). Итак, результатом обзора истории становления стратегий интерпретации искусства звериного стиля ранних кочевников Евразии нам представляется принципиальным вывод о возможности постижения идейного содержания сюжетов и образов этого искусства.
На наш взгляд, для Алтая середины I тыс. до н. э. ситуацию такова, что «изобразительное искусство является единственным или по крайней мере самым авторитетным источником информации, ибо создает условия для реконструкций, которые невозможны на материале других источников» (Топоров, 19 886, с. 485). Собственно, именно таким образом оценивал изобразительный комплекс Пазырыка-I М. П. Грязнов (Грязнов, 1940, с. 365). Поэтому исследование идейного содержания изобразительного искусства звериного стиля — часть реконструкции мифологии скифов, саков и других евразийских народов I тыс. до н. э. При анализе автор опирался на разработки теории семантических реконструкций как составной части изучения языка древнего искусства.
Наиболее адекватной представляется анализ изображений в рамках мифологической концепции семантики сюжетов и образов. Опыты реконструкции идейного содержания искусства звериного стиля в рамках «мифологического» подхода обеспечены методикой «прочтения текста» (Кузьмина, 1983; Раевский, 1985), которая предполагает анализ изобразительных памятников на разных уровнях — уровне мифологических универсалий, теоретическое обоснование привлечения которых для исследования широкого круга памятников первобытного искусства разрабатывали Д. С. Раевский и Е. А. Антонова (Раевский, 1999, 2001; Антонова, Раевский, 1981, с. 235−236- 1991, с. 121−123), на уровне общеиндоевропейских и индоиранских мифологем, к которым восходят фиксируемые феномены духовной культуры скифской эпохи, и на уровне собственно скифских представлений.
Ираноязычность скифов установлена лингвистически и общепризнанна (Абаев, 1965) — материалов, которые бы однозначно свидетельствовали об ираноязычности носителей пазырыкской культуры, нет, однако концепция, постулирующая родственность пазырыкцев сакам Средней Азии и скифам Причерноморья, представляется наиболее продуктивной. Она сформирована на основании антропологических данных (Алексеев, 1975; Алексеев, Гохман, 19 884- Баркова, Гохман, 1994; новейшие данные см.: Чикишева 2000) и представлениях о генезисе пазырыкской культуры и ее возможных этнокультурных компонентах (Савинов, 1993; Кляшторный, Савинов, 1998; Марсадолов, 1996, 1997, 2000; Молодин, 2003).
Помимо материалов из раскопок на юго-востоке Горного Алтая, в настоящем исследовании привлекались также опубликованные материалы из раскопок Д. Г. Савинова, А. С. Суразакова, В. В. Могильникова, Ю. С. Худякова, Ю. Ф. Кирюшина, А. Н. Тишкина, Н. В. Степановой, З. С. Самашева и А.-П. Франкфора, JI.C. Марсадолова, А. Д. Грача, Тянь Гуанцзиня и Го Сусинь и других археологов, чьи подходы к изучению материала, интерпретации и выводы обсуждаются ниже при анализе конкретных сюжетов и образов искусства звериного стиля.
Гл. II. Опыт интерпретации семантики зооморфных образов в контексте погребального обряда пазырыкской культуры.
Заключение
.
Подводя итоги, следует отметить, что на вопросы, которые были поставлены в качестве задач исследования, на наш взгляд, получены достаточно определенные ответы. Исследуя язык звериных образов как часть «языка» погребального комплекса, мы зафиксировали связь изображений в зверином стиле с определенными артефактами. В рамках концепции «мифологической» семантики сюжетов и образов искусства звериного стиля мы пытались найти сферу тех значений, которые определили данное место зооморфных образов в структуре погребального комплекса и символику артефактов с их изображениями. В основу было положено выяснение реального культурного контекста тех или иных артефактов и изображений на них.
Оказалось, что представления об искусстве звериного стиля как феномене, связанном с достаточно узким слоем родовой знати или с военной дружиной, сформированные на археологических памятниках, в которых не сохраняются предметы из недолговечных органических материалов, не соответствуют реалиям пазырыкской культуры (табл. XLI-XLIV). Мерзлота сохранила огромный корпус источников, среди которых статистически представительная серия артефактов с богатым изобразительным рядом, происходящая из рядовых погребений, в том числе из детских и женских (табл. XLI). Наличие предметов с изображениями в кенотафах также заставляет видеть в достаточно стандартном наборе сопроводительного инвентаря выражение определенных мифологем, единых для всего общества, презентация которых в ритуале погребения средствами изобразительного искусства представляется наиболее вероятной.
Достоверно реконструируется структура погребального комплекса рядового населения пазырыкской культуры с довольно стандартным набором сопроводительного инвентаря и определенным изобразительным рядом. В случаях, когда первоначальный ансамбль артефактов с изображениями не нарушен, он содержит информацию об отсутствии соответствия тех или иных зооморфных персонажей на облачениях погребенных определенным могильникам, и мы не имеем оснований определять значение образов искусства звериного стиля как родовых или клановых эмблем. Не зафиксировано также устойчивое закрепление каких-либо зооморфных образов за мужскими, а иных звериных изображений — за женскими погребальными облачениями, и мы не можем прочитывать смысловое содержание данных образов в связи с особенностями пола и возраста пазырыкцев. Язык звериных образов изобразительных текстов пазырыкцев един для мужчин и женщин (табл. XLII).
В достаточно разнородных в социальном плане курганах Укока (могильник Ак-Алаха-I, по Н. В. Полосьмак — захоронения представителей «средней знати» пазырыкского общества) и рядовых могильниках верховьев Чуй обнаружены одни и те же типы ритуальных атрибутов для погребений представителей разных социальных групп, и общие соответствия сюжетов изображений определенным артефактам для социально различных захоронений. Можно сделать вывод о том, что назначение ансамбля атрибутов парадно-церемониального (погребального) облачения с изображениями в зверином стиле связано с выражением картины мира пазырыкской культуры.
Структуру изобразительного ряда наиболее наглядно манифестируют изображения на головном уборе. Представляется, что персонажи изображений в погребальных облачениях носителей пазырыкской культуры связаны с выражением сюжета терзания хищниками травоядных копытных животных. Этот сюжет, который убедительно трактован исследователями как отражающий космологические представления ираноязычного населения Евразии середины I тыс. до н.э., играл роль некоего «метатекста», «основного мифа» скифского мира Евразии, и многие сложно построенные изобразительные «тексты» можно интерпретировать как варианты импликации данной мифологемы. Естественной видится манифестация данного сюжета в ритуале погребения, связанного с концепцией «смерти-возрождения» и включавшего жертвоприношение копытных животных.
В структуре головного убора антагонизм хищников и копытных с чертами разных животных («собирательный» образ травоядного рогатого копытного животного) закодирован в жестком соответствии персонажей, связанных со структурно различными сферами мироздания, артефактам в различных частях убора. С «верхним миром» связаны изображения птиц и рогатых «коней-козерогов», помещенные на навершиях головных уборов, «средний мир» маркируют изображения оленей в средней части, иногда в фигуру оленей вписаны другие копытные, «нижний мир» олицетворяют парные фигуры хищников на гривнах, противопоставленные копытным верхних регистров убора (табл. XLII, 1−3).
В сюжетах, манифестированных на сложных ритуальных атрибутах конского убранства, сюжет «терзания» мог быть явлен более наглядно (изображения этой сцены на седельных покрышках в Больших Пазырыкских курганах, подвески к седлам в виде соразмерных реальным коням фигур волков и мифических рыб), либо имплицитно в виде преобладания образа грифона на псалиях и уздечных подвесках (XLIV). При этом принесение в жертву коня в уборе с этими изображениями семантически эквивалентно сюжету терзания хищниками копытных животных, эта тема доминирует в сюжетах на экипировке сопогребаемых с человеком коней. Жертвенный конь с чертами рогатых животных — оленя и горного козла и образ синкретичного рогатого копытного животного на головных уборах, возможно, суть разные воплощения одного и того же мифологического персонажа. Это некое «совокупное» жертвенное животное олицетворяет средний мир, которому противостоят хищники нижнего мира и, соответственно, противопоставлены изображения нижнего регистра убора. Этому регистру соответствуют изображения хищников (волков, барсов, фантастических грифонов) в нашейных атрибутах пазырыкцев. Семантика зооморфных персонажей пазырыкского головного убора прочитывается в контексте языка и мифологии индоевропейских и тюрко-монгольских народов Евразии.
Семантика наиболее распространенного образа пазырыкского искусства звериного стиля, грифона или «грифа», определена ролью реальных прототипов данного фантастического персонажа (волков, кошачьих хищников и хищных птиц-грифов) как главных «терзателей» копытныхоленей, лосей, коней. Следует принимать во внимание исключительную роль птиц-падалыциков в иранской эсхатологической концепции и зороастрийской обрядности, в связи с чем мог сформироваться комплекс представлений о благой ипостаси грифона, связанной со значением грифов как животных-погребателей.
Изобразительный строй или система зооморфных образов на артефактах, задействованных в погребальной обрядности — лишь часть языка погребального комплекса, отражающего определенный мифом и реализованный в ритуале сценарий.