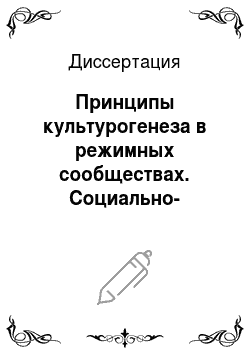Постановка проблемы и актуальность ее исследования.
Общества, которые принято называть цивилизованными, отличаются от традиционных не только наличием храмов и библиотек, но также тюрем и казарм. Люди в казармах представляют собой концентрированную в пространстве на продолжительное время человеческую массу, собранную и локализованную механически, т. е. насильственно и без учета их личностных особенностей и культурных принадлежностей. Круг этих людей замкнут и постоянен. Они одеты в одинаковую форму, вместо имен им присвоены номера. Перемещение их тел в пространстве, перемена функций и даже поз регламентированы общим распорядком, регулярными построениями и прочими средствами тотального контроля. Эта, человеческая масса изолирована от гражданского общества, но внутри нее ни один из индивидов не имеет возможность уединения. Они вынуждены вместе не только работать, но также есть, спать, строем передвигаться по территории, по команде справлять «естественные надобности», вместе и по команде мыться, читать, писать письма, чинить одежду, — одним словом, вместе быть. Что происходит внутри этой массы человеческого «концентрата»? Как взаимодействуют между собой ее отдельные человеческие «атомы»? В какие структуры они выстраиваются и как в них функционируют? Что движет их самоорганизацией? Ответы на эти вопросы представляют собой предмет особого антропологического интереса.
История Нового времени изобилует различными1 вариантами социальных образований, в которых люди существуют в «концентрированном» состоянии. Собственно говоря, для обозначения этого феномена и был введен в оборот термин «концентрационный лагерь», а сам XX век получил в антропологической литературе название «Век лагерей» (Котек, Ригуло, 2003), метафоричное лишь отчасти. В западной антропологии вокруг этого феномена regimented societies сложилась определенная исследовательская традиция (Beyond Goffman., 2003), вызванная во многом прикладными задачами, стоящими перед европейской общественностью — преодоления не только социальных последствий тоталитарных режимов, но и изучения социально-антропологических условий, при которых тоталитарные режимы возможны. Что касается России, в которой государство традиционно сохраняет (а в последнее время даже развивает) тюрьмы и казармы в качестве средства социального, политического и экономического управления, антропологических исследований, за редким исключением, так и не появилось. Осмысление природы «человека концентрированного», осуществлялось в области не науки, а литературы, что также характерно для России, (об этом подробно ниже, в библиографическом разделе). Отсутствием в России фундаментальных научно-антропологических исследований данной проблемы при их острой общественно значимой необходимости обусловлена научная актуальность настоящей работы.
Предмет исследования.
По свидетельствам очевидцев, неуставные доминантные отношения в Советской Армии имели место уже с конца 1950;х годов, а первое официальное упоминание дедовщины как «казарменного хулиганства» было сделано министром обороны в самом начале 1960;х. Таким образом, явлению уже почти полвека, и исчезать оно не собирается, несмотря на непрекращающиеся попытки его «искоренения». Более того, даже при таком существенном изменении, как переход армии на срок воинской службы с двух лет на один год, дедовщина не исчезла, как не исчезала она и при переходе с трех лет на два. В чем причина такой жизнеспособности?
Даже поверхностный взгляд на это явление заставляет сделать вывод о том, что дедовщина состоит в генетической связи с уставом. Официальная принудительная система прохождения воинской службы, лишая человека свободы во всех ее проявлениях, не предусматривает никаких эффективных стимулов к добросовестной службе. Таким образом, устав из воинского закона превращается в инструмент репрессии, что сами же командиры всех уровней и озвучивают: «Не хотите жить по-человечески — будем жить по уставу». Соответственно, предполагается, что «жизнь по уставу» не совместима с «жизнью по-человечески». «Жизнь по уставу» в данном контексте — это репрессивный метод управления коллективами военнослужащих, применяемый командованием от имени закона. Но, применяемый в рамках устава аппарат насилия действует также не эффективно, потому что в своем воздействии на тело и душу солдата он формально ограничен рамками закона, в качестве которого применяется. Следовательно, устав не выполняет возложенных на него функцийуправление служебной и социальной сферой отношений. Эта логическая незавершенность уставного принуждения восполняется дедовщинойсистемой физического и морального насилия, неограниченной в средствах воздействия на личность, посредством которого достигаются и выполнение экстраординарных задач, и поддержание рутинного порядка. Поэтому дедовщина в современной российской армии продолжает оставаться основным фактором социального управления.
В силу своей актуальности тема реформирования армии не сходит с газетных полос. Но нас интересуют не эти очевидные проблемы, лежащие на поверхности. Предмет нашей работы — внутренние социально-антропологические процессы, протекающие в существующих сообществах военнослужащих срочной службы, те внутренние отношения, которые не видны стороннему наблюдателю в марше их стройных шеренг. Но тот, кто был в их составе, увидит в однородном строю сложную социальную структуру, различив каждого из солдат по микропризнакам его неуставного статуса, которые непосвященный и не заметит. И эти неуставные статусы для самих солдат более значимы, чем официальные воинские звания: именно первые, а не последние определяют жизнь человека в армии и его место в ее конфликтном социуме.
Впрочем, все социумы, как и всякие структуры вообще, в силу естественной ассиметрии их компонент, потенциально конфликтны. Бесконфликтных обществ не бывает. Видимо, динамическое развитие общества предполагает возможность конфликтов, равно как и наличие инструментов их преодоления. Доминантные отношения есть и в гражданском обществе, и в профессиональных армиях, были они и в элитных корпусах царской армии. Своего рода «дедовщина» существует и в вузах, и в научно-исследовательских институтах, как естественное доминирование старшего над младшим, которое в определенных условиях легко переходит в неестественное. Неестественные формы доминантных отношений начинаются там, где кончается свобода личности выбирать среду своего присутствия — в армии, в тюрьмах, в люмпенских поселках, в коммунальных квартирах — везде, где люди вынуждены строить систему отношений только потому, что не имеют возможности разбежаться.
Социально-антропологическая картина во всех экстремальных группах, и, прежде всего, — в российской армии и колониях заключенных, на данный момент представлена в единстве двух систем организованного насилия: неформальная система является ресурсом функциональности формальной. Хотя идеологически и формально эти структуры действительно полярны: армия — символ правильной жизни, тюрьма — символ жизни неправильной. Но и то, и другое — это концентрированная человеческая масса, окруженная забором. И в обоих случаях эта масса далеко не безлика, как это может показаться со стороны.
Устойчивая ассоциация «армия — зона» в советском сознании утвердилась довольно давно. Мне доводилось общаться со многими подростками, чье девиантное поведение в переходном возрасте было выдержано в директории уголовной романтики, более соответствующей, на их взгляд, идее самовыражения личности, ее свободе. Некоторые из них с детства прониклись идеей вместо того, чтобы отслужить в армии, эти два года «отсидеть» в тюрьме (что им с успехом удавалось осуществить). Антропологическую суть данной антитезы, пронизавшей тоталитарное общество вплоть до детских умов, предельно ясно выразил Иосиф Бродский в одном из своих эссе: «На мой взгляд, тюрьма гораздо лучше армии. Во-первых, в тюрьме никто не учит тебя ненавидеть далекого „потенциального“ врага. <.> В тюрьме твой враг — не абстракцияон конкретен и осязаем. В тюрьме имеешь дело с одомашненным понятием врага, что делает ситуацию приземленной, обыденной. По существу, мои надзиратели или соседи ничем не отличались от учителей и тех рабочих, которые унижали меня в пору моего заводского ученичества. Служба в советской армии длилась от трех до четырех лет, и я не видел человека, чья психика не была бы изуродована смирительной рубашкой послушания. За исключением разве музыкантов из военных оркестров да двух дальних знакомых, застрелившихся в 1956 году в Венгрии, — оба были командирами танков. Именно армия окончательно делает из тебя гражданинабез нее у тебя еще был бы шанс, пусть ничтожный, остаться человеческим существом. Если мне и есть чем гордиться в прошлом, то тем, что я стал заключенным, а не солдатом» (Бродский, 1999: 20 — 21). С точки зрения тождества уголовного и армейского миров подошел к этой проблеме и Сергей Довлатов, заметив, что не было ни одного зека, который бы не заслужил прощения, и ни одного надзирателя, которого не было бы за что посадить (Довлатов, 1998). Данное тождество «армия — зона» воспроизводит и армейская «народная мудрость». Как любил повторять один полковник, начальник штаба крупной бригады связи: «Если бы армия не была тюрьмой, не было бы заборов». И так далее. Тотальность социального контроля при низком уровне правового сознания можно определить как фундаментальную гуманитарную проблему российской социальной истории вообще, которая в сознании творческой элиты преломляется в качестве проблемы, пафосно названной проблемой свободомыслия, но являющейся органической и естественной потребностью любого мыслящего субъекта. Соционормативный и культурогенный потенциал неформальных статусных знаковых систем в армии вполне осознан солдатами. Почти 100% опрошенных военнослужащих срочной службы разных призывов понимали дедовщину как неизбежность, при этом выступая против физического насилия, но за сохранение знаковых различий между молодыми и дедами. Выведение физического насилия в символической проекции вовсе не обязательно означает его преодоление и гуманизацию отношений. Но всегда — переход от манипуляции с телами к манипуляциям с их смысловыми значениями, и этим выражает динамику культурогенеза. И мы видим в режимных сообщетсвах зарождение и развитие самобытной традиции, ее репрезентации в сложных художественных формах изобразительного искусства и фольклора, которые составили целый пласт национальной культуры России второй половины XX века. В солдатских коллективах, в силу колоссальной ротации личного состава, его высокой поликультурности и социальной адаптации личности через ее десоциализацию, процессы культурогенеза не получают последовательного развития, но зациклены на ранних фазах. Таким образом, на примере режимных сообществ, мы имеем своего рода лабораторию культурогенеза, в которой можно эмпирически изучать общие универсальные закономерности развития культуры.
Эмпирическая база исследования.
В основу настоящего исследования легли наблюдения автора за жизнью воинских подразделений изнутри во время прохождения им срочной службы в рядах Советской Армии в конце 1980;х годов, материалы специального социально-антропологического исследования, проведенного в 1999 — 2000 годах, в ходе которого был проведен ретроспективный анализ доминантных отношений военнослужащих срочной службы уже Российской Армии за последнее десятилетие XX столетия. География исследования по проблемам армии покрывает практически всю территорию бывшего СССР и охватывает все основные рода войск, за исключением всякого рода спецподразделений.
Общие теоретические положения.
Человеческий концентрат" - среда высокого внутреннего давления. Здесь межличностные отношения отличаются повышенной агрессивностью, а насилие утверждается в качестве института социальной коммуникации. Это оказывает существенное влияние на психику каждого из участников коммуникации и приводит к трансформации сознания.
В современной российской армии насилие представлено в двух уровнях одной системы социального контроля, точно по Дюркгейму: 1) «механический» фактор консолидации (насильственный призыв) — 2) «органически» сформировавшаяся в условиях «механической» консолидации система статусных отношений («дедовщина»). Обе направлены на подавление свободы личности, поэтому бытовое насилие и агрессия актуализируются как способ конкуренции и не столько за ресурсы жизнеобеспечения (необходимый минимум которых здесь положен каждому), но за средства самовыражения, в числе которых — право на переоформление всех единообразных элементов уставного жизнеобеспечения в разнообразных знаках и символах социальной иерархии. В результате в группах «механической» консолидации естественным образом складывается упорядоченная система доминантных отношений. В ходе этого процесса происходит идеологическое переосмысление бытового насилия. Осмысленное в социальной парадигме насилие составляет каркас системы ценностей в армии, и, по закону апологии образа жизни социума, превращается в его идеологию, чем, наконец, формирует идентичность его членов.
Итак, идеология насилия обусловливает экстремальность состояния общественного сознания подобных социальных образований, в силу чего я предлагаю для них определение «экстремальные группы» (Банников, 1999; Bannikov, 2000). Экстремальность здесь рассматривается как внутреннее состояние данных сообществ, их социокультурная и ментальная парадигма, отличающая их от основного гражданского сообщества критически высоким градусом насилия, которое здесь является социои культурогенным фактором.
С точки зрения антрополога, насилие рассматривается не как поведенческая аномалия, но в качестве специфически человеческого способа жизнедеятельности, т. е. этот феномен не выходит за рамки культуры (Curtis, 1975; Barker, 1993; Violence Culture, 1996; Hatty, 2000; Антропология насилия, 2001). Даже там, где насилие принимает ужасающие формы, которые на уровне обыденного сознания обычно характеризуются как извращение, мы видим антропологическую проблему, поскольку за каждым институализированным в системе режимных сообществ «извращением» стоят метаморфозы культуры.
Формулируя определение экстремальных групп как одного из типов режимных сообществ, я имею в виду экстремальность не внешней среды, но внутрисоциального и психологического состояния. Потому что, во-первых, внешняя среда не может быть критерием типологизации социумаво-вторых, в данном случае прослеживается обратная закономерность: экстремальность внешних условий может быть фактором внутреннего сплочения членов группы.
Так мы находим относительно здоровый психологический климат в отдельных воюющих подразделениях, на боевых дежурствах, на пограничных заставах — там, где перед всеми в равной мере стоит проблема выживания. Впрочем, армия на войне — вообще тема отдельного исследования. Тем более, если одна и та же армия в разное время ведет совершенно разные по целям, задачам, средствам, а также в плане морально-этических критериев, войны. Поэтому ни Советская Армия в годы Великой Отечественной войны, ни подразделения, воевавшие в Афганистане и Чечне, не являются предметом данной работы. Здесь нас будет интересовать армейский социум мирного времени, и причины агрессии военнослужащих, направленной не против внешнего врага, но против своего соседа по солдатской койке.
Цели, задачи, методы.
Целью настоящего исследования является объяснение природы и сути неуставных отношений в советской/российской армии на уровне фундаментальных культурогенных процессов путем социально-антропологического анализа. Поскольку любое режимное сообщество является в высшей степени закрытым социумом, вследствие чего их очень сложно изучать и контролировать извне, постольку основными методами являются методы традиционной этнографии — включенное наблюдение и насыщенное описание, с последующими семиотическими интерпретациями, включающими методы кросс-культурного сравнительного анализа. В процессе сбора полевого материала применялись метооды визуальной антропологии, поскольку визуально зафиксированные артефакты имеют значение самоценного источника, не зависимого от авторских интерпретаций (Банников, 2008: 10−25).
Социальная антропология очерчивает круг задач, важных для рассмотрения феноменологии экстремальных групп:
— выявление механизмов трансформации идентичности личности, использующей агрессию как средство социального взаимодействия;
— определение критической степени зависимости личности от собственной социальной роли;
— определение степени диффузии личности при редукции ее культурной многомерности до какой-либо частной функции.
Отдельного внимания заслуживает трансформация установок, мотиваций, апология действий индивида по мере перехода из генерального социокультурного контекста в маргинальный и обратно. Пожалуй, в этом следует искать ответы на вопросы: как образованный и воспитанный человек может допускать чудовищное насилие над собой и быть его источником? Какая система психологических защит и апологии образа жизни складывается в его голове? Каким образом, при каких условиях и с какими потерями ему удается вернуться к общекультурным нормам?
Библиографический обзор
По мнению Варлама Шаламова, подтвержденному этнографическим исследованием Екатерины Ефимовой, русская криминальная субкультура, как культура режимных сообществ, альтернативная общей генеральной культуре — как традиционной, так и цивилизационной (государственной) — зародилась в древности (Ефимова, 2004). Ранние свидетельства о ней находим в былинах, разбойничьих песнях, и преданиях о разбойниках. Первые известия об арго (XVIIb.) связаны с казаками, наиболее древний пласт аргоизмов восходит к лексике новгородских и волжских речных разбойников, бурлаков, калик перехожих. В создании арго и криминального фольклора принимали участие также бродячие ремесленники и торговцы (офени). Начиная с.
XVIII века исследованием русского криминального и тюремного миров занимались языковеды, этнографы, криминалисты. Развитию данного исследовательского направления содействовали пенитенциарные конгрессы (с 1840-х годов), а так же периодическая литература. Из числа фундаментальных отечественных работ, содержащих материалы по истории русской тюрьмы, следует назвать следующие исследования Н. Д. Сергиевского «Наказание в русском праве XVII века» (Сергиевский, 1887), Н. С. Таганцева «Лекции по уголовному праву» (Таганцев, 1892), С. В. Познышева «Очерки тюрьмоведения» (Познышев, 1915) и «Основы пенитенциарной науки» (Познышев, 1923). Но раньше всего проявили интерес к культуре русского разбойничье-воровского мира не ученые, а художники слова. С XVIII века в России создаются литературные произведения, в которых в центре внимания оказывается отечественный криминальный мир. Первыми из них можно считать «Обстоятельное и верное описание добрых и злых дел российского мошенника, вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, всей его жизни и странных похождений, сочиненное Матвеем Комаровым в Москве» и рассказ И. Новикова «О лукавом нищем». К XVIII веку относятся и первые публикации разбойничьего и тюремного песенного фольклора в сборниках Трутовского, Чудкова, Кирши Данилова. Часто тюремные песни включались в один комплекс с «удалыми» и назывались все вместе «разбойничьими» (Акимова, 1964: 541). П. В. Кириевский наряду с «воинственными» и «солдатскими"песнями выделяет в отдельный раздел и разбойничьи песни. В 1820—1830-е годы начинается запись разбойничьих преданий, к которым примыкают и предания о крестьянских восстаниях. Разинский фольклор, разбойничьи песни и предания записывает А. С. Пушкин и Н. Н. Раевский. Образы арестантов и беглых каторжников эпизодически появляются в русской литературе, начиная с 1830-х годов в творчестве И. Т. Калашникова, Н. С. Щукина, Н. Полевого, А. Тасина, Д. П. Давыдова. Большую роль в собирании, — по выражению Е. Ефимовой, «демократического фольклора» — фольклора социального протеста, народных бунтов, тюремного, фабрично-заводского, солдатского, сыграли в XIX веке фольклористы-шестидесятники. На обложке девятого номера «Искры» за 1864 год даже появилась дружеская карикатура «Калики перехожие», на которой в одежде странников были изображены ' П. Якушкин, П: Рыбников, В: Слепцов, Н. Отто, А. Левитов, Е. Южаков, С. Максимов — собиратели-очеркисты демократического склада. Представители революционно-демократической, фольклористики также обращаются к разбойничьему и тюремному фольклору. На важность изучения «пугачевско-разинского» фольклора указывает И. Худяков. В ссылке в Астраханской губернии записывает тексты легенд и преданий о Пугачеве и Разине ПЯкушкин. Описание быта «голи кабацкой», нищих, беглых воров и разбойников дает И. Прыжов в «Истории кабаков». «Вольных людей» как самостоятельную тему выделяет Н. Аристов. Разнообразные типы деклассированных элементов, в особенности бродяг, становятся постоянными персонажами журнальных беллетристических и этнографических текстов, публикующихсяв «Колоколе», «Современнике», «Русскомслове», «Деле». Описателями тюремной субкультуры и собирателями тюремного фольклора выступают и политические заключенные — B.F. Богораз, В-0. Арефьев, А. А. Макаренко, Ф-Я.Кон. Заключенными российских тюрем в разное время были П. Якубович, В. Фигнер, В: Короленко, В. Серошевский, в мемуарах которых представлены зарисовки быта и жизни не только-политических ссыльных, но и представителей старой воровской среды.
История русской арготической лексикографии: начинается с XVIII века. Первый словарный материал об. условном языке офеней зафиксирована «Словаре Академии Российской» (1789−1794) — В 1820-е годы в журнале «Московский телеграф» появляются первые работы, посвященные' условному языку волжских разбойников. В 1850-ё годы.
И.В. Даль составляет словарь под названием «Условный язык петербуржских мошенников».
В 1859 году появляется словник «Собрание выражений и фраз, употребляемых санкт-петербужскими мошенниками», в 1903 году публикуется «Босяцкий словарь» Ваньки Беца, в 1908 году — словарь В. Ф. Трахтенберга «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы» (Ефимова, 2004: 15−16). Этнографами, психологами, фольклористами описывались разные стороны тюремной картины мира. Первую музыкальную запись тюремного фольклора сделал композитор В. Н. Гартенвельд, совершивший в 1908 году поездку в Сибирь для изучения песен каторги и ссылки. Особенности тюремной психологии привлекали внимание М. Н. Гернета, выпустившего в 1925 году книгу «В тюрьме», в которой был обобщен материал, собранный в тюрьмах Москвы и Петербурга. Ему же принадлежит многотомный труд «История царской тюрьмы».
Народная поэзия царской каторги и ссылки оказывалась предметом исследования в целом ряде статей и диссертаций в советское время. В числе наиболее богатых по материалу Е. Ефимова выделяет работы Т. М. Акимовой, В. Г. Шоминой, С. И. Красноштанова, A.M. Новиковой, Тексты, отражающие дореволюционную тюремную традицию, записывали и публиковали В. П. Бирюков, Е. М. Блинова, А. В. Гуревич, J1.E. Элиасов, А. Мисюрев (Ефимова, 2004: 17).
Со второй половины XIX века в России начал формироваться своеобразный литературный жанр — записки интеллигента о быте и нравах заключенных. У истоков этой антропологической традиции в мировой классической литературе мы видим «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. «Достоевский, прежде всего, великий антрополог, исследователь человеческой природы, ее глубин и тайн. Все его творчествоантропологические опыты и эксперименты. Достоевский — не художник-реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы. Он проводит свои антропологические исследования через художество», — пишет о нем Н. А. Бердяев (1994:4−5).
Жанр антропологических описаний лагерной жизни бурно развивался на протяжении всего XX века: не было недостатка тюрем в стране и образованных людей в тюрьмах. Александр Солженицын, Валерий Шаламов, Лев Разгон, Анатолий Рыбаков, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский, Игорь Губерман — имена, озвучившие драму эпохи. И это далеко не полный перечень имен. В их работах мы находим сложившуюся исследовательскую традицию, и не потому что описанная в них реальность человеческих отношений не требовала вымысла, отличающего художественную литературу от научной. И не потому, что любая из этих книг — цельное исследование, проведенное путем включенного наблюдения — основного этнографического метода. Наблюдая людей в «концентрированном виде», они обращались к глубинам природы человеческого существа. Именно поэтому их работы глубоко антропологичны.
Исследовательские традиции субкультуры режимных сообществ в России имеют глубокие традиции. История русской арготической лексикографии начинается с XVIII века. Первый словарный материал об условном языке офеней зафиксирован в «Словаре Академии Российской» (1789−1794). В 1820-е годы в журнале «Московский телеграф» появляются первые работы, посвященные условному языку волжских разбойников. В 1850-е годы И. В. Даль составляет словарь под названием «Условный язык петербуржских мошенников». В 1859 году появляется словник «Собрание выражений и фраз, употребляемых санкт-петербужскими мошенниками», в 1903 году публикуется «Босяцкий словарь» Ваньки Беца, в 1908 году — словарь В. Ф. Трахтенберга «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы» (Ефимова, 2004: 17).
Этнографами, психологами, фольклористами описывались разные стороны тюремной картины мира. Первую музыкальную запись тюремного фольклора сделал композитор В. Н. Гартенвельд, совершивший в 1908 году поездку в Сибирь для изучения песен каторги и ссылки. Особенности тюремной психологии привлекали внимание i.
М.Н. Гернета, выпустившего в 1925 году книгу «В тюрьме», в которой был обобщен материал, собранный в тюрьмах Москвы и Петербурга. Ему же принадлежит многотомный труд «История царской тюрьмы». Народная поэзия царской каторги и ссылки оказывалась предметом исследования в целом ряде статей и диссертаций в советское время. В числе наиболее богатых по материалу Е. Ефимова выделяет работы Т. М. Акимовой, В. Г. Шоминой, С. И. Красноштанова, A.M. Новиковой, Тексты, отражающие дореволюционную тюремную традицию, записывали и публиковали В. П. Бирюков, Е. М. Блинова, А. В. Гуревич, JI.E. Элиасов, А. Мисюрев (Ефимова, 2004: 17). По известным причинам, данное литературное и, тем более, исследовательское направление в Советский период могло развиваться только вопреки официальной доктрине, следовательно, публиковаться за его пределами. В советской антропологии (этнографии) таких исследований не было. И не потому, что этнографов меньше сажали. Не меньше. Думаю, каждый из героев книги «Репрессированные этнографы» мог бы написать о лагере не меньше и не хуже Солженицына (Репрессированные этнографы, 1999). Но, развитие литературно-публицистической традиции менее зависимо от государственных структур, чем становление научной школы. Состояние в оппозиции органично природе художника. Поэтому конфронтация с государством только повышает тонус художественного произведения. У него больше возможностей быть опубликованным в самиздате, у него больший общественный резонанс, позволяющий автору существовать в собственной интеллектуальной реальности, альтернативной официальной культуре, как это было с Высоцким, или быть изгнанным из нее, как Бродский. У научной работы другая судьба. Она более тесно связана с судьбой государства. Поэтому первые собственно научные исследования по этнографии лагеря стали появляться со времени Перестройки.
В начале 1990;х годов на страницах «Этнографического обозрения» проходила одна из наиболее ярких в отечественной этнологии дискуссий, инициированная работами J1. С. Клейна (Льва Самойлова) о трансформации культуры в режимных сообществах, получившем в его трудах определение «этнография лагеря» (Клейн, 1990). Эта дискуссия затихла в немалой степени по причине недостатка новых материалов, подтверждающих, уточняющих или пересматривающих общие методологические положения, высказанные ее участниками, не получив какого-либо концептуального выражения. Важнейшей заслугой JI. С. Клейна и всех остальных участников этой дискуссии было представление феномена лагерной субкультуры в качестве предмета социальной и культурной антропологии — науки о наиболее общих, универсальных законах природы человека и общества.
Эволюция лагерной системы в России — не менее значимая часть национальной истории, чем, допустим, становление системы всеобщего среднего образования, или развитие военно-промышленного комплекса. По крайней мере, масштаб социального, экономического, культурного влияния на формирование общества вполне сопоставим. В западных научных школах антропология агрессии давно сложилась как самостоятельное направление, объединяющее методы и концепции ряда дисциплин — психологии, социологии, этнологии и т. п. Имеется целый ряд работ, в том числе и фундаментальных. Это работы, посвященные социальным структурам, естественно формирующимся в местах заключения, в армейских подразделениях и т. п. Агрессия в них нередко рассматривается как структурообразующий, нормативный и, в конечном итоге, культурогенный фактор. В их ряду следует назвать исследования неформальных социальных организаций среди заключенных (Cloward, 1960; Yochelson, Samenow, 1984), маргиналов (Briedis, 1975), полицейских (Sholnich, 1969), теоретические исследования девиантного и протестного поведения (Blau, 1960; Sociology of Deviant Behavior, 1967; Sotherland, Cressey, 1966; Dominance Relations, 1991).
Для настоящего исследования принципиально важно то, что такие фундаментальные положения теории статусных переходов, как концепции «лиминальности» (от латинского limen — «порог», «граница») и «социальной драмы», разработанные классиками антропологии Арнольдом ван Геннепом и Виктором Тэрнером (Gennep, 1960; Turner, 1957, 1968, 1977), находят точную иллюстрацию и в неуставных реалиях Советской/Российской армии. Феномен лиминальности является, по сути, следствием процессов десоциализации, которым подвергается личность в любом режимном социуме, исследованию которых посвящены работы Ирвина Гоффмана (Goffman, 1967, 1971). Ценный этнографический материал по репрезентации лиминального статуса рекрутами царской армии содержит работа Ж. В. Корминой «Проводы в армию в пореформенной России. Опыт этнографического анализа» (Кормина, 2005: 202).
Человек в социальной системе тотального контроля не может действовать как полноценный субъект информации, то есть как лицо, обращающееся с информацией творчески. Его задача — моментально выполнять адресованные ему сигналы-команды. Именно способность реактивно подчиняться — «не тормозить» — является главной «добродетелью» неофита армейского социума. Именно эта способность обеспечивает ему наименее конфликтный путь ресоциализации, но ей он изначально не владеет, поскольку его социализация в гражданской культуре протекала в противоположном направлении. В процессе социализации человек с рождения начинает усваивать сложные объемы культурно-значимой информации, развивая способность с ней оперировать и порождать новые смыслы. Степень свободы личности в социальном пространстве прямо пропорциональна объему освоенной культурно-значимой информации.
Личность как субъект культуры — это всегда аккумулятор и ретранслятор множества культурных потоков. Личность — это информационный узел, в котором связаны синхронные и диахронные потоки культуры (Арутюнов, 1989). Культура приобретает многомерный объем только в сознании личности и, отделяясь от сознания, теряет его и оборачивается плоскостью исторического текста.
Потребность личности в самовыражении и самоутверждении оживляет культурув ней проявляется динамика воспроизводства культуры в пространстве и во времени. И напротив — подавление свободы социализированной личности всегда приводит к прерыванию канала воспроизводства и развития культуры. Именно это и происходит в экстремальных группах. С точки зрения устава, исходная поликультурность личного состава является не только бесполезным, но вредным фактором, и поэтому всякое культурное разнообразие целенаправленно подавляется, что и приводит к десоциализации личности солдата. Параллельно с десоциализацией личности протекает процесс десемиотизации межличностных коммуникаций — фактически процесс распада языка. Индикатором этой деградации информационного поля является перевод правовых отношений от манипуляций со знаками и значениями к манипуляциям непосредственно с телами: физиология и физиологические акты (например, мужеложство с целью понижения в статусе) актуализируются в качестве знаков и символов статусных отношений и восполняют коммуникативную функцию, но уже на более низком семиотическом уровне. Свидетельством семиотической деградации сферы коммуникации в армии является переход всего личного состава на междометия в общении друг с другом. В этом так же проявляется коммуникативная актуализация физиологии, но уже в вербальных эквивалентах.
Упадок информационной коммуникации выражает тенденцию деградации культуры. Но это деградация до определенной степени. Люди в экстремальных группах вынуждены как-то сосуществовать, — и значит — решать проблему преодоления деструктивности. То есть налаживать конструктивные отношения. Поэтому за деградацией культуры следует ее регенерация, в ходе которой мы наблюдаем процесс формирования новых правил и норм, новой иерархии, новой системы знаков и символов, и, наконец, новых культурных традиций. Однако, новые знаково-нормативные структуры более напоминает архаические ритуалы, чем современные общественно-правовые институты. Это, не странно но, естественно, поскольку десоциализированные индивиды от современных правовых систем отстоят дальше, чем от архетипов коллективного бессознательного. Именно архетипы — структуры психики, определяющие саму возможность информационной деятельности, — являются средой и средством регенерации семиотического поля правового взаимодействия индивидов. Отсюда и то высокое социальное значение архаических знаков и символов, в проекции которых социум выводит свою иерархию.
В исследовании знаков и символов власти В. А. Попов выделяет принципиальный для нас момент: «Для человеческой культуры характерно использование знаков, служащих для управления поведением. Особенно это свойственно ранним этапам становления потестарности, когда поведение человека было исключительно стереотипизированным, и семиотизация власти играла доминирующую роль. Отсюда и особая значимость символов власти, поскольку обладание ими рассматривалось как обладание самой властью, и, как I следствие, наблюдалось отождествление символа и власти. Поэтому властный символизм оказывал непосредственное воздействие на мышление архаического человека и, прежде всего, на его иррациональные пласты. <.> Более того, в периоды общественнополитических кризисов и дезинтеграций, а также идеологических деградаций реактуализируются наиболее архаические формы проявления властных отношений. Этот феномен возрождения комплекса архаических представлений, стереотипов и норм поведения уже получил название архаического синдрома» (Попов, 1996: 12 — 13).
Дедовщина — ярчайший пример «архаического синдрома». Неуставные доминантные отношения выражены в знаках и символах, прямые аналогии которых мы находим в глубокой первобытности. В знаках и символах здесь переоформляются все сферы человеческой жизнедеятельности, вплоть до физиологии, а фазы социальной мобильности отмечаются переходными обрядами.
Так что же это? Деградация или регенерация? Распад культуры в кризисе социума или преодоление кризиса в реактуализации архетипов культуры? Очевидно и то, и это. Культурные процессы вообще не поддаются однозначным толкованиям. Переход от простого насилия к изощренным издевательствам отражает наиболее критические аспекты культурной трансформации и деградации армейского социума, в которой социо-культурные отношения являют полную меру архаизации общественного сознания. Но, с другой стороны, что такое издевательство, как не творческий подход к насилию, придающий элементарной деструктивности семиотическую многомерность? С одной стороны, это означает аккумуляцию деструктивности, с другой, — ее виртуализацию и преодоление. Все это свидетельствует об обратимости процессов культурогенеза, утрате того многовекового опыта человечества, который лежит в основе общегражданских этических и правовых систем (Банников, 2005а: 261−278).
Однако сам факт зарождения и развития альтернативных субкультур в казармах, в среде людей, подвергшихся насильственной десоциализации, являет собой свидетельство не примитивизации культуры, но механизм ее самосохранения и регенерации за счет реактуализации архетипических структур сознания. Таким образом, казарменные субкультуры — это и пример распада культуры и культурогенеза одновременно. Иными словами, те причудливые символические формы, которые принимают социальные отношения в казармах, — есть показатель не «одичания», но попыток преодоления «дикости», наступающей при переходе «пустыни безстатусности» тождественных друг-другу «строевых единиц». Механизм самосохранения культуры заложен в самой способности человека к информационной деятельности. В. Р. Кабо, полемизируя с JI.C. Клейном по вопросу. архаизации общественного сознания заключенных, сформулировал суть проблемы: «В основе этого феномена, как я думаю, лежат единые для всего человечества структуры сознания, единые как в пространстве, так и во времени. Они-то и способствуют воспроизводству в различных группах человечества в разные эпохи неких универсальных явлений в социальных отношениях и духовной культуре, сближающих современные социальные системы или отдельные явления культур с первобытными» (Кабо, 1990: 111).
Сообщества заключенных и генезис криминальной субкультуры в России (по данным русской литературы).
А.Г. Козинцев на основании литературно-публицистических источников рассмотрел развитие социальных отношений в российско-советских колониях заключенных со второй половины XIX-го века до последней четверти ХХ-го, которые определяет как «лагерную систему», и выделяет четыре этапа ее эволюции: предреформенная каторга («мертвый дом» Достоевского), пореформенная каторга (Сахалин Чехова), лагеря развивающегося социализма (ГУЛАГ), лагеря финального социализма.
1. Мертвый дом. На предреформенной каторге сохраняются все основные особенности социальных отношений финальной стадии крепостнической эпохи, — пишет Козинцев. — Хотя все носят кандалы и лоскутную одежду, сословные границы непреодолимы. Все попытки Достоевского установить с каторжанами из простонародья отношения на равных терпят неудачу: его либо отвергают, либо ему вызываются прислуживать. Об лагерной системе никто не помышляетлюди в массе забиты, богобоязненны и покорны судьбе.
2. Сахалин. <.> Обстановка становится менее патриархальной: бедняки и простоватые работают и за себя, и за других, а шулера и ростовщики пьют чай и играют в карты. Формального статуса ни те, ни другие, по-видимому, еще не имеют, однако, это уже зародыш лагерной системы.
3. ГУЛАГ. В сталинских лагерях лагерная система уже существует, хотя и не в окончательно сложившимся виде. Имеются «воры в законе», «паханы», «мужики». Не совсем ясно, являются ли интеллигенты (и вообще, «фраера») частью лагерной системы, как полагает В. Р. Кабо (Кабо 1990: 109), или же, как склонен считать А. И. Солженицын, туда входят лишь блатные. Последние в союзе с охраной терроризируют «фраеров» и паразитируют на них. С ворами в законе соперничают «суки» <.>
4. Лагеря эпохи финального социализма. В лагерях общего режима функционирует окончательно сложившаяся лагерная система, которая охватывает весь лагерный контингент. С появлением низшей касты — «чушков» (неприкасаемых) иерархия приобретает классический трехчленный характер. В пределах каждой из трех мастей («воров», «мужиков» и «чушков») выделяются более мелкие подразделения. Быть вне лагерной системы невозможно, статус каждого заключенного строго определен и формализован. <.> (Козинцев, 2004: 486 — 287). Каторга Достоевского. В общественном сознании каторжан сохраняются общероссийские, не выходящие за пределы каторги нормативно-правовые категории. Например, категория власти. Поэтому любая форма близости к начальству, в том числе и доносительство, не презирается но, напротив, уважается, внушает пиетет, страх, как и любая апелляция к власти, которая может быть только одна — верховная. Или, категория собственности. Поэтому здесь возможно спонтанное формирование класса предпринимателей — «целовальников», «ростовщиков» и пр., сколачивающих целые состояния, на которые никто не покушается.
Мы не видим в «Мертвом доме» Достоевского лагерной системы. Хотя все ее психологические типы налицо — есть и агрессивные лидеры, и слабые сломленные «человечишки», забитое покорное большинство, и все они механически локализованы. Тем не менее, каторга Достоевского, хотя уже калечит душу человека, но еще не доводит его до десоциализации. Впрочем не доводит только благодаря тому, что дореформенная каторга еще в достаточной степени интегрирована в общероссийский крепостнический и монархический режимный социум, у которого достаточно механизмов для контроля даже таких маргинальных подсистем как каторга. Религиозные ценности, судя по всему, в механически консолидированном сообществе каторжан функционируют как средство нормализации их взаимодействия. Каторга Достоевского, по своей социальной структуре — интегральная часть российского общества. В сообществе каторжан на уровне их социальных представлений в полной мере сохраняются стереотипы сословности, посредством которых общероссийская социальная структура себя воспроизводит de facto в среде, которая ее исключает de jure.
Культурного вакуума", ведущего к десоциализации личности на царской каторге не возникает. Все механизмы «обмена веществ» российской культуры работают в полной мере, хотя уже представлены как бы под увеличительным стеклом.
И под ее «увеличительным стеклом» проявляют себя все проблемные процессы и болезненные состояния. Например, странная смесь — обостренное чувство справедливости с восприятием насилия как чего-то естественного и само собой разумеющегося. Отсюда высокий уровень бытового насилия, как канал реализации социальной напряженности, возникающий вследствие непреодолимости сословных барьеров и полного отсутствия социальной мобильности.
Несмотря на отсутствие какой-либо системы неформальных доминантных отношений, Достоевский затрагивает одну из принципиальных для ее формирование предпосылок — выхолащивание цели и смысла из повседневной деятельности каторжанина. Еще не в полной мере труд бессмысленен, и тем более, пока власть его не использует в качестве инструмент пытки и издевательства, но Достоевский об этом думает и пишет о том, что если поставить целью убить в каторжанине остатки человеческого достоинства, то лучшего средства, чем бессмысленный труд не найти. Именно этобессмысленный труд, как осмысленное издевательство, и стало ресурсом управления в российской армии спустя сто лет.
В целом, сообщество царской каторги, представляет собой сколок российского общества, и не являет никаких особых форм и принципов спонтанной социокультурной самоорганизации, которые отличались бы от принципов организации российского общества в целом. «Ни в одном из романов Достоевского нет изображений блатных. Достоевский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся от них как художник», — пишет В. Шаламов (Шаламов: 2003). На мой взгляд, действительно, Достоевский не встречался с лагерной социальной системой, поскольку дает описание сохраняющейся в каторге общероссийской сословной структуры, границы между стратами которой остаются абсолютными и непреодолимыми даже на уровне заключенных. Сословные границы были более непроницаемы, чем острожные заборы: если каторжане.
Достоевского имели постоянные связи с вольным обществом хозяйственно-бытовые, коммерческие, сексуальные, то все попытки каторжного дворянина наладить контакты со своими собратьями по несчастью успеха не имели, и вызывали либо отторжение, либо желание прислуживать. Это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что на каторге альтернативная социальная система в его время еще не сложилась. Однако есть все основания разделять точку зрения В. Шаламова о том, что Достоевский не увидел на каторге «лагерную систему» вовсе не потому, что ее там не было. Об этом подробнее чуть позже.
Сахалин Чехова. Лагерная система представлена в описаниях Чехова настолько наглядно, насколько ее можно было наблюдать со стороны. Более того, Чехов в своем вполне этнографическом «Сахалине» затрагивает еще только наметившиеся вопросы, которые в конце ХХ-го века разовьются до состояния критических. А именно: О культурном вакууме в условиях механической консолидации носителей разных культур. «Здешние сельские жители еще не составляют обществ. Взрослых уроженцев Сахалина, для которых остров был бы родиной, еще нет, старожилов очень мало, большинство составляют новичкинаселение меняется каждый гододни прибывают, другие выбываюти во многих селениях, как я говорил уже, жители производят впечатление не сельского общества, а случайного сброда. Они называют себя братьями, потому что страдали вместе, но общего у них все-таки мало и они чужды друг другу. Они веруют не одинаково и говорят на разных языках. Старики презирают эту пестроту и со смехом говорят, что какое может быть общество, если в одном и том же селении живут русские, хохлы, татары, поляки, евреи, чухонцы, киргизы, грузины, цыгане?. О том, как неравномерно распределен по селениям нерусский элемент, мне уже приходилось упоминать» (Чехов, глава 15).
О деградации культуры в механически консолидированном социуме. «Оттого, что четверть всего состава ссыльнокаторжных живет вне тюрьмы, особенных беспорядков не замечается, и я охотно признал бы, что упорядочить нашу каторгу нелегко именно потому, что остальные три четверти живут в тюрьмах. Общая камера не дает преступнику одиночества, необходимого ему хотя бы для молитвы, для размышлений и того углубления в самого себя, которое считают для него обязательным все сторонники исправительных целей. Свирепая картежная игра с разрешения подкупленных надзирателей, ругань, смех, болтовня, хлопанье дверями, а в кандальной звон оков, продолжающиеся всю ночь, мешают утомленному рабочему спать, раздражают его, что, конечно, не остается без дурного влияния на его питание и психику. Стадная сарайная жизнь с ее грубыми развлечениями, с неизбежным воздействием дурных на хороших, как это давно уже признано, действует на нравственность преступника самым растлевающим образом. (Курсив мой. — К.Б.) Она отучает его мало-помалу от домовитости, то есть того самого качества, которое нужно беречь в каторжном больше всего, так как по выходе из тюрьмы он становится самостоятельным членом колонии, где с первого же дня требуют от него, на основании закона и под угрозой наказания, чтобы он был хорошим хозяином и добрым семьянином. <.> В общих камерах приходится терпеть и оправдывать такие безобразные явления, как ябедничество, наушничество, самосуд, кулачество. Последнее находит здесь выражение в так называемых майданах, перешедших сюда из Сибири. Арестант, имеющий и любящий деньги и пришедший из-за них на каторгу, кулак, скопидом и мошенник, берет на откуп у товарищей-каторжных право монопольной торговли в казарме, и если место бойкое и многолюдное, то арендная плата, поступающая в пользу арестантов, может простираться даже до нескольких сотен рублей в год» (Чехов, глава 15).
О неформальных доминантных отношениях. «С самого основания Дуэ ведется, что бедняки и простоватые работают за себя и за других, а шулера и ростовщики в это время пьют чай, играют в карты или без дела бродят по пристани, позвякивая кандалами, и беседуют с подкупленным надзирателем. На этой почве здесь постоянно разыгрываются возмутительные истории» (Главы 8, 15).
Впечатления, полученные от наблюдения трансформации человеческой природы в заключении, оказывают на писателя глубокое влияние. «Как и в „Записках из Мертвого дома“, на острове Сахалин оглупляющая и растлевающая мерзость мест заключения губит и не может не губить чистое, хорошее, человеческое. Блатной мир ужасает писателя. Чехов угадывает в нем главный аккумулятор этой мерзости, некий атомный реактор, сам восстанавливающий топливо для себя. Но Чехов мог только всплеснуть руками, грустно улыбнуться, указать мягким, но настойчивым жестом на этот мир. Он тоже знал его по Гюго» (Шаламов: 2003). Чехов так и не взял этот материал для своих художественных произведений, хотя, видимо, чувствовал всю его важность для осмысления человеческой природы, и в нескольких послесахалинских письмах прямо указывает, что после этой поездки все написанное им раньше кажется пустяками, недостойными русского писателя. Об этом размышляет Шаламов, подчеркивая крайнюю затруднительность проникновения в систему блатной мир человека со стороны.
Дно" Горького. Эту идею Шаламов еще более наглядно демонстрирует на примере Горького, писавшего о «дне» в то время, когда лагерная (блатная) система уже себя проявляла как фактор социального влияния на низовых уровнях российского общества.
Казалось бы, биографическая сторона творчества Горького должна бы дать ему повод для правдивого, критического показа блатных. Челкаш — несомненный блатарь. Но этот вор-рецидивист изображен в рассказе с той же принудительной и лживой верностью, как и герои «Отверженных». Гаврилу, конечно, можно толковать не только как символ крестьянской души. Он ученик уркагана Челкаша. <.> В Челкаше Горький, сталкивавшийся с блатным миром в юности, лишь отдал дань тому малограмотному восхищению перед кажущейся свободой суждения и смелостью поведенияэтой социальной группы. <.> Васька Пепел («На дне») — весьма сомнительный блатной. Так же, как и Челкаш, он романтизирован, возвеличен, а не развенчан. Таковы попытки изображения Горьким преступного мира. Он также не знал этого мира, не сталкивался, по-видимому, с блатными по-настоящему, ибо это, вообще говоря, затруднительно для писателя. Блатной мир — это закрытый, хотя и не очень законспирированный орден, и посторонних для обучения и наблюдения туда не пускают. Ни с Горьким-бродягой, ни с Горьким-писателем никакой блатной по душам не разговорится, ибо Горький для него прежде всего — фраер" (Шаламов: 2003). головного мира в «большой» культуре 1920;х годов. Варлам Шаламов, кому принадлежит первая, едва ли не единственная попытка анализа взаимосвязей причудливой «этнографии лагеря» и русской литературы, ставит в упрек русской литературе ХХ-го века то, что она не смогла разобраться в природе уголовной субкультуры, но овеяла ее романтическим ореолом, и тем самым санкционировала ее неписаные правила и нормы своим авторитетом. Вместо того, чтобы дезавуировать ее «мишуру» и показывать истинные лики преступного мира.
В двадцатые годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. «Беня Крик» Бабеля, леоновский «Вор», «Мотькэ Малхамовес» .
Сельвинского, «Васька Свист в переплете» В. Инбер, каверинский «Конец хазы», наконец, фармазон Остап Бендер Ильфа и Петровакажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику. Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также и всеми не упомянутыми авторами произведений на подобную тему, они имели успех у читателя, а, следовательно, приносили значительный вред.
Дальше пошло еще хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны, 120 писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале, книга издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьезно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя.
Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы перевоспитания людей уголовного мира. Увы!
Преступный мир с гуттенберговских времен и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и для читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьезнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая ее в романтическую маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого.
Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей" (Шаламов: 2003).
С точкой зрения Шаламова на «конкордат» государственной и уголовной власти созвучно мнение А. Г. Козинцева относительно природы лагерной системы: «По-видимому, к главным причинам зарождения и последующего усиления лагерной системы следует отнести либеральнопрогрессивные, а затем и лево-радикальные тенденции государственной политики вообще и либерализация лагерных порядков по отношению к уголовникам в частности» (Козинцев, 2004: 487).
Этапы развития лагерной системы в Советском Союзе ГУЛАГ. Периодизация эволюции лагерной системы предложенная А. Г. Козинцевым в целом представляется адекватной, хотя в ней имеются расхождения с другими источниками. В частности, свидетельства В. Шаламова не вполне подтверждают следующий тезис: «» С ворами в законе" соперничают «суки», роль которых возросла в годы войны благодаря поддержке лагерного начальствапри их победе воцаряется «беспредел» и лагерная система уступает место хаосу" (Козинцев, 2004: 487).
Но свидетельства Е. Гинзбург, касающиеся, правда, женских лагерей, во-первых, расходятся с версией Шаламова в том, что блатные до возникновения «сучих зон» после войны не работали. У Гинзбург они работали еще и до войны. Правда, она не имела ни возможности, ни желания вникать в устройство уголовного мира в колымских лагерях, хотя и дает не мало ценных об этом сведений. Как минимум о том, что сообщества блатных было системно организованно. Но та дистанция, которая позволяет ей в него не особенно вникать в социальные отношения блатных позволяет склоняться к мнению Солженицина относительно устройства лагерной системы, в которую пока входят лишь блатные.
В «Очерках преступного мира» В. Шаламов дает почти документальное описание процессов формирования системы «сучих зон», не как «беспредел», но как порядок, альтернативный «классическому» воровскому порядку, детально разработанный включая новые ритуалы посвящения.
Новый воровской порядок утвердился после войны во время массовых репрессий возвращающихся фронтовиков, среди которых были воевавшие «авторитетные воры», которых, согласно Шаламову, не воевавшая воровская элита отказалась принимать как равных, из-за того, что те воюя, как бы работали на государство, чем якобы запятнали свою воровскую репутацию, то есть «ссучились». Согласно новому воровскому законы, который изобрел полулегендарный персонаж по прозвищу Король, ворам позволялось работать на высокоранговых лагерных должностях, и неформально перенимать от администрации часть контролирующих полномочий. То есть в рамках воровского закона происходит легитимизация воровского руководящего элитарного положения. Что касается понятия «беспредел», то Шаламов фиксирует его как вненормативное состояние общественных отношений, которое характеризует попытки отдельной категории авторитетов -«ссучившихся», но сожалеющих о своем отступничестве, выработать новую систему отношений. В силу того, что они так и не сумели создать ничего нового, поэтому принялись разрушать обе системы -«воровскую» «классическую» и «сучью» «модернизированную». Эти противоречия никак не снижают ценности наблюдений А. Г. Козинцева и его периодизации этапов формирования «лагерной системы». Даже среди ее участников и очевидцев, таких как Шаламов и Солженицын существует не мало разногласий и подозрений в неадекватности ими приводимых свидетельств и описаний, равно как и расхождений в. оценках общенациональной, или даже метафизической роли лагерей в Российской истории. «В сталинских лагерях JIC уже существует, хотя и j j J не в окончательно сложившимся виде. Имеются „воры в законе“, „паханы“ и „мужики“. Не совсем ясно, являются ли интеллигенты (и вообще „фраера“) частью JIC, как полагает В. Р. Кабо (Кабо, 1990: 109), или же, как склонен считать А. И. Солженицын, туда входят лишь блатные. Последние в союзе с охраной терроризируют „фраеров“ и паразитируют на них. С „ворами в законе“ соперничают „суки“, роль которых возросла в годы войны, благодаря поддержке лагерного начальства: при их победе воцаряется „беспредел“ и JIC уступает место хаосу. Прежние социальные роли еще важны, но JIC начинает переламывать попавший в сферу ее влияния контингент и переформировывать его на новой основе» (Козинцев, 2004: 487).
Социальная структура и психологическое напряжение советского лагеря, формировалась на фоне демонстративного игнорирования закона во всем обществе. Сталинский террор — это объективированные в структурах внутренней политики фобии диктатора, которые становятся фобиям всего общества. Страх вселяет невозможность застраховать себя от тюрьмы ни соблюдением закона, ни близостью к диктатору. На этом фоне, подводная часть айсберга кажется более надежной, а гарантии воровского права — более честными и стабильными.
Человек, попавший в блатной мир, чувствовал себя существом не просто более благородным, но и социально и психологически защищенным. Блатной фольклор 1930;х изображает лагерное сообщество как большую патриархальную семью с такой же структурой и межпоколенной трансляцией ценностей, главная из которыхсоциальная идентичность всех людей за решеткой.
Мир перевернутый" оказывается устройством более справедливым, правильным и логичным, чем мир «большой лжи», как его характеризует Евгения Гинзбург, писавшая о своих моральных проблемах в ходе восстановления в правах в советском социуме после колымских лагерей. Сталинский террор вызвал в лагерной системе ответную реакцию — верификацию ценностей «антимира» в качестве альтернативы государственной идеологии.
Лагеря «развитого социализма». «В лагерях общего режима функционирует окончательно сложившаяся ЛС, которая охватывает весь лагерный контингент. С появлением низшей касты — „чушков“ (неприкасаемых) иерархия приобретает классический трехчленный характер. В пределах каждой из трех мастей („воров“, „мужиков“ и „чушков“) выделяются более мелкие подразделения. Быть вне J1C невозможно, статус каждого заключенного четко определен и формализован» (Козинцев, 2004: 487). Лагерная система этого периода с этнографической точностью описана в работах Игоря Губермана, Льва Самойлова (Клейна), Сергея Довлатова и других авторов. Постсоветские лагеря. Перестройка и последующие за ней события привели к трансформации всего постсоветского общества. И вот, когда процессы социальной трансформации, инверсии ценностей и конкуренций за ресурсы оказались запущены в полной мере, а либеральные ценности западной демократии оказались трудны для усвоения патерналистским инфантильным массовым сознанием, «зона» оказалась одним из ключевых и универсальных инструментов влияния на всех уровнях, включая большую политику.
Общество 1990;х переживало массовую криминализацию всех сфер жизни, связанную с переделом сфер влияния преступными группировками в городах и криминализацию быта в поселках. С другой стороны, зоны, подключенные к социальным процессам гражданского общества, стали более открытыми, в том числе и благодаря коррупции со стороны администрации, которой выгодно развитие товарно-денежных отношений в лагерях и тюрьмах.
Процессы модернизации российского общества, начавшиеся с Перестройкой, затронули и лагеря. С одной стороны, «коммерциализация услуг» в лагерях и тюрьмах все сферы жизни, связанные с распределением статусов. В постсоветское время границы лагерей стали более проницаемыми, причем в обоих направлениях: зоны стали интегрироваться в общество, охватывая и подчиняя целые регионы. Произошло смешение ценностей и новые возможности «открытого общества» подорвали воровские устои, основанные на принципах «закрытого общества». В социальных архетипических отношениях заключенных завелись «дрожжи» модернизации, замешанные на финансовых возможностях, благодаря которым любой заключенный, самый обычный «фраер», «не отсюда пассажир» (то есть, «не вор», не «авторитет» и не «в законе») может весь срок провести как «шоколад в шоколаде», купив у начальства «теплую» должность библиотекаря, хлебореза, фельдшера.
В тюрьмах постсоветской России за деньги стало можно «самореализоваться» как в «сучей» зоне, так и «традиционной», купить все, и это не могло не сказаться на перераспределении векторов силы. В постсоветских социальных трансформациях на зоны стали приходить «новые блатные», плотно поддерживаемые с воли новообразованными криминальными сообществами. Решающую роль стали играть не воровские законы и традиции, а деньги и связи, обеспечивающие доступ к ресурсам — любым, — от природы до власти. Коммерческие отношения подорвали саму основу блатной субкультуры, опиравшейся на вполне рыцарские кодексы и комплексы. В постсоветское время появились так называемые «апельсины» — воры в законе, купившие этот титул за деньги.
Процессы модернизации и трансформации лагерного сообщества привели к его большей открытости. Появились первые признаки некоторого изменения отношения к «опущенным». Эта неоднозначность может служить еще одним аргументом в пользу способности изолированного жестко стратифицированного сообщества к трансформации по мере ослабления изоляции. Новые социальноэкономические энергии, поступающие из вне, создают в режимной среде возможности альтернативных для тех, в отношении которых, сложившейся традицией прописаны табу и предписаний.
В заключение повторим основные выводы. Кризис и трансформация культуры в армейском социуме является выражением распада информационного поля, то есть проблема системно организованного насилия — это проблема семиотическая.
Ситуация толпы, хаотично набранной из индивидов, социализированных и сформировавшихся в разных культурных, социальных, этнических, религиозных, образовательных и прочих традициях, приводит к тому, что ни одна из информационно-коммуникативных и ценностных систем не является общественно, значимой. С другой стороны, персональные ценности или то, что значимо для каждого человека в отдельности, не имеет абсолютно никакого значения для группы в целом.
Сложные информационные построения, мировоззренческие модели и поведенческие программы, которыми люди до армии руководствовались в своей культурнойсреде, перестают работать, то есть становятся непонятными и предельно упрощаются. Деградация средств коммуникации выражается в переходе от воздействия на ценности адресатов, к воздействию на их тела при передаче информации.
Снятие или переадресация ответственности и тотальная автоматизация деятельности делает мораль и интеллект не востребованными в системе актуальных факторов социальной адаптации (Асмолов, 1996).
Тенденция распада и упрощения информационных систем приводит к трансформации всех областей культуры, в результате которой реактуализируются архаические формы доминантных отношений, которые проявляются в целом комплексе статусных симоволов и поведенческих стереотипах, близких к первобытным.
Архаизация общественного сознания непосредственно связана с процессами десоциализации и ресоциализации личности.
Лиминальность (Turner, 1977) представляется следствием десоциализации (Goffman, 1967; Goffman, 1971; Goffman and Social Organization Studies, 1999). Десоциализирующие факторы полностью соответствуют признакам, характеризующим положение человека в армии:
— изоляция от внешнего мира;
— постоянное общение с одними и теми же людьми, с которыми индивид работает, отдыхает, спит;
— утрата прежней идентификации, которая происходит через ритуал переодевания в спецформу;
— переименование, замена старого имени на «номер» и получение статусазамена старой индивидуальной обстановки на новую, обезличенную;
— отвыкание от старых индивидуальных привычек, ценностей, обычаев и привыкание к новым общим;
— утрата свободы действий.
То воспитание и тот культурный опыт, которые человек получал с детства, определяется противоположными факторами социализации: отсутствие изоляции от внешнего мира, общение с разными людьми, укрепление прежней индентификации, широкая свобода действий, — не могли подготовить его к выживанию в подобных условиях. Поэтому в экстремальных группах индивид не просто дезориентируется, но нравственно деградирует.
С другой стороны, нравственная деградация в армии — понятие условное, так как межличностные отношения в лиминальных и десоциализированных сообществах протекают за пределами применения понятия «нравственность» в общечеловеческом значении этого слова, так как здесь в процессе ресоциализации формируется своя нравственность и своя система ценностей, отличная от общегражданской.
Процессы десоциализации и нравственной деградации мы соотносим с архаизацией общественного сознания в экстремальных группах, что вовсе не означает, что мы считаем архаические общества десоциализированными и безнравственными. Это было бы ошибкой. Архаические культуры нельзя называть примитивными. Они сложны и совершенны, поскольку даже самые «дикие» на наш взгляд их элементы направлены на обеспечение полноценной жизни своих обществ, их расширенное количественное и качественное воспроизводство.
Под архаизацией сознания в данном случае мы полагаем возврат социои культурообразующих механизмов к первичному уровню знаковых систем, на котором происходит знаковое переоформление не только элементов системы жизнеобеспечегния, но самого тела и физиологии.
Знаковое применение физиологии и физиологических актов в области социально-статусных отношений характерен и для животных. Это заставляет сделать вывод о глубине трансформации культуры в экстремальных группах, которая соответствует нулевой фазе социогенеза.
За традиционными и любым архаическим обществами стоят тысячелетия их историко-культурного развития в плане совершенствования их традиций от «нулевой фазы социогенеза» до их актуального и оптимального уровня. (Если, конечно, ограничиваться простой эволюционистской схемой.).
От окончательного распада сознание спасают его внутренние механизмы самосохранения, под которыми можно понимать фундаментальные принципы познавательной активности и, в первую очередь, — принцип информационной ассиметрии, реализующийся в феноменологии символа. Ассиметрия предполагает неравенство предмета и его значения, чем обусловлена феноменология таких категорий, как смысл и системность, а также и феноменология самой информации, которая заключается в ассиметричном состоянии реальностей и самой познавательной деятельности.
На данной архетипической основе в армии начинается регенерация культурных норм, которая, тем не менее, не может принять совершенный вид потому, что армейские традиции остаются культурным субстратом: составляя среду ресоциализации десоциализированных неофитов, они не являются средой первичной социализации личностей.
Все это говорит о том, что в сознании человека заложены механизмы самосохранения культуры, которые проявляются в архетипах бессознательного, как системный принцип организации познавательной активности. В формировании неуставного права представлена не столько реставрация традиционных правовых систем, сколько кристаллизация новых, однако на основе базовых принципов информационной активности, обеспечивающих саму возможность системообразования.
Среди этих принципов выделю два, которые представляются фундаментальными:
1 .Принцип системного порядка. Обуславливает возможность восприятия мира как объема информации.
2.Принцип информационной ассиметрии. Обуславливает концентрацию информационных объемов в поле символа, то есть преобразует информацию о вещи в бесконечной многомерности ее смысловых значений.
Первичная социальная стабилизация осуществляется в алгоритмах элементарной психической стабилизации, которые остаются неизменными (Коул, 1998: 63−64). Видимо, в силу своего семиотического постоянства, а также коммуникативного и системообразующего потенциала, элементарные психические процессы сохраняют резерв возможностей для регенерации культурных связей, даже в ситуации распада культурной традиции. И мы видим результаты этого процесса, протекающего параллельно с процессами ресоциализации. Мы видим рождение новых правил, новых традиций, новых обычаев, нового фольклора, изобразительных канонов. И мы видим, как в этих новых формах мировосприятия проявляются черты, хорошо знакомые этнографу по предмету его работы с архаическими и традиционными культурами, — те, которые в обществах цивилизационной культуры представлены в рудиментарных формах и требуют реконструкции.
Доминантные отношения в армии представляют собой лишь один аспект ее глубокого антропологического кризиса, предельно обостряя проблему прав человека, как права на культуру.
Действующие сегодня официальные системы правового контроля в армии подчинены задаче сокрытия реальной картины преступлений против личности. Поэтому невозможно получить точную статистику убийств и самоубийств в армии на почве статусных отношений, то есть по причинам, связанным с трансформацией сознания в процессе десоциализации личности. Проблема даже не в статистике. Статистическая обработка социальных явлений теряет смысл в момент их фольклоризации. Основная проблема современной российской армии заключается в фундаментальной антропологической проблеме — в обратимости принципов культурогенеза' в режимных сообществах, открывающихся в патологическом и тотальном доминировании неформальных принципов самоорганизации социума над формальными.
Это обстоятельство выводит проблему антропологических метаморфоз в российской армии на уровень проблем глобальной безопасности, поскольку столь глубокие процессы трансформации культуры уже стали исторической закономерностью, и это в воинских формированиях, вооруженных самым современным оружием.