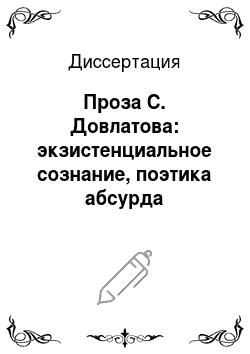С. Довлатов (1941 — 1990) — один из известнейших и самобытных русских писателей второй половины XX века. Литературное наследие этого автора невелико по объему — оно представлено четырьмя томами прозы, что не мешает книгам С. Довлатова оставаться в числе не только самых читаемых, но и неоднозначно воспринимаемых читательской аудиторией произведений.
В критике и литературоведении продолжаются споры о месте писателя в мировом литературном процессе. Одни настаивают на принадлежности творчества С. Довлатова к классике, другие относят его книги к разряду хорошей массовой литературы. Такая разнородность мнений связана с тем, что «у Довлатова нарушена, смещена грань между литературой и нелитературой"1. Отношение к довлатовскому творчеству как явлению паралитературы зачастую строится на кажущейся легкости, юмористичности, неглубокости произведений. Например, А. Зверев с сожалением пишет, что читателям «кажется, будто перед ними всего лишь легкий язвительный фельетон, этакий сериал, составленный из превосходно рассказанных анекдотов. Изящно, непринужденно, остроумно, и сам рассказчик обаятелен необыкновенно, и в цепочке трагифарсовых нелепостей, из которых состоит его биография — ленинградского ли, таллиннского или заокеанского периода — кто же не различит нечто типичное и характерное для времени. Только, в строгом смысле слова, это, разумеется не литература. Это прелестная и увлекающе-отвлекающая от изнурительного повседневья юмориста-ка». А. Генис отмечает, что простота, отличающая стиль Довлатова, была опасна для писателя: «Несмотря на всю простоту, а вернее, именно благодаря этой простоте, в Довлатове могут увидеть писателя не того уровня, которого он заслуживает. Его могут принять за юмориста, за хохмача, за эстрадника, за незатейливого обозревателя нравов. Могут перепутать его простоту с поверхностностью. Могут не заметить в его поверхностности продуманной позиции.
1 Курганов Е. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // С. Последняя книга: Рассказы, статьи.
СПб.: Азбука — классика, 2001. С. 495. 2.
Зверев А. Записки случайного постояльца // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб.: Азбукаклассика, 2001. С. 357.
Могут эту позицию счесть безответственностью. Могут назвать безответственность легковесностью и бездумием. Короче, к Довлатову могут отнестись не всерьез"1.
Нередко к этому писателю относятся не то чтобы не всерьез, но весьма поверхностно, и причина такого «несерьезного» подхода к его творчеству, по мнению А. Зверева в установившейся репутации Довлатова как повествователя, привлекающего чем угодно: отточенностью стиля, занятностью фабулы, изобретательным юмором, но только не своеобразием мыслей. Остроумие, изящество, юмор замечает в произведениях Довлатова каждый, но не каждый, а только вдумчивый и тонко чувствующий читатель может увидеть нечто несравненно большее, нежели легкость стиля и анекдотичность, понять, что Довлатовавтор, «тема которого — хаос"3. В противовес словам о творчестве Довлатова как «легком чтиве», «повседневной беллетристике» звучат слова о том, что Довлатов является последним классиком советской литературы, и останется таковым, когда исчезнет все остальное4, что «как всякое подлинное искусство» его проза «уникальна"5.
Истоки разногласий, когда критики и литературоведы высказывают об одних и тех же вещах прямо противоположные мнения, а читатели либо до слез смеются «от первой до последней страницы"6, либо, способные угадать, «почувствовать» весь айсберг, увидев лишь его вершину (знаменитая техника письма Хемингуэя), кроются в отношении к Довлатову-художнику, от историй которого одновременно «и больно, и смешно"7. Основной источник разногласий и разночтений, возможно, кроется в совершеннейшем отказе Довлатова от морализаторства, от гиперморализма, «то есть прямолинейного нравственного.
1 Генис А. Первый юбилей Довлатова // Звезда. 1994. № 3. С. 166. Зверев А. Шаг от парадокса к трюизму // Стрелец. 1995. № 1.
3 Лэрд С. Ненавязчивые истины // Звезда. 1994. № 3. С. 204.
Толстихина А. Нормальный человек в русской словесности // Общество. 2000. 24 августа.
Каргашин И. Освобожденное слово // О Довлатовс / Сост. Е. Довлатова. Тверь: Другие берега, 2001. С. 102. Зверев А. Записки случайного постояльца // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб.: Азбука классика, 2001. С. 357.
7Иванова С. Нелишний человек // О Довлатове / Сост. Е. Довлатова. Тверь: Другие берега, 2001. С. 90. пафоса"1, который, как считает В. Ерофеев, нередко становился «серьезной проблемой русской литературы, болезнью предельного морального давления на читателя"2, а также в отсутствии стремления навязать свое понимание происходящего, научить нас, что хорошо, а что плохо. Еще J1. Шестов считал задачей писателя не отстаивание каких-либо убеждений или призывание читателя к определенной жизненной позиции, но стремление «идти вперед и делиться с читателями своими новыми впечатлениями. Так что, в сущности, вопреки принятому мнению, он совсем и не обязан доказывать [курсив мой — Ю. Ф.] что-либо"3. Довлатов и не пытается что-то доказывать. Он стремится быть «по ту сторону добра и зла» (Ф. Ницше), сводя смысл этого постулата не к ницшеанскому призыву к «вседозволенности» и «не боязни» совершить любой поступок — даже преступление, а к гениальному пушкинскому стремлению «к последней высшей объективности», к его готовности «принять и выразить любую точку зрения», к его сочувствию «движению жизни в целом"4.
Эта позиция сказывается на принципиальном разведении Довлатовым понятий «писатель» и «рассказчик». В интервью «Дар органического беззлобия на вопрос: «Что вы сами скажете о себе как о писателе?», -он отвечает: «Не думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами — он пишет о том, во имя чего живут люди, как должны жить люди. А рассказчик пишет о том, КАК живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема, кто он: рассказчик или писатель? Во времена Чехова еще существовала эта грань» (4,293).
Часто Довлатов скрывается за маской рассказчика анекдотов, как бы не претендуя ни на что серьезное в своем творчестве. Но «все глубокое любит.
1 Ерофеев В. Русская проза Владимира Набокова // Набоков В. В. Собрание сочинений. В 4 т. Том I. М: Издательство «Правда», 1990. С. 4. Ерофеев В. Поминки по советской литераторе // Русская литература XX века в зеркале критики. М.: Академия, 2003. С. 42.
3 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: Опыт адогматического мышления. Л.: Издательство ленинградского университета, 1991. С. 53.
Довлатов С. Собр. соч.: В 4 т. / Сост. А. Ю. Арьев. — Спб: Азбука-классика, 2003. Т. 2. С. 74. Произведения С. Довлатова цитируются по данному изданию с указанием тома и страниц в круглых скобках в тексте. маску"1. Эта особенность довлатовского стиля является причиной множества самых противоречивых высказываний, начиная с утверждения, что у Довлатова нет никакой метафизики, и что он вообще не увлекался философией, до признания его «катастрофического мироощущения» и указания на интерес к творчеству А. Шопенгауэра. Так, А. Генис усматривает в творческой позиции Довлатова бунт против литературы идей, против любого метафизического подтекста, против глубины вообще. По мнению критика, Довлатов скользил по поверхности жизни, принимая с благодарностью и доверием любые ее проявления, стремился очистить словесность от литературы, в результате чего у него осталась чистая пластика художественного слова. Однако одной «пластики», на которую указывает А. Генис, вряд ли достаточно, чтобы стать писателем, подобным Довлатову. Вайль и Генис, впрочем, по определению самого Довлатова, «имеют рижское происхождение и усеченный взгляд на литературу как на веселое и приятное занятие зажиточных нарядных людей. Я уже говорил и писал когда-то: отсутствие чувства юмора — трагедия для литератора, но отсутствие чувства драмы (случай Вайля и Гениса) тоже плохо"3.
А. Арьев, отмечая, что «Сергей Довлатов в философии был, что называется, шероховат"4, свидетельствует, что «минимум одного философа он (Довлатов) читал с вниманием"3. Это был А. Шопенгауэр, философ, который наравне с С. Кьеркегором оказал большое влияние на характер и дух философии 20 века, в особенности на те ее направления, которые получили название экзистенциализма и «философии жизни». Что привлекло писателя, у которого осталась лишь «чистая пластика художественного слова» в трактатах немецкого философа?
Возможно, интерес Довлатова к А. Шопенгауэру связан с тем, что последний не занимался абстрактными, малопонятными рассуждениями о гло.
1 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Рассуждения о счастливой и достойной жизни. Мн.: Харвест, 1999. С. 298.
Теннс А. Первый юбилей Довлатова // Звезда. № 3. 1994. С. 167.
Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. С. 242.
Арьев А. История рассказчика // И. Сухих. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб.: РИЦ «Культ — Ин-форм — Пресс», 1996. С. 8.
5Там же. С. 8. бальных философских вопросах и проблемах, а обращался непосредственно к обыкновенному человеку, для которого представление о некой высшей объективной справедливости, о разумности бытия — это фантазия. Никакой объективной истины и справедливости в мире нет, а есть страх перед смертью. Всем известна поговорка: «Хорошо то, что хорошо кончается». А чем кончается жизнь? То есть эта философия изначально пессимистична. Довлатов подтверждает приверженность к такому взгляду на бытие своим творчеством: «Я начал с кладбища, потому что рассказываю историю любви» (2, 42). Единственное, что, по мнению Шопенгауэра, заставляет человека жить, — это воля, которая «сама по себе бессознательна и представляет собой лишь слепой, неудержимый порыв"1. И эта иррациональная воля к жизни, которую нельзя объяснить никакими разумными причинами, не оставляет человека, пока он живет. И мир, в котором Мировая воля «реализует себя, постоянно перевоплощаясь и развоплощаясь», по мнению В. Заманской, «самое большое экзистенциальное открыл тие Шопенгауэра» .
Шопенгауэр, исходя из собственного представления о существовании, о разуме, воле и нравственности, устанавливает следующее правило, чрезвычайно близкое мировосприятию Довлатова: «приходя в какое-либо соприкосновение с человеком, не входить в объективную оценку его по его стоимости и достоинству, следовательно, не входить в рассмотрение ни порочности его воли, ни ограниченности его рассудка и превратности его понятий, ибо первая может легко возбудить к нему ненависть, а последняя — презрение, но исключительно обратить внимание на его страдания, его нужды, опасения и недуги. Тогда постоянно будешь чувствовать свое сродство с ним, станешь ему симпатизировать и вместо ненависти или презрения возымеешь к нему сострадание."3. Именно так относится к своим героям Довлатов: он чувствует «сродство» с ними, они дороги ему, эти маленькие, смешные человечки с их неудавшейся жиз.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопсгауэр А. Собр. соч: В 5 т. Т. 1. М: Московский клуб, 1992. С. 296.
23аманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 65.
3Шопснгауэр А. Афоризмы и максимы. М.: ACT, 2003. С. 323 — 324. нью, невоплощенными мечтами, мелкими заботами. Писатель далек от того, чтобы представить в своих книгах образ Героя, поскольку «нет ангелов и нет злодеев. Нет грешников и праведников нет. Да и в жизни их не существует» (1, 235). Как пишет Елена Скульская, Довлатов «брал крох, крошек, крошечных людей и, помещая их чайной ложкой аберрации и переливая в блюдце оптического обмана, превращал в своих персонажей"1, в своих нелепых, часто опустившихся «маленьких» героев, по отношению к которым он не боялся выражать живое сострадание и участие.
Экзистенциальное отношение Шопенгауэра к действительности проявляется предельно откровенно: «В мире-то ведь везде выбирать не из чего: его наполняют нужда и горе, а тех, кто ушли от этого, из-за всякого угла сторожит скука. К тому же, в нем царит обыкновенно низость, и глупости предоставлено.
— у первое слово. Рок жесток и люди жалки". Эти слова перекликаются со строками американского поэта Уоллеса Стивенса: «Мир уродлив и люди грустны», которые, по мнению Иосифа Бродского, можно «с полным правом предпослать в качестве эпиграфа» собранию сочинений Довлатова: «Это подходит к ним по содержанию, это и звучит по-Сережиному"3.
В довлатовском творчестве принципиальное значение как выразитель экзистенциального сознания приобретает категория стиля, поскольку «именно стиль материализует и обнаруживает диалектику и механизмы взаимопротекания художественного сознания эпохи и художественного мышления писателя, которое одновременно воплощает и творит типы художественного сознания его времени"4.
Простота стиля Довлатова, о которой так много говорят все, кто знаком с его творчеством, возможно, связана с попыткой преодоления абсурда. Истоки ее не следует искать в бездумности и легкомыслии писателя, поскольку обман.
1 Скульская Е. Большой человек в маленьком городе // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб.: Азбука — классика, 2001. С. 413.
Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. М.- ACT, 2003. С. 37.
Бродский И. «О Сереже Довлатове» // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб.: Азбука — классика, 2001. С. 300.
Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий. М.: Флинта: Наука, 2002. С. 20. чивая простота довлатовского стиля раскрывается перед вдумчивым читателем «как преодоленная, укрощенная сложность"1. Писатель как бы укрощает сложность мира, он облекает хаос в простые формы, пытается упорядочить его — хотя бы внешне, чтобы таким образом, быть может, «преодолеть трагизм существования».
Довлатовский стиль — источник бесконечных споров и разнообразных мнений. Одни видят в нем следование американской «технике письма» и сравнивают Довлатова с Э. Хемингуэем, У. Фолкнером, Ш. Андерсоном, другие говорят о приверженности писателя к русской литературной традиции, третьи настаивают на проявлении в прозе Довлатова влияния как русской, так и западной литературы: «Сергей Довлатов — русский писатель именно пушкинской традиции, но также он — из поколения „шестидесятников“, захваченных американским стилем». Последнее суждение кажется нам более верным, однако не следует забывать, что, как всякий талантливый писатель, который стремится привнести что-то новое и свое в литературу, Довлатов, по признанию его художественного двойника в книге «Зона», «всегда мечтал быть учеником собственных идей» (2, 149). Искать источник довлатовской уникальности нужно «не во влияниях, а в личности, которая оказалась такой космополитичной, что выразила себя в уникальном стиле. Этот стиль оказывается близким и русским, и американцам. И звучащие у Довлатова темы — «маленького человека», «лишнего человека» — излюбленные темы и русской, и американской литератур"3. Близость к американской технике письма, с ее лаконичностью и простотой, проявляющимися в подборе простых, но полновесных, значимых слов, несомненна, но одновременно это и влияние русской традиции, ибо «довлатовская посюсторонность, конкретность мироощущения, обыденность, прорастающая бытийным содержанием, восходит к акмеистиче Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб.: РИЦ «Культ-информ-пресс», 1996. С. 95. «Пахомова Н. Наш человек в «Ньюйоркере» // Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / Сост. А. Ю. Арьев. СПб.: Издательство ж) рнала «Звезда», 1999. С. 311−312.
Пахомова Н. Наш человек в «Ньюйоркере» // Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / Сост. А. Ю. Арьев. СПб.: Издательство ж) рнала «Звезда», 1999. С. 312. ской традиции русского языка, обреченного «на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории» «1.
Только время определит истинное место творчества С. Довлатова в литературной иерархии, поскольку параметры, по которым определяют степень художественности и эстетической значимости, не абсолютны, так как со сменой культурно-исторических эпох они могут кардинально измениться, ибо «искусство не является замкнутой областьюне существует ни четких границ, ни строгих критериев, которые отличали бы искусство от того, что находится за его пределами"2.
Еще один источник споров и разногласий — взаимоотношения автора и его героя, повторяющего основные моменты биографии С. Довлатова. Неизбежно возникает вопрос, в какой степени довлатовский герой отражает мысли и чувства самого автора, ведущего на страницах своих книг тонкую «игру реальности с вымыслом, в центре которого он сам — писатель Довлатов и литературный герой, которым он прикрывается, то целиком сливаясь с ним, то от него отталкиваясь"3. Как писал А. Генис, «книга превращается в текст, автор — в персонажа, литература — в жизнь"4. Но важно разграничить рассказчика как «носителя речи, открыто организующего своей личностью весь текст"5 и автора-творца. По мнению М. М. Бахтина, «» образ автора», если под ним понимать автора-творца, является contradictio in adjectoвсякий образ — нечто всегда созданное, а не создающее"6. Создание литературного образа, даже на основе биографических материалов, предполагает определенную степень искажения, ибо художественный мир не тождествен миру реальному, миру создателя, следовательно, «образ автора не есть автор-творец"7. Поэтому в данной работе исследуется.
1 Абдулласва 3. Между зоной и островом // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 472. Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. С. 52.
3 Батчан А. «Новые американцы» в поисках Довлатова // О Довлатовс / Сост. Е. Довлатова. Тверь: Другие берега", 2001. С. 75.
4 Генис А. Сочинения: В 3 т. Т. 2: Расследование. Екатеринбург: У — Фактория, 2003. С. 18 — 19.
Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М.: Просвещение, 1972. С 33 — 34.
6 Бахтин ММ. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 405.
Теория литературы: В 2 т. Т.1 / НДТамарчснко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М.: Академия, 2004. С. 245. прежде всего сознание главного героя произведений С. Довлатова. Выявлению сходства сознания героя с мировидением его создателя помогают «Интервью на литературные темы» и другие высказывания Довлатова, а также мемуары его друзей.
В диссертационном исследовании выявляются особенности типов героев, нашедших воплощение в произведениях С. Довлатова. Особенности отражения действительности, ее преломления в художественном мире произведений Довлатова чрезвычайно занимает критиков и литературоведов. Говорят о «ложном автобиографизме», о том, что жизнь в довлатовских книгах «живее, чем в жизни», что герои даны как «через увеличительное стекло». Истоки подобного отображения действительности усматривают «в мягком, хотя порой и убойном, юморе» (3. Абдуллаева), в американской технике письма, в том, что Довлатов «эстетизировал жизнь», «выстраивал лучшие слова в лучшем порядке» (JI. Лосев), что у него сливались, взаимопроникали «искусство рассказывания» и письмо (Б. Рохлин) и т. д.
Довлатовская проза, однако, с точки зрения стиля органично вливается в русло абсурдистского истолкования действительности. Как писал А. Камю, «при любой избранной им точке зрения художник не может обходиться без общего для всех творцов принципа стилизации, основанной как на реальности, так и на духе, который придает ей форму. Путем стилизации творческий порыв преображает мир, причем всегда делает это с незначительным отклонением или смещением, которое отличает как подлинное искусство, так и бунт. Действительность может искажаться с помощью «увеличительного стекла». или, наоборот, путем абсурдной минимизации персонажей, присущей американскому роману, — но какая-то степень искажения неизбежна"1.
В диссертационном исследовании рассматриваются три типа довлатовских героев. Во-первых, герой, близкий автору биографически, но отделенный от него, не сливающийся с образом автора — Алиханов («Зона», «Заповедник»). Во-вторых, герой по фамилии Довлатов (Далматов), когда границы между об.
1 Камю А. Бушующий человек // Камю А. Миф о СизифеБунтарь. Мн.: ООО «Попп)ри», 2000. С. 488 — 489. разом героя и его создателем становятся зыбкими и расплывчатыми, почти неуловимыми («Ремесло», «Марш одиноких», «Филиал»), В-третьих, «другой» герой, не имеющий внешних примет биографического сходства с автором, действующий в условной, метафорической реальности — Джон Смит («Ослик должен быть худым»), Красноперов («Иная жизнь»), персонажи из «Демарша энтузиастов». Всех этих героев объединяет внутреннее ощущение трагической сущности мира, стремление и невозможность преодолеть одиночество, чувство собственного духовного сиротства, проявляющееся во внешних действиях героев как безостановочный и безрезультатный поиск пути к Дому, которого они никогда не имели.
Актуальность работы видится в обращении к исследованию экзистенциального сознания довлатовского героя, творчества С. Довлатова как отмеченного печатью экзистенциального мироощущения. Изучение поэтики с целью выявить миропонимание писателя и способы выражения этого миропонимания представляется научно актуальным.
Объект исследования — произведения С. Довлатова «Зона», «Заповедник», «Невидимая книга», «Невидимая газета», «Марш одиноких», «Филиал», «Ослик должен быть худым», «Иная жизнь», в меньшей степени — «Компромисс», «Чемодан», «Наши», «Демарш энтузиастов», «Записные книжки».
Предметом исследования становятся проявления экзистенциального сознания и черты поэтики абсурда в прозе С. Довлатова.
Цель исследования — на основе анализа параметров экзистенциального сознания и принципов поэтики абсурда в мировой литературе и философии XX века обосновать правомерность рассмотрения прозы С. Довлатова как моделирующей экзистенциальную картину мира, отражающей черты поэтики абсурда.
Цель исследования определила решение следующих задач:
1) обнаружить особенности проявления экзистенциального сознания в произведениях С. Довлатова;
2) определить границы и возможности сознания человека в познании внешней по отношению к нему реальности, воспринимаемой как «иная жизнь» и в связи с этим выявить типологию героев;
3) исследовать поэтику, воссоздающую абсурд мира;
4) проследить способы воплощения абсурда на уровне: а) пространственно-временной организации текстовб) сюжетостроенияв) мотивной структуры произведенийг) культурных аллюзий и пр.
Методологической основой работы являются.
— исследования отечественных ученых, посвященные определению образу автора в произведении, проблеме взаимоотношений автора и его «биографического» героя, организации текстового пространства, типам художественного сознания и др. (М.М. Бахтин, Ю. Б. Борев, В. В. Бычков, А. Б. Есин, В. В Заманская, С. Д. Кржижановский, Б. О. Корман, А. В. Ламзина,.Ю. М. Лотман и др.);
— труды русских и зарубежных философов и писателей-экзистенциалистов (Н.Бердяев, А. Камю, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет, Б. Паскаль Ж. П. Сартр, Э. Фромм, А. Шопенгауэр, К. Ясперс, Л. Шестов и др.);
— работы, посвященные творчеству С. Довлатова, в которых рассматриваются своеобразие жанровой системы писателя, проблема соотношения автора и героя, особенности юмора и иронии как отличительные приметы мироощущения и стиля Довлатова и др. (3. Абдуллаева, А. Арьев, И. Бродский, П. Вайль А. Ге-нис., Н. Елисеев, А. Зверев И. Каргашин, В. Куллэ, Н. Крыщук, Е. Курганов, М. Липовецкий, Л. Лосев, К. Мечик-Бланк, В. Топоров, Б. Рохлин, Е. Скульская, И. Смирнов-Охтин, И Сухих, Е. Янгидр.)1.
Нами применяются следующие методы литературоведения: сравнительно-сопоставительный, историко-литературный, психологический, целостного анализа текста.
1 Гснис А. Довлатов и окрестности. М: Вагриус, 2001; Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб.: Азбука-классика, 2001; Малоизвестный Довлатов. Сборник. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 1999; О Довлатове / Сост. Е. Довлатова. Тверь: Другие берега, 2001; Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / Сост. А. Ю. Арьсв. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 1999; Соловьев В., Клепикова Е. Довлатов вверх ногами: Трагедия веселого человека. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 2001 и др.
Научная новизна исследования определяется тем, что творчество С. Довлатова впервые рассматривается в контексте экзистенциальной литературной традиции, впервые довлатовский герой характеризуется как носитель экзистенциального сознания, которое само по себе представляет «метасодержательную категорию», которую можно охарактеризовать, как феномен «общечеловеческий, наднациональный и надысторический"1.
Экзистенциальное сознание как парадигма художественного мышления не является «» открытием" XX века, ибо на самом деле оно есть «вечное» сознание любой настоящей литературы"2. Человек в его «экзистенции» всегда интересовал художниковXX век лишь более остро и глубоко обозначил проблему существования личности один на один с жизнью и смертью, в мучительных размышлениях о смысле собственного бытия в ситуации осознания временности своего пребывания в мире. Причина такого пристального внимания к человеку в «пограничном» состоянии кроется в том, что прошедшее столетие оказалось «пространственно-временной ситуацией, располагающей ко злу» (2, 74).
Проявления экзистенциального сознания в русской литературе — не исключение, а закономерность, недаром предтечей экзистенциализма как философского направления, осмысленного в художественном плане, многие считают Ф. М. Достоевского, «лучшего прозаика всех времен и народов"3, как отзывался о нем в одном из писем С. Довлатов. В своих произведениях великий русский романист отразил «ощущение кризисное&tradeжизни, способность увидеть своего л героя «за последней чертой» бытия», в той самой «пограничной ситуации», которая характерна для произведений писателей-экзистенциалистов XX века. Человек Достоевского мечется в поисках ответов на смысложизненные вопросы, среди которых один из важнейших — «что есть счастье?», и доступно ли счастье человеку, осознающему весь ужас подстерегающего человечество небы.
Заманская В. В. Русская литература первой трети XX века: проблема экзистенциального сознания: Монография. Екатсринб) рг: Изд-во Урал, ун-таМагнитогорск, 1996. С. 16.
2 Там же. С. 8.
3Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям. — СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. С. 128.
Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий. М.- Флинта: Наука, 2002. С. 57. тия: «.я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, — не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля"1.
В полной мере экзистенциализм, философские истоки которого коренятся в работах датского философа С. Кьеркегора («Страх и трепет», «Понятие страха», «Болезнь к смерти»), проявляет себя в условиях социальных кризисов и потрясений XX века: в 900-е — 20-е г. г. в России, после Первой мировой войны в Германии, в Америке, в период Второй мировой войны во Франции, то есть в те эпохи, когда людям приходилось не жить, но стараться выжить в «пограничной ситуации» между жизнью и смертью, «грозящего завтра нуля», в атмосфере абсурда и кажущегося бессмыслия самого человеческого существования. Эта атмосфера стала почвой для творчества русских философов и писателей Н. Бердяева, JI. Шестова, Ф. Сологуба, JI. Андреева, А. Белого, Г. Иванова, В. Набокова и др., французских экзистенциалистов А. Жида, А. Мальро, Ж. Ануя, А. Камю, Ж. — П. Сартра. Ощущение потерянности в страшном «обезбоженном» мире отражается в произведениях американских писателей «потерянного поколения» — Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Дж. Дос Пассоса, Э. Э. Каммингса и др., а также в романах, изданных в Европе, но по времени и «духу потерянности» примыкающих к американской прозе — «На западном фронте без перемен» Э. М. Ремарка, «Смерть героя» Р. Олдингтона. Творчество Довлатова в этой связи никем не рассматривалось.
Философию экзистенциализма характеризуют по-разному: и «единственным живым направлением мысли, наряду с марксизмом и христианством» (Н. Бердяев), и бескачественным диалогом, который «начинается со времён Каина.
1 Достоевский Ф. М. Собр. соч.- В 9 т. Т. 9. Кн. 1: Дневник писателя / Ф. М. Достоевский. М: ООО «Издательство Астрсль», ООО «Издательство ACT», 2004. С. 467. и Авеля и заканчивается в парижском кафе" (Меллер), и «прекрасной бессмыслицей» (М. Хайдеггер), и «величайшей нелепостью» (J1. Шестов). Это философия нового отношения к миру, к человеку, потерявшемуся в огромном пространстве и ищущего путь к себе в тот короткий отрезок времени, что положен ему на земле: «.Я размышляю о мимолётности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мною, растворённого в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне."1.
Экзистенциализм представляет собой философское осмысление тех потрясений, которые постигли цивилизацию в XX столетии. Первая мировая война, приход фашизма — все эти глобальные и трагические события меняют отношение человека к миру, который, как могло показаться, неумолимо движется к своему концу. Страдание становится основной приметой существования, и провидчески звучат слова Достоевского, который в «Человеке из Подполья» писал: «.я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется"2. Человек, затянутый в водоворот непрерывно сменяющих друг друга катастроф, лишенный обычной жизни, потерявший точку опоры, начинает ощущать безмерное одиночество и страх. Экзистенциальная философия приобрела в то время невиданную популярность прежде всего потому, что обратилась к проблеме критических, кризисных ситуаций, попыталась рассмотреть человека в его «хождениях по мукам»: «Существование это не то, о чем можно рассуждать со стороны: нужно, чтобы оно вдруг нахлынуло, навалилось на тебя, всей тяжестью легло тебе на сердце, как громадный недвижный зверь, — или же ничего этого просто-напросто нет."3.
Одна из книг JI. Шестова — «Апофеоз беспочвенности» — подчинена важной идее, суть которой заключается в том, что действительность, окружающая нас, бесконечно многообразна, и все попытки понять ее, познать во всех ее про Паскаль Б. Мысли. СПб: Северо-Запад, 1994. С. 47. Достоевский Ф. М. Село Степакчиково и его обитатели: сб. / Ф. Достоевский. М.:АСТ, 2006. С. 563.
3 Сартр Ж.-П. Тошнота. СПб.: Азбука — Терра, 1997. С. 191. явлениях, безуспешны, они только ограничивают наш личностный опыт, наш интеллектуальный кругозор: «Стремление понять людей, жизнь и мир мешает нам узнать все это. Ибо «познать» и «понять» — два понятия, имеющие не только неодинаковое, но прямо противоположное значение, хотя их часто употребляют как равнозначащие, чуть ли не как синонимы"1. И только наше собственное мышление, не перегруженное «научным познанием мира» и готовое принимать жизнь такой, какая она есть, со всей ее красотой и всем трагизмом, в состоянии помочь человеку не потерять себя среди тягот существования. Вместе с тем, не нужно пытаться «препарировать» окружающую нас действительность, настаивает JI. Шестов, и в этом с русским философом солидарен А. Камю, который отмечает, что с помощью науки, научного подхода, «возможно отмечать л и перечислять явления, не приближаясь при этом к пониманию мира». Именно в таком ключе пишет Довлатов — он описывает действительность, которую изображает, быть может, «larger than life, живее, чем в жизни"3, и этим описанием ограничивается — не создает никаких философских систем, устами его героев не «глаголет» единственно верная истина. Такая позиция писателя связана с его особым взглядом на мир, проецирующимся на мысли и поступки его персонажей:
— Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы? -Не думаю.
— А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение? -Мировоззрения нет. -Что же у тебя есть? -Миросозерцание" (4, 16).
Миросозерцание представляет собой «совокупность теоретически не обоснованных взглядов на мир"4. Оно исключает высокую внешнюю актив.
Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: Опыт адогматического мышления. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. С. 109.
2 Камю А. Миф о Сизифе. Мн.: ООО «Поппури», 2000. С. 32 — 33.
Лосев Л. Русский писатель Сергей Довлатов // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб.:Азбукаклассика, 2001. С. 381.
Кудрявцев Ю.Г. Философско-социологичсский анализ мировоззрения Ф. М. Достоевского: Автореферат на соискание ученой степени д-ра философских наук. М., 1977. С. 8. ность, ибо созерцатель — «человек, склонный к бездеятельному созерцанию, пассивный наблюдатель"1. Но эта позиция, пожалуй, очень близка к той самой «середине», о которой всегда мечтал «биографический» довлатовский герой. Созерцающий жизнь персонаж не судит ее, не пытается переделать, он воспринимает ее во всех дурных и хороших проявлениях, такой, какая она есть, отражая, таким образом, отношение к жизни автора. Н. Бердяев, рассуждая о творчестве Достоевского, писал: «Что такое миросозерцание писателя? Это — его созерцание мира, его интуитивное проникновение во внутреннее существо мира. Это и есть то, что открывается творцу о мире, о жизни». Эти слова можно отнести и к Довлатову. Отличие в том, что на основе миросозерцания у Достоевского строится определенная система взглядов на мир и жизнь человеческую, активно проповедуемая персонажами в произведениях автора, тогда как Довлатов остается на позиции созерцателя, гораздо менее «динамической», по-восточному медитативной.
В ряде научных работ, комментирующих положения экзистенциальной философии, нередко отмечалась и подвергалась критике свойственная ей безграничность свободы человека. Но эта проблема не столь однозначна. Человеческое существование, согласно экзистенциализму, в частности, с точки зрения К. Ясперса, заключается в том, что человек существует не как отдельный индивид, а только благодаря общности сознательного понимания «мы»: «человек обретает самого себя лишь в коммуникации с другими"3. Иными словами, люди одновременно и свободны, и порабощены. Свобода в экзистенциализме предстает как тяжелое бремя, которое должен нести человек, поскольку он — личность и обречен быть свободным — быть самим собой. Отказаться от свободы — значит, отвергнуть свою личность, значит, поступать и думать так, как поступают и думают все. Герои Довлатова — личности, обреченные быть самими собой. Это касается не только художественных двойников автора, например, Довлатова («Компромисс», «Наши», «Ремесло», «Марш одиноких»), Далматова Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов. М: Рус. яз., 1989. С. 742. «Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского // Бердяев Н. Русская идея. Харьков: Фолио, 2000. С. 246.
Ясперс К. Философская автобиография // Рассуждения о счастливой и достойной жизни, Мн.: Харвест, 1999. С. 340.
Филиал"), Алихаиова («Зона», «Заповедник»), но и множества других героев — литераторов, пьяниц, заключенных, эмигрантов и прочих. Более того, довла-товские герои весьма специфичны, это образы именно довлатовские. Как отмечал Иосиф Бродский, герой Довлатова — это «человек, не оправдывающий действительность или себя самогоэто человек, от нее отмахивающийся: выходящий из помещения, нежели пытающийся навести в нем порядок или усмотреть в его загаженности глубинный смысл, руку провидения"1. Самые, казалось бы, страшные, никчемные или опустившие люди превращаются у Довлатова в «симпатичнейших персонажей», потому, возможно, «что он питал заведомую слабость к изгоям, к плебсу, частенько предпочитая их общество обществу приличных — без всяких кавычек — людей. Нелицемерная, ничем не защищенная открытость дурных волеизъявлений представлялась ему гарантией честности, благопристойное существование — опорой лицемерия» .
Каждый из персонажей Довлатова, особенно это касается главных героев, одинок. Одиночество проистекает из экзистенциального мировосприятия, в основе которого лежит отчуждение, реализующееся на всех уровнях — это отчуждение от природы, от окружающей действительности, от собственного Я. Психика героев деформируется одиночеством («мы одиноки, и нам нет извинений"3), отчуждением от мира, воспринимаемого как «иная жизнь». Таково мировосприятие Алиханова («Зона», «Заповедник»), Довлатова («Компромисс», «Марш одиноких», «Ремесло»), Джона Смита («Ослик должен быть худым»), Красноперова («Иная жизнь») и др. Эмоциональное состояние довлатовских персонажей сродии состоянию героев произведений экзистенциальной традиции, доминантами которого являются одиночество, чуждость миру и окружающим людям, страх. Не случайно главные герои Довлатова — люди города, ибо «эмоциональная доминанта чаще всего конкретизируется в разорванном городском сознании — сознании замкнутого пространства, утраченной цельности, не.
1 Бродский И. «О Сереже Довлатовс» //О Довлатовс: Статьи, рецензии, воспоминания. Тверь: Другие берега, 2001. С. 68.
Арьев А. Наша маленькая жизнь // С. Довлатов. Собрание сочинений. В 4 т. Т.1. СПб.: Азбука-классика, 2003. С. 10.
3 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Рассуждения о счастливой и достойной жизни. Мн.: Хар-всст, 1999. С. 337. обретенного идеала, несчастливом, нежилом, дисгармоничном, мрачном"1. Так, в «Наших» для дяди рассказчика «необретенным идеалом» становится нечто, скрытое за забором: «Знаешь, отчего я мучаюсь? — продолжал он. — Когда мы жили в Новороссийске, там был забор. Высокий коричневый забор. Я каждый день проходил мимо этого забора. А что было внутри, не знаю. Не спросил. Я не думал, что это важно. Как бессмысленно и глупо прожита жизнь!» (2, 316).
Довлатов так объясняет свою литературную деятельность: «Стимулы писательского творчества — очень внутреннее дело, почти неформулируемое, но если все-таки попытаться ответить на этот вопрос, то литературная деятельность — это скорее всего попытка преодолеть собственные комплексы, изжить или ослабить трагизм существования [курсив мой — Ю. Ф.]. Я, конечно, не говорю о тех, кто пишет из самых простых и здоровых побуждений — заработать деньги, прославиться или удивить своих родных. Я говорю лишь о тех писателях, которые не выбирали эту профессию, она сама их выбрала» (4, 380).
Попытка преодолеть собственные комплексы, изжить или ослабить трагизм существования" - Довлатов произносит слова, которые, несомненно, являются выражением именно экзистенциального мироощущения, ибо экзистенциализм показывает, что человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может спасти его от себя самого, тем самым освобождая человека от надежд и иллюзий, что он может стать свободным и счастливым в этом мире благодаря чему-то вне себя. Стремление «ослабить трагизм существования» — это стремление преодолеть иллюзии, попытка найти себя, стать счастливее в абсурдном мире, где «война со злом закончилась его окончательной победой, но жить-то надо"2.
В экзистенциалистских произведениях, где предстает искаженный страхом и предчувствием смерти мир, в полный голос заявляет о себе абсурд. XX век можно назвать веком абсурда, или веком «экзистенциального вакуума» (В. Франкл), когда остро ощущается бессмысленность жизни, тотальное одиноче.
1 Заманская В. В. Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий.
М.: Флинта: Наука, 2002. С. 33. Ерофеев В. Русские цветы зла // Русская литература XX века в зеркале критики. М.: Академия, 2003. С. 236. ство человека в мире, утратившем традиции и ценности прежних времен. С другой стороны, абсурд есть одно из проявлений действительности, ею самой порожденное. Антипод давно утраченной нормы, он становится знаком перехода к другим «ценностным координатам» (Э. Фромм), а если говорить о литературе — к другим художественным пространствам.
А. Арьев писал: «Упрощая, сводя довлатовские вариации к единой теме, обозначим ее так: судьба человека «с душой и талантом» в нашем абсурдном мире"1. Абсурд — это мир наизнанку, мир «с ног на голову», антимир, когда несовместимые начала сосуществуют в пределах одной человеческой души, это «граница, изнанка, оборотная сторона смысла, его превращенная форма"2.
Истоки абсурда можно найти в карнавальной культуре Средневековья. Во времена феодализма — социальной системы, в которой люди существовали в жестких неизменных рамках своего сословия (вассал и сеньор, подданный и сюзерен, крестьянин и крупный землевладелец), карнавал давал возможность человеку ощутить себя совершенно иным, дать волю самым тайным желаниям, реализовать идею двумирности. Подвергалась сомнению, пусть на время, логичность и упорядоченность человеческого бытия. Но карнавал — это все-таки игра, могущая довести до абсурда противоречия, которые таит в себе обыденная жизнь. Сама по себе карнавальная игра не есть абсурд, она могла бы стать им лишь в том случае, когда шут, надевший маску короля, на самом деле стал бы королем.
Мир абсурда, «другой» мир в основе своей являет сознательную игру с логикой, здравым смыслом, традициями, стереотипами, клише. Он дает возможность «другого» прочтения реальности, смешения нормального, привычного мира с его оборотной стороной, ибо абсурдное возможно лишь по отношению к чему-либо неабсурдному, как писал Камю, «абсурд рождается из сравнений"3. Из этого следует, что абсурд не есть отсутствие смысла, он есть другой Арьев А. История рассказчика // Довлатов С. Собр.соч.: В 4 т. Т. 1. СПб: Азбука — классика, 2003. С. 29. 'Огурцов А. П. Абсурд // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 1. // Под ред. акад. B.C. Степина. М.: Мысль, 2000. С. 21.
3 Камю А. Миф о Сизифе. Мн.: ООО «Поппури», 2000. С. 41. смысл — «смысл, который неслышим"1. Абсурд как бы намекает, «что жизнь выходит за рамки наших представлений о жизни"2.
Абсурд и норма у Довлатова тесно переплетаются, не в силах существовать друг без друга, именно потому, что невозможно показать, насколько абсурден окружающий мир без его столкновения с миром «нормальным». Недаром на протяжении всей жизни Довлатова так интересовали взаимоотношения нормы и абсурда, «смесь обыденности и безумия», как скажет сам писатель в одном из своих рассказов. «Я пытаюсь вызвать у читателя ощущение нормы. Одним из таких серьезнейших ощущений, связанных с нашим временем, стало ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением. Значит, абсурд и безумие становятся чем-то совершенно естественным, а норма, то есть поведение нормальное, естественное, доброжелательное, спокойное, сдержанное, интеллигентное, — становится все более из ряда вон выходящим событием. Вызывать у читателя ощущение, что это нормально, — может быть, вот в этом заключается задача, которую я предварительно перед собой не ставил, но это и есть моя тема, тема, которую не я изобрел и не я один посвятил ей какие-то силы и время. Если нужны красивые и, в общем, точные и верные слова, то это попытка гармонизации мира"3.
Абсурд у Довлатова представляет собой не только художественный прием, способ осмысления художником окружающей его действительности и человека как главного субъекта и объекта новых отношений между вещами, но является отражением мировосприятия самого писателя. Ведь именно — и толькочеловек может почувствовать абсурд, осознать его, что не дано никакому другому живому существу. Проблема смысла перестала бы для личности существовать лишь в том случае, если бы человек не был больше человеком, ибо, будучи деревом или животным, «я стал бы частью мира"4, — утверждает Альбер Камю. Культурология, XX век: Энциклопедия. В 2 т. Т. 1. СПб.: Университетская книга, 1998. С. 8.
2 Померанц Г. С. Язык абсурда // Померанц Г. С. Выход из транса. М.: Юрист, 1995. С. 436.
Глэд Д. Беседы в изгнании: Русское литературное зарубежье. М.: Книжная палата, 1991. С. 93.
4 Камю А. Миф о Сизифе. Мн.: ООО «Поппури», 2000. С. 61.
Впрочем, мир сам по себе не столько абсурден, сколько, по мнению А. Камю, «попросту неразумен». И есть лишь два способа противостоять этой неразумности: во-первых, рационализм, уже в XVIII веке отвергнутый многими, поскольку большое количество вещей вокруг нас мы не можем объяснить с помощью разума, и, во-вторых, «антирационализм», суть которого в поиске новых связей между вещами и понятиями, связей, которые не могут быть мотивированы законами формальной логики. Как пишет Камю, «иррациональное в представлении экзистенциалистов есть разум в раздоре с самим собой"1. Поэтому для Камю абсурдное произведение — это «смиренное согласие быть сознанием, творящим лишь видимость, набрасывающим покрывало образа на то, что лишено разумного основания. Будь мир прозрачен, не было бы искусства» .
Мир не прозрачен, мир закрыт. В литературе XX века образ мира часто дается через мифологему лабиринта, представляющего архетип мироздания: «Беглец не прячется в лабиринте. И не устраивает его на высоком берегу, да еще раскрасив в ярко-красный цвет, чтобы он был виден морякам издалека. Устраивать лабиринт не нужно, ведь Вселенная — это уже готовый лабиринт» .
Мир абсурда — это бесконечные блуждания личности в лабиринтах реальности и собственного сознания, подобные блужданиям человека в хитросплетениях фаюмского лабиринта, о котором с изумлением и восторгом писал Геродот: «Переходы через покои и извилистые проходы через дворы, будучи весьма запутанными, вызывают чувство бесконечного изумления: из дворов переходишь в покои, из покоев в галереи с колоннадами, затем снова в покои и оттуда опять во дворы"4. Лабиринт неизбежно ассоциируется с чем-то трудно преодолимым, более того — непостижимым. В него можно (а согласно известному мифологическому сюжету, и необходимо) войти, но выход из него не гарантирован. Топология лабиринта для входящего неизвестна и даже умышленно запутана. Таким образом, мифологема лабиринта связана с темой.
1 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 256.
2 Там же. С. 291.
3 Борхес Х. Л. Абснхакан эль-Бохари, умерший в своем лабиринте // Борхес Х. Л. Двойник Магомета: рассказы и эссе 1932;1970 г. г. СПб.: ООО «Издательский дом «Кристалл» «, 2002. С. 100.
4 Геродот. История. Л.: Наука, 1972. С. 126−127. весьма рискованного предприятия и непредсказуемости, ибо не существует никаких внешних признаков в лабиринте, которые могли бы помочь герою в выборе пути. Только сам человек делает выбор, не зная, окажется ли избранное им направление верным или заведет в тупик. Древнегреческий герой Те-сей смог пройти испытание лабиринтом благодаря волшебной нити Ариадны, однако современному герою помощи ждать неоткуда.
Будучи изначально языческим символом, лабиринт постепенно трансформировался в христианском сознании в аллегорический образ пути человека к Богу или путь Христа. Но в эпоху «смерти бога» лабиринт начинает восприниматься как метафора человеческого существования, ведущего в очередной тупик в мучительных и бесплодных попытках найти выход. В Средние века было распространено убеждение, что путешествие по лабиринту может заменить верующему человеку паломничество к святым местам, также писали, что церковные лабиринты служили для наказания грешников, которые должны были проползти на коленях по всем закоулкам этих хитроумных сооружений, читая молитвы, пока не достигнут центра. В XX такое «паломничество» (или наказание) оборачивается для человека ужасом перед темным, неотвратимым ничто.
С точки зрения постклассического эстетического сознания XX века лабиринт — это символ «запутанности, сложности, многоаспектное&tradeкультуры и бытия человеческого, полисемии культурно-бытийных состояний"1. Лабиринт отражает сознание человека XX века, когда личность в результате революций, войн, научно-технического прогресса, «омассовления» и т. д. приходит в состояние экзистенциального кризиса, то есть растерянного метания по жизни и культуре в поисках своего места в жизни и смысла самого бытия, как в страшном лабиринте, за каждым поворотом которого ее подстерегают абсурдные события, страдания, смерть. Об этом в своих произведениях размышляли писатели — экзистенциалисты и абсурдисты (Ф. Кафка, А. Камю, Ж.-П. Сартр, Э. Ионеско, С. Беккет). В неподражаемой легкой, иронической манере трудный путь человека в поиске ответов на эти серьезные вопросы запечатлел в своих книгах.
1 Бычков В. В. Эстетика. М: Гардзрики, 2004. С. 470. никогда не претендовавший на звание философа русский писатель С. Довлатов. Довлатовская проза отражает экзистенциальное мироощущение автора, не являясь открытой демонстрацией экзистенциализма, поскольку Довлатов — прежде всего художник, а не философ. Экзистенциальные истоки его прозы обусловлены спецификой творчества, которое само по себе «не уход в иные и лучшие миры, а умение настоять на своем, заставить любоваться своим уродством. Творчество — это индивидуальная смелость, превращающая комплекс в норму: норму восприятия данного творчества как ценного"1.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения материалов, результатов работы в ходе дальнейшего изучения творчества С. Довлатова, при построении лекционных и практических курсов по русской литературе второй половины XX века в высших учебных заведениях и школах.
Структура работы: диссертация состоит их введения, трех глав, заключения и библиографического списка.
Парамонов Б. Конец стиля // Русская литература XX века в зеркале критики. М.: Академия, 2003. С. 85 — 86.
Заключение
.
В диссертационном исследовании проанализированы особенности экзистенциального сознания автора, проявляющиеся в мироощущении его центральных персонажей:
1. Особое психологическое состояние человека, преодолевшего «механистичность» бытия попаданием в «пограничную ситуацию», когда он оказывается перед проблемой жизни и смерти — бытия и небытия — вследствие осмысления своего смертного статуса (Алиханов — конвоир в «Зоне» и писатель в «Заповеднике»);
2. Индивидуалистическое, эгоцентричное самосознание, противопоставление Я и «других», позиция самоограждения, стремление уберечь себя от вторжения извне где-то «внутри», «за некими окопами или стенами» своей души1 (Красноперов в «Иной жизни»);
3. Состояние рефлексии, осознание своей чужеродности одновременно с желанием преодолеть онтологическое одиночество, выйти к людям (герои «Зоны», «Заповедника», «Двух сентиментальных историй», «Филиала» и др.);
4. Разорванность сознания, проявляющаяся в осознании «двумирности» как «лишенности» самой возможности иного бытия («Зона», «Ремесло», «Иная жизнь»);
5. Ощущение замкнутости пространства, из которого нет выхода, а есть лишь бесконечные блуждания по лабиринтам абсурдной и жуткой реальности, всякий раз приводящие в тупик, в очередную камеру, к «каменной стене» (Ф. М. Достоевский) («Зона», «Филиал», «Ремесло»);
6. Мучительные размышления о пределах (или беспредельности) свободы, «вседозволенности», результатом которых становится поиск личных нравственных ориентиров в «обезбоженном» мире, зачастую реализующий себя в экзистенциальном мотиве «трагического жеста» (С. («Зона», «Ремесло», «Марш одиноких»). франк С. Л. Непостижимое / Франк С. Л. Сочинения. М.: Правда, 1990. С. 364.
Довлатов по-чеховски рассказывает истории, в которых нет явных злодеев и явных героев, ибо «одни и те же люди выказывают равную способность к злодеянию и добродетели» (2, 74), а затем оставляет читателя наедине с самим собой и со своими вопросами, так и не ответив, кто же на самом деле прав, и что сделать, чтобы мир стал лучше. Неосуждение и принятие любых, пусть нелицеприятных, проявлений жизни, человеческого несовершенства, «демонстративный, чуть заносчивый отказ от выводов, от морали» — особая авторская позиция Довлатова, «форма присутствия», «система безжалостного зрения» (3, 30), поза созерцателя мира, а не проповедника определенных идей, как зачастую бывает в русском романе.
Наличие ярко выраженного мировоззренческого, концептуального начала не является оценочной характеристикой произведения. Роман как жанр в отечественном понимании всегда требует определенной концепции мира и человека, даже если эта концепция негативная. Отсутствие подобной концепции в произведениях Довлатова проявляется, с одной стороны, в его склонности к «средним» (повесть) и «малым» (рассказ) жанрам, а с другой — указывает на тесную связь его творчества с поэтикой абсурда, ибо произведение абсурда, по сути своей, не предполагает масштабного эпического размаха. Произведения абсурдистского толка — это большей частью пьесы, повести, рассказы и так называемый «маленький европейский роман», более походящий на повесть, чем на роман в привычном понимании.
Не ограниченный концептуальными рамками, Довлатов всем своим творчеством закрепляет мысль: человеческая жизнь настолько сложна, что не укладывается ни в одну из выдуманных людьми идей. Такова жизнь довлатовских персонажей, и поэтому непросто найти какие-то мировоззренческие истоки существования его «миросозерцателей». Пушкинская позиция «олимпийского равнодушия», «готовность принять и выразить любую точку зрения» (2, 212), чрезвычайно близкая героям Довлатова, их нравственная толерантность заводит многих исследователей в тупик, ибо такая позиция предполагает бесконечное множество вариантов трактовки одних и тех же событий, и в каждом из вариантов будет заключена определенная доля истинности. Такая позиция — примета свободы, на которую осужден человек, «потому, что не сам себя создали все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает"1.
Важную роль в изображении абсурдного мира в довлатовской прозе играет ирония, она становится существенной особенностью мировосприятия, определенным способом выявления несовершенства мира и интерпретации его. Абсурдность действительности подчеркивается в произведениях Довлатова прежде всего ироническим отношением к ней, которое реализуется с помощью аллюзий, псевдоцитат, пародии, гротеска. Одной из главных особенностей «иронического стиля» писателя становится использование семантических особенностей слова. Многозначность слова, его неожиданное употребление, порождение новых оттенков смысла являются важными лексико-семантическими средствами выражения иронии в довлатовских текстах. Актуализация иронического начала связана с несомненной близостью Довлатова к общей для современной литературы тенденции уйти от однозначной трактовки и оценки действительности. Персонажи Довлатова часто говорят — и пишут — фразами, как бы лишенными смысла (объяснительная записка Густава Пахапиля или медицинское заключение о здоровье сержанта Годеридзе, непереводимая речь Михал Иваныча и бессмысленный набор фраз Маркова). Такая словесная ахинея представляет собой некий языковой лабиринт, где центральный персонаж блуждает в поисках смысла. Но языковой лабиринт в мире довлатовских героев является лишь частью того огромного Лабиринта, который в XX веке многими писателями будет метафорически воспринят как архетип мироздания.
Таким образом, диссертационное исследование доказывает:
1. Для довлатовских героев характерно «двоемирие», в основе которого разделенность реальности в сознании персонажа на «мою» — «понятную» и «иную» — «непостижимую», реальность «других».
1 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Рассуждения о счастливой и достойной жизни. Мн.: Хар-всст, 1999. С. 337.
2. Блуждание героя во времени и пространстве в безуспешных попытках найти себя, установить связь с внешним миром свидетельствует о трагической, экзистенциальной разобщенности, разрыве связей между людьми, об обреченности на одиночество.
3. Мирообраз в произведениях Довлатова строится на грани реальности, гротеска, натурализма и фантастики, что позволяет совмещать несовместимое: духовное и телесное, норму и абсурд, гармонию и хаос, жизнь и смерть.
4. Герои С. Довлатова существуют в закрытом лабиринтном мире, из которого нет выхода, и даже смерть не освобождает их, ибо рай — это «камера общего типа» («Заповедник»), вливающаяся в пространство «громадной камеры» (Э.Э. Каммингс).
5. Абсурд становится свойством сознания, усиливающим трагическое мироощущение, а также средством изображения «обезбоженного» мира, лишенного нравственных ценностных ориентиров, которые каждый должен искать только в себе.