Мемуарный дискурс культурно-исторического менталитета людей военной (офицерской) субкультуры наполеоновской эпохи и «Записки.. .» Н. А. Дуровой
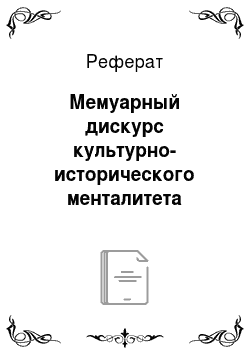
Чувствительность составляет одну из основных черт мировоззрения Дуровой, что находит яркое отражение в ее «Записках». С одной стороны, Дурова так же, как и другие мемуаристы, не может пройти мимо бедствий французской армии во время ее гибельного отступления из России. Так, она подробно приводит в «Записках» «трогательную историю прекрасной девочки», француженки-сироты, подобранной казачьим… Читать ещё >
Мемуарный дискурс культурно-исторического менталитета людей военной (офицерской) субкультуры наполеоновской эпохи и «Записки.. .» Н. А. Дуровой (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
При анализе «Записок» Надежды Андреевны Дуровой легко заметить, что смыкаясь со своими современницами в оценке многих аспектов «мужского» военного бытия, она в то же время резко расходится с ними в оценке войны и военных действий, что обусловлено, на наш взгляд, спецификой культурно-исторического менталитета эпохи, ее породившей. Батальная часть «Записок» Дуровой представляет собой своеобразный гимн военной службе и благородному ремеслу солдата. Годы военной службы однозначно воспринимаются мемуаристкой как годы счастья, когда Дурова могла с наибольшей силой выразить себя как личность, ощутить всю полноту бытия, доказать мужчинам, что она нисколько не хуже их в бранном деле. Было бы слишком опрометчиво видеть в этом лишь проявление феномена «кавалеристдевицы» или искать у Дуровой розановский комплекс «людей лунного света». Тем более, что Дурова не была единственной женщиной, испытавшей на себе влияние культа доблести и героизма наполеоновской эпохи. Если рассматривать Дурову в контексте ее времени, то окажется, что она имеет много точек соприкосновения с менее знаменитыми своими современницами. Признание этого факта принципиально важно, так как большинство исследователей жизни и творчества Дуровой XX в. охотно причисляли ее к изначально феноменальным натурам, в отличие от более объективных в этом отношении авторов XIX столетия.
Так, А. Сакс, характеризуя женское сознание начала XIX в., писал: «Известная доля воинственности, какая-то экзальтированная храбрость в то время были свойственны многим женщинам. Достаточно сказать, что во французских войсках в эпоху Наполеона и раньше в республиканских войсках встречались женщины-солдаты, удачно сходящие за мужчин» [Сакс, с. 9]. А. Саксу вторила Е. Некрасова, когда отмечала: «Воинственность, храбрость была идеалом для многих женщин начала нынешнего (то есть XIX. — Е. П.) столетия. Женщины подражали мужчинам в одеянии, старались сравняться с ними в храбрости, силе, физических подвигах» [Некрасова, с. 594]. Можно сослаться также на мнение блестящего знатока европейских нравов Э. Фукса, который так говорил об идеале женской красоты времен Республики и Империи во Франции: «Идеал женской красоты получил особый отпечаток героичности, что, впрочем, вполне совпадало с жизнью. Бесчисленное множество француженок были тогда героинями в истинном смысле этого слова. Когда потом республику сменила империя, то героизм превратился в величие» [Фукс, с. 115].
Основная причина этого явления, по мнению Э. Фукса, объясняется всем ходом исторического развития общества в последней трети XVIII — начале XIX в. Новый тип человека (в том числе и тип женщины) был тесно связан с наступлением новой буржуазной эпохи, которая предъявляла свои требования к личности, провозгласив своим идеалом «ясный, энергичный взгляд, прямую и напряженную осанку, жесты, исполненные силы воли, оттенок самосознания в голосе, руки, способные не только хватать, но и удерживать захваченное, ноги, энергично ступающие и твердо стоящие на завоеванной позиции» [Там же, с. 104]. Хотя «эти качества… и требовались преимущественно от мужчин, однако, должны были до известной степени воплощаться и в женщине» [Там же].
Результатом всех происшедших в обществе изменений было формирование литературно-бытового образца женщины-героини как одного из основных образов эпохи. Начало этой традиции в русской литературе положил еще А. Радищев, создав в своей «Песне исторической» образ героической римлянки Арии, жены Цецина Пета. С той же традицией связан в русской литературе интерес к образу Марфы Посадницы у Н. Карамзина и Ф. Иванова, к Орлеанской деве — у В. Жуковского. В западноевропейской литературе подобные героические женские образы мы находим у А. Мицкевича в романтической поэме «Гражина», у Дж. Байрона, который в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» при описании героической борьбы испанского народа за свою независимость выводит на первый план мужественный образ девушки из Сарагосы, ведущей в бой своих соотечественников. Отпечаток героического сознания эпохи лежит на женских образах Ф. Стендаля — Ванине Ванини, герцогине Сансеверине, Матильде де ля Моль. В живописи эпохи идеал женского героизма оказался навечно запечатлен в офорте Ф. Гойи «Какое мужество!», где изображена молодая девушка, которая после гибели защитников батареи сама начинает стрелять из пушки по наступающим французам.
Готовность к подвигу, к Поступку жила во многих женщинах того времени: от Бэтси Бэлкомб, юной англичанки, оставившей мемуары о пребывании Наполеона на острове Святой Елены, «сорванца в юбке», как ее называли, которая прекрасно фехтовала и выигрывала скачки, до якобинки А.-Ж. Теруань де Мерикур, которую современники считали прекрасным политическим оратором; от Шарлотты Корде, убийцы Марата, до Эмилии Лавалетт, которая, узнав, что ее муж приговорен к смертной казни королевским судом Бурбонов, при последнем свидании организовала ему побег, поменявшись с ним одеждой и оставшись в его камере. Можно привести множество примеров героических женских судеб наполеоновской эпохи. Так, жена генерала М. Храповицкого принимала участие в военных действиях 1812−1814 гг., переодевшись в казачий мундир, и была награждена медалью «За взятие Парижа». Жена генерала А. Тучкова Маргарита сопровождала мужа во всех военных походах, перенося все неудобства бивачной жизни. Во время конных рекогносцировок она тщательно убирала свои косы под воинский головной убор и переодевалась денщиком. Известно, что супруга маршала Франции Ф. Ж. Лефёвра Катрин сражалась в молодости в республиканских войсках и даже имела штыковые раны. Прекрасно ездила верхом и стреляла из ружья генеральша Вердье. Французский генерал Г. А. Дедем в своих воспоминаниях пишет о том, как его конюх в походе 1812 г. внезапно оказался… девушкой-немкой, которая бежала из дома в армию, так как безумно любила лошадей. Наконец, московский военный губернатор 1812 г. граф Ф. Растопчин в качестве курьеза приводит в своих мемуарах факт, как 29 августа 1812 г. в 40 километрах от Москвы к нему явилась депутация московских дам с предложением составить эскадрон амазонок для защиты города. Генерал М. Марбо в своих мемуарах рассказывает о женщине по прозвищу Сан-Жен («Без стеснения»), которая ходила в мужской одежде и была дочерью командира, в 1793 г. защищавшего Лион против войск Конвента. Потом она перешла на сторону революционных войск и стала драгуном 9-го полка. Марбо пишет: «Мадемуазель Сан-Жен имела мужское сложение, а храбрость ее не имела равных. Она была несколько раз ранена в бою при Кастильоне, где их полк входил в дивизию Ожеро. Генерал Бонапарт часто являлся свидетелем проделок этой смелой женщины. Став первым консулом, он назначил ей солидную пенсию» [Марбо, с. 129]. Марбо не называет ее имени, но даже по приведенному описанию можно догадаться, что речь идет о знаменитой «кавалерист-девице» армии Наполеона Терезе Фигёр, о которой мы уже писали выше.
Все эти необыкновенные женщины (в том числе и Надежда Дурова) были порождением своей блестящей и кровавой эпохи, которая была, пожалуй, самой яркой в истории Европы XIX в. Ф. Булгарин, русский писатель, поляк по происхождению, который успел послужить и в русской армии, и в армии Наполеона, в своих воспоминаниях давал такую оценку эпохе «славы и восторга»: «Чудная эпоха, которая не скоро повторится на земле, эпоха истинно мифологическая!» [Булгарин, с. 171].
Причина этого заключается не только в тех глобальных политико-экономических изменениях, которые произошли в это время на Европейском континенте. Важнейшим фактором для филологов, культурологов, историков является то обстоятельство, что именно в мемуарных произведениях, посвященных наполеоновской эпохе, впервые начинает осмысляться и в определенном смысле 190.
глорифицироваться специфический тип личности, чей менталитет неизменно привлекал симпатии потомков.
Современный исследователь В. Афанасьев так охарактеризовал тип людей «мифологической» эпохи в контексте времени, его сформировавшего: «Это было время Наполеона и Суворова, время, выковавшее беззаветных храбрецов, исполненных острого чувства патриотизма, людей особенного склада, в которых суровая мужественность уживалась с глубокими и разнообразными знаниями, утонченностью эстетических идеалов, а иногда и с незаурядными талантами. Это были люди, которые не испытывали страха среди ядер и пуль. Их портреты в галерее 1812 года парадны, романтично-красивы, как красива и романтична вся эта бурная и окуренная порохом эпоха на картинах и гравюрах, оставшихся от нее» [Афанасьев, с. 56]. Эта романтичная красивость, безусловная эстетическая привлекательность времени, когда практически были стерты границы между искусством и бытовым поведением человека, когда искусство стало той моделью, которой сама жизнь стремилась подражать, и люди даже в условиях военных действий вели себя зачастую как на сцене, была одной из основных причин, обеспечивающих позитивную маркированность эпохи в глазах последующих поколений. Безусловным героем этого времени стал представитель военной субкультуры, историческую психологию которой блестяще воссоздал Ю. М. Лотман: «Эти бурные характеры рождались на переломе двух веков, когда история достигала крутого поворота… Ничего не казалось вечным. Все авторитеты пошатнулись, и перед сильной волей и беспокойным характером открывались возможности, казавшиеся безграничными. Время рождало героев бескорыстной самоотверженности и бесшабашных авантюристов» [Лотман, 1994, с. 257].
Хрестоматийными примерами разгульно-свободомысленного поведения российского дворянства начала XIX в. могут служить многие эпизоды из жизни будущего декабриста М. С. Лунина и его товарищей-кавалергардов, переданные в «Записках» С. Волконского и «Воспоминаниях» Н. Белоголового, начиная от «купания» в полной форме в Петергофском заливе, «чтобы не оскорблять приличий», в пику генералу-немцу, запретившему подобные купания, до мести Наполеону путем «пускания» в окна французского посла А. Коленкура «удобометательных» камней [см.: Волконский]. Все эти примеры «шалостей» гвардейской молодежи 1800-х — начала 1810-х гг. неоспоримо свидетельствуют о том, что в этот период идеи свободомыслия и патриотизма были связаны с идеей «буйства» и «кутежа» как проявления страсти к первенству и с желанием как можно более полно выразить неординарность и оригинальность собственной натуры.
Зеркальную ситуацию можно увидеть и в военной субкультуре Франции наполеоновской эпохи. Так, живым символом «настоящего гусара» в армии французов был генерал А. Лассаль, обладавший замечательными военными достоинствами, но не меньшей склонностью к кутежу и разгулу. Генерал М. де Марбо писал о нем: «Лассаль был красив и остроумен, был хорошо образован и воспитан, но вел себя как шалопай. Он пил, ругался, орал песни, все разбивал, был заядлым игроком. Он был прекрасным наездником, его храбрость граничила с дерзостью. Император баловал его безмерно, смеялся над всеми его проделками и всегда платил его долги» [Марбо, с. 268].
Историческую психологию людей наполеоновской эпохи характеризуют несколько важных моментов, объясняющих специфику самоидентификации человека в мемуарном тексте. Важными чертами личностной самоидентификации человека, принадлежащего к военной субкультуре того времени, был культ ритуального буйства и специфический тип героизма, равно близкий сердцу как французов, так и русских, который известный французский драматург Э. Ростан охарактеризовал словом панаш {от фр. panache — рыцарский султан). Панаш, понимаемый как «душа отваги», предписывал шутить перед лицом опасности, видя в этом проявление высшей вежливости [цит. по: Луков, с. 114].
Культ ритуального буйства, рисовки, который был присущ людям наполеоновской эпохи, всецело определял их поведение на иоле брани. Известны многие исторические анекдоты про графа М. Милорадовича, которые прославляют именно эту черту его характера, являясь при этом вернейшим слепком военной психологии эпохи. Пожалуй, самыми известными из них являются рассказ об «обеде» М. Милорадовича под пулями французских стрелков, когда он увидел, что маршалу И. Мюрату «вздумалось под выстрелами русских часовых кушать кофе», а также случай, когда М. Милорадович, заметив, что французы открыли огонь по нему и его свите, надел на себя Анненскую ленту со словами: «Посмотрим, умеют ли они стрелять?» П. Вяземский, принимавший участие в Бородинской битве в качестве волонтера, свидетельствует в своих «Записных книжках»: «За Милорадовичем на поле сражения… угнаться было невозможно; он так и летал во все стороны» [Вяземский, с. 444]. Далее П. Вяземский приводит очень характерный случай, как нельзя лучше иллюстрирующий тесную связь между осознанием типа героического поведения и театральным жестом и фразой (чаще всего на французском языке), которыми это деяние сопровождается: «Вскоре ядро упало к ногам лошади Милорадовича. Он сказал: „Бог мой, видите, неприятель отдает нам честь“. Но для сохранения исторической истины должен я признаться, что это было сказано на французском языке» [Там же, с. 443].
Применительно к Дуровой эта черта культурно-исторического менталитета сыграла с ней злую шутку, заставив постоянно страдать от насмешек товарищей из-за непозволительной для гусара скромности. «Записки» Дуровой, так же как и «Добавления к Девице-Кавалерист», дают необыкновенно много сведений о культе ритуального буйства у людей наполеоновской эпохи «от противного» как раз в силу того, что сама мемуаристка была выключена из сферы действия этого неписаного закона поведения «идеального» гусара. Отстранившись от этой бытовой реальности поведения военного человека, она достаточно подробно повествует о «катехизисе» лихого гусара, который должен «так же хорошо играть на биллиарде, направо-налево осушать бокалы, как рубиться и ездить верхом» [Дурова, 1839, с. 264]. Правда, тут Дурова по скромности опускает еще несколько характерных черт гусарского быта, о которых вполне откровенно пишет в своих «Записках» С. Волконский.
Дуровой было шесть лет, когда рухнула Бастилия, девять — к началу первых революционных войн Французской республики. Когда ей исполнилось 16, А. Суворов перешел через Альпы, в 18 лет настало «дней Александровых прекрасное начало». В 23 года она ушла в армию, в которой прослужила до самого конца Наполеоновских войн. Она была давно в отставке, когда произошло восстание на Сенатской площади, смысл и значение которого она не поняла. Декабристы (имеется в виду, конечно, их основная масса), встретившие войну 1812 г. почти отроками в 16−17 лет, исторически и психологически принадлежали уже к другому поколению, чем поколение Н. Дуровой, Д. Давыдова, М. Лунина или С. Волконского, которые принадлежали эпохе, когда, по словам Ф. Булгарина, «люди жили не по календарю, говорили не под диктовку и ходили не по стрункам, то есть когда какая-то рыцарская необузданность подчиняла себе этикет и образованность» [Булгарин, с. 351]. Люди дуровского поколения в своем абсолютном большинстве были более солдатами, чем политиками и экономистами, культ воинской славы занимал их куда больше, чем мысли о конституции или народном правлении. В этом плане нельзя не признать справедливость слов декабриста А. Поджио, который характеризовал это поколение следующим образом: «Все эти люди были людьми своего времени; людьми, выросшими под влиянием узкого, одностороннего господствующего тогда военного духа. Они служили верным отпечатком того времени, вместе славного и жалкого! Все… являли в себе все противоположности, все крайности образовавшихся тогда характеров общественных: одностороннее, исключительно поверхностное военное образование при условии непременной отчаянной храбрости, второстепенного честолюбия, грубого обращения с низшими и низкопоклонничества со старшими и вместе с тем проявление полного великодушия к врагу-иностранцу. Какое-то относительное благородство, жалость, доброта и всегда тот же разгул русского человека со свойственными ему и буйством, и беспечностью, и безумной расточительностью» [Поджио, с. 74].
Одной из основных черт времени, во многом определившей лицо наполеоновской эпохи, был стиль героического поведения, берущий свое начало в античных пристрастиях Французской революции, осуществлявшейся, по словам Ф. Энгельса, «в римских костюмах и с римскими фразами на устах». В первые два десятилетия XIX в. в Европе, равно как и в России, царил настоящий культ героической Античности, воспринимавшейся людьми той эпохи в качестве второй (если не первой!) действительности. В результате подготавливалась ситуация, которую С. И. Николаев охарактеризовал как антикизацию русской культуры XVIII в. [Николаев, с. 85]. Культ Античности проникал во все сферы человеческого бытия: в политику, в сферу бытового поведения и в искусство. Человек наполеоновской эпохи смотрел на себя сквозь призму античных образов и мотивов. Именно осознание идеологического сходства двух этих эпох заставило французских революционеров XVIII в. (а впоследствии и Наполеона Бонапарта) неизменно проводить аналогии между реальными государственно-политическими образованиями Древнего Рима и своими собственными формами правления: Республикой (с 1792 г.), Консульством (с 1799 г.), Империей (с 1804 г.) Оно стимулировало отмену христианской религии и замену ее поклонением Верховному существу и Высшему Разуму, обусловило отказ от христианского летоисчисления и введение языческого республиканского календаря. Античность подсказала санкюлотам красный фригийский колпак бога Аттиса, который уже в древности был символом свободы, а главе плебейской партии Ф. Бабёфу внушила желание сменить свое простое «прозаическое» имя Франсуа на славное римское имя Грахк. Античность полностью восторжествовала и в модах эпохи, заставив женщин отказаться от пышных нарядов эпохи рококо, ощущавшихся физически, по словам Э. Фукса, «как каторжная куртка, надетая на них абсолютизмом», и облечься в «свободные и подвижные формы костюма» [Фукс, с. 168]. Женская мода эпохи Революции и Империи носила название «а la grecque» и являлась имитацией греческих хитонов с высокой талией. Прически a la grecque у женщин и a la Titus у мужчин дополняли античный образ людей наполеоновской эпохи.
Античность, вошедшая в плоть и кровь наполеоновской эпохи, диктовала человеку свою программу поведения, специфику восприятия действительности. Поэтому без знания Античности трудно (если вообще возможно) понять психологию и практику поведения людей того времени, старавшихся жить по ее героическим образцам. Можно привести множество примеров подобной практики. Так, когда республиканский генерал А. Дюма (отец знаменитого романиста) отличился, сдержав чуть не в одиночку австрийцев у стратегически важного моста через горное ущелье во время Итальянской кампании генерала Бонапарта, то Наполеон, обнимая и поздравляя героя, назвал его новым Горацием Коклесом. После того как немецкий студент Штабе, пытаясь совершить покушение на Наполеона, был арестован и предстал перед французским императором, первым вопросом, с которым тот обратился к несостоявшемуся убийце, был следующий: «Вы хотели стать Брутом?» Подвиг русского крестьянина, якобы отрубившего себе правую руку, чтобы не служить в наполеоновской армии, нашедший отражение на страницах журнала «Сын Отечества» в 1812 г., получил соответствующее духу времени название: «Подвиг русского Сцеволы». Наполеон, вручая свою судьбу Англии после своего сокрушительного поражения под Ватерлоо, в письме к английскому принцу-регенту писал: «Как Фемистокл, я ищу приюта у очага британского народа».
Таким образом, желание «проиграть» Античность в современности приводило к тому, что каждое античное имя становилось своеобразным культурным кодом, за которым стояла соответствующая ситуация. Знание этого кода обеспечивало читателю или зрителю данной сцены правильное понимание сюжетной ситуации и способы ее моделирования в конкретную жизненную ситуацию современности.
Подобное направление антикизации культуры было названо А. М. Михайловым мифориторической культурой. Ее отличительной особенностью было то, что культура в это время «основывается на готовом слове и пользуется только им» [Михайлов, с. 310]. В качестве подобного «готового слова» может выступать «и целая речь, целое высказывание, и сюжет, и жанр как форма, в которую отливается мысль, и самое мелкое единство смысла (пусть, например, имя собственное), если только это происходит из фонда традиции и заранее дано поэту и писателю, если только это заведомо для него „готово“» [Там же, с. 311].
Именно такой «миф» риторической культуры обусловливал античное поведение людей наполеоновской эпохи, которое уже отказывался понимать и над которым смеялся Л. Н. Толстой. Для Толстого «готовое» слово риторической культуры является синонимом лжи, притворства, напыщенности, «книжности». Между тем, для людей рубежа XVIII — начала XIX в. подобное «готовое» слово зачастую было единственно возможным словом. Оно обеспечивало правильный механизм поведения личности в любых обстоятельствах. Достаточно вспомнить цитату о «годах Цезаря» из корнелевского «Сида» в устах Сухтелена на Аустерлицком поле, сказанную Наполеону, о чем писал Ю. М. Лотман [Лотман, 1994, с. 199]. Наполеона она привела в восторг, так как сам он принадлежал к этой же риторической культуре. По тому же принципу «работают» античные ономомифы, когда человек мыслит себя Горацием Коклесом, Брутом, Фемистоклом, сразу же актуализируя те культурные смыслы, которые стоят за этими словами. В монографии «Сотворение Карамзина» Ю. М. Лотман, характеризуя эпоху рубежа XVIII—XIX вв., писал: «Идеи неостоицизма хорошо гармонировали с культом античных добродетелей, героической гибели и в целом с культурой неоклассицизма. Поскольку героическое провозглашалось нормой человеческого поведения, единственно достойным человека состоянием, в быт и обыденную жизнь переносились нормы, слова, интонации и жесты, заимствованные из Плутарха и Тацита. Быть человеком — означало быть „римлянином“. Не только в Париже, но и в Петербурге и Москве жажда героизма порождала „римскую помпу“ (Белинский)» [Лотман, 1998, с. 242].
Само собой разумеется, что в русле этих традиций и интересов самым читаемым античным автором оказался Плутарх с его «Сравнительными жизнеописаниями знаменитых греков и римлян», увлечение которым в эпоху революции и наполеоновских войн приняло буквально повальный характер. Плутархом зачитывались польский адъютант Наполеона Юзеф Сулковский, которого французский писатель А. В. Арно назвал «человеком Плутарха», и С. Н. Глинка, ставший в 1808 г. одним из руководителей консервативно-охранительной русской партии, издателем журнала «Русский вестник», декабрист И. Якушкин, назвавший это произведение греческого автора настольной книгой всего поколения декабристов, и Р. Стурдза, придворная дама императрицы Елизаветы Алексеевны.
Плутарховский миф особенно ярко отражается в мемуарной литературе эпохи, причем как в русской, так и в европейской, например, французской. Это указывает на интернациональный характер данного культурного явления. Что касается мемуарноавтобиографической литературы, то в описываемую эпоху именно она с ее гипертрофированным личностным началом имела возможность в наиболее концентрированном виде отражать специфику культурно-исторической ментальности человека того времени.
Так, в «Воспоминаниях» Ф. Булгарина подвиги героев наполеоновской эпохи неизменно даются сквозь призму Античности, равно как и общая оценка этого поколения. Ф. Булгарин писал: «Воины Александра и Наполеона, как некогда сподвижники Энея и Агамемнона, обращают на себя внимание умных людей нового поколения!» [Булгарин, с. 171].
Античные параллели неизменно сопровождают описание кампаний русских армий начала XIX в., в которых автор принимал активное участие. Например, подвиг поручика Старжиновского, который под градом неприятельских пуль начинает укладывать доски на мосту, сразу же получает соответствующую параллель из Плутарха: «Разве Гораций Коклес сделал бы более!» [Там же, с. 318]. М. Барклай-де-Толли «достоин был предводить легионами Цезаря, и Плутарх или Тацит изображением его характера украсили бы красноречивые страницы своего повествования» [Там же, с. 457] и т. д.
А. Муравьёв, бывший в 1812 г. адъютантом М. Баркалая-деТолли, в своих записках, вспоминая хладнокровие своего начальника в сражении под Смоленском, пишет: «Восхищаюсь таким мужеством и почитаю его истинно великим и подобным древним мужам Плутарха» [Муравьёв А. Н., 1988, с. 284]. А. Норов, также говоря о битве под Смоленском, патетически восклицает: «Какие вдохновенные картины для пера писателя и для кисти художника представляют нам даже официальные реляции о героических битвах под стенами Смоленска: Раевского, Дохтурова, Паскевича, Неверовского, этих Аяксов, Ахиллесов, Диомедов, Гекторов нашей армии» [Норов, с. 342]. Д. Давыдов в своих «Военных записках» отождествлял своих товарищей по партизанской борьбе А. Фигнера и А. Сеславина с Улиссом и Аяксом русской армии, а объясняя невыгоды ночной атаки, замечал, что «большая часть воинов лучше воюет при зрителях. Сам Аякс требовал дневного света для битвы» [Давыдов, с. 183].
С французской стороны Ц. Ложье в своем «Дневнике великой армии», создавая галерею славы для своих сослуживцев, патетически восклицал: «…мы предпочитаем сражаться и погибнуть от неприятельского оружия или от суровости зимнего времени, чем покинуть пост, доверенный нашей чести. Разве это не такие характерные черты, которые Плутарх мог бы собрать, чтобы поведать о них потомству?» [Ложье, с. 167].
Античный колорит определяет повествование в «Мемуарах» генерала М. де Марбо, чьи записки по праву считаются одним из самых лучших и достоверных произведений, передающих дух наполеоновской эпохи.
Античный код неизменно определяет восприятие автором действительности при описании военных действий. Например, во время битвы при Прейсиш-Эйлау со всех сторон окруженный русскими 14-й пехотный полк отдает Марбо своего орла, чтобы тот привез его императору: «„Возвращайтесь к императору, передайте ему прощальные слова 14-го линейного полка, который был предан ему и выполнил его приказы. Отнесите ему нашего орла, которого он дал нам. Мы не можем больше защищать. Нам будет очень тяжело, умирая, видеть, что он попадет в руки неприятеля!“ И командир передал мне своего орла, которого солдаты, представлявшие славные остатки этого бесстрашного полка, приветствовали в последний раз криками: „Да здравствует император!“ Они были готовы через минуту умереть за него. Это было прямо по Тациту: „Caesar, morituri te salutant!“ Однако здесь это кричали герои!» [Марбо, с. 209−210].
Механизм создания «плутарховского» мифа ярко проявляет себя в «Записках» С. Глинки, который так вспоминал годы своего учения в кадетском корпусе в 80-е гг. XVIII в: «Голос добродетелей Древнего Рима, голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных душах кадет. Область воображения не может быть пустыней. Были у нас свои Катоны, были подражатели доблестей древних греков, были свои Филопемены» [Глинка С. Н., с. 77].
Культурный миф героической Античности в его плутарховской интерпретации не мог не повлиять на мировоззрение и самого автора записок. С. Глинка признается: «Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была душой римлян. Исполинский призрак древнего Рима заслонял от нас родную страну» [Там же, с. 79−80]. Сам Глинка копирует плутарховское поведение после ссоры с кадетом Безаком, когда дело дошло до шпаг. В результате Глинку заключают в карцер, где он предается героическим мечтам: «Подвиг Катона, поразившего себя кинжалом, когда Юлий Цезарь сковал его цепями, кружился у меня в голове, я готов был раздробить ее о стену» [Там же, с. 125].
Античные ассоциации и сравнения во множестве присутствуют и в «Записках» Дуровой, причем если в мужских военных мемуарах эти ассоциации относятся в абсолютном большинстве случаев к сфере военной деятельности, придавая ей возвышенногероический колорит, то у Дуровой реалии античной культуры составляют необходимый элемент авторского восприятия мира в целом, охватывая сферу быта гак же подробно и основательно, как и сферу героического военного бытия. В этом смысле «Записки» Дуровой очень показательны как доказательство тезиса о том, что Античность в эпоху революции и наполеоновских войн воспринималась людьми этого поколения как вторая действительность, оказывая огромное влияние на мировосприятие человека и на способы оценки им окружающего мира. Из ее «Записок» и «Добавлений» к ним мы, например, узнаем, что не только ее любимого коня звали Алкидом в честь Алкида-Геракла, но и все офицерские лошади в полку носили античные имена: Паллада, Кастор, Полидевк и др.; проигрывание офицерами своих лошадей в карты она называет жерновом Сизифа. Описывая быт офицеров и их обыкновенный досуг, Дурова замечает, что в свободное время Иван Торнези часто представлял балет «Ариадна на острове Наксосе». Причем роль Ариадны он играл сам. Столкнувшись со сварливой начальницей почтовой станции, она называет ее мегерой, старуху в избе, которая странно себя ведет, прикладывая поминутно два пальца к стене, предварительно подержавшись за нос, сивиллой, женщину, преследующую «женатого сумасброда» Пел*, сравнивает с фракийской царевной Феллидой, возлюбленной Демофонта. Рассказывая о годах своего отрочества, Дурова признается, что всегда была похожа на Ахиллеса в женском платье; бросившись с высокого холма верхом на лошади, чтобы выполнить приказ генерала М. Милорадовича, Дурова сравнивает свой «подвиг» с подвигом римского героя Марка Курция; после обильного угощения в доме одной петербургской знакомой она выражает опасение, что ее собираются кормить как Мелета Кротонского (у Дуровой так. — Е. П.), знаменитого античного атлета. Отмечая, что дамы неохотно идут с ней танцевать, она объясняет этот факт тем, что во время танца с ней этим дамам, словно ученицам Пифагора, приходится осудить себя на молчание.
Третьей важной чертой культурной жизни наполеоновской эпохи было всеобщее увлечение театром, причем театр, так же как и Античность, воспринимался людьми рубежа веков и первых двух десятилетий XIX в. как изначальная модель для реальной жизни, ее идеальный образец. Ю. М. Лотман писал, характеризуя эту черту культурной жизни эпохи: «Театр вторгается в жизнь, активно перестраивает бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, дневник и бытовую речь. То, что вчера казалось бы напыщенным и смешным, поскольку приписано было лишь сфере театрального пространства, становится нормой бытовой речи и бытового поведения. Люди революции (можно добавить: и первых двух десятилетий XIX в. —Е. П.) ведут себя в жизни как на сцене» [Лотман, 1994, с. 182]. Эта черта культурно-исторического менталитета эпохи также очень быстро стала чертой исторической, непонятной для последующих поколений и отождествляющейся ими с напыщенностью и неискренностью в выражении своих мыслей и чувств. Уже Н. В. Гоголь будет смеяться над «величественной наружностью», «генеральскими движениями» и «картинной, величественной осанкой» генерала Бетрищева, парадного генерала 1812 г. в духе А. Михайловского-Данилевского.
Между тем, для поколения начала XIX в. мысль и чувство, изначально оформленные в литературную цитату, подтверждаемые и утверждаемые авторитетом театрального искусства, были совершенно естественны и привычны, не неся в себе никакой негативной маркированности. Более того, они воспринимались как единственно возможные для человека образованного, вписанного в культурный контекст своего времени.
Понятно, что легче всего эта «театральная» жизнь давалась людям, облеченным максимальной военной и политической властью. Так, безусловным актером на сцене истории чувствовал себя Наполеон Бонапарт, который даже брал уроки у знаменитого трагика Ф. Ж. Тальма, чтобы придать своим жестам, своему поведению, своей манере держаться ту театральную величественность, которая считалась неотъемлемой чертой подлинного героя истории. В мемуарах А. Коленкура, обер-шталмейстера императорского двора и одного из доверенных лиц императора, Наполеон произносит следующие слова, объясняющие его величественную манеру держаться: «Царствовать — это значит играть роль. Государи всегда должны быть на сцене» [Коленкур, с. 346]. При этом театральность не должна пониматься исключительно как 202.
возвышенно-величественная, «императорская» манера держать себя. Театральность могла предполагать намеренное опрощение своего образа в соответствии с ролью «первого солдата армии», «маленького капрала».
Можно привести множество примеров, подтверждающих практику «театрального» поведения людей Наполеоновских войн. Например, прусская королева Луиза, приехав в Тильзит, где решалась судьба ее королевства, по свидетельству Наполеона, встретила его, как мадемуазель Ж. Дюшенуа в «Цинне». П. Вяземский, разбирая в своих «Записках» зверский поступок Ф. Ростопчина с московским купеческим сыном Верещагиным, которого он принес в жертву черни, приходит к выводу, что это кровавое действо было разыграно не только для усиления народной ненависти к неприятелю, но и для Наполеона, который должен был по достоинству оценить этот трагический спектакль и его основных действующих лиц: патриота-военачальника (Ростопчина), предателя (Верещагина), разгневанную толпу граждан и вестникаиностранца (француза Mouton), которого Ростопчин избавляет от казни и отпускает со словами: «Поди, расскажи твоему царю, как наказывают у нас изменников!» [Вяземский, с. 450]. Так же театрально поведение П. Энгельгардта, смоленского помещика, возглавлявшего в 1812 г. крестьянский партизанский отряд и расстрелянного французами в Смоленске. История казни Энгельгардта во всех рассказах современников, начиная от письма священника Успенского собора в Смоленске, очевидца казни, и до «Походных записок» И. Лажечникова превращена в спектакль одного актера П. Энгельгардта, выступающего одновременно и режиссером трагического действа, в котором он играет главную роль. Зрителями этой трагедии и одновременно статистами выступают и французы, и окружающие героя смоленские граждане. В трагический спектакль П. Энгельгардта входят и патриотическая речь на суде с отказом от какого-либо снисхождения со стороны французских властей, и ночь перед казнью, которую он проводит в кампании французских и польских офицеров за бутылкой вина, восторженно проповедуя свои патриотические взгляды, и дорога на казнь, когда он, разговаривая с конвойным офицером, самозабвенно цитирует строки из трагедии Корнеля, подходящие к данной ситуации. На месте казни Энгельгардт так же театрально прощается с сыновьями и принимает отпущение грехов у священника. Наконец, последним аккордом героической трагедии является отказ героя от обязательной при расстреле процедуры завязывания глаз и командование собственным расстрелом (привилегия, предоставляемая, как правило, лишь лицам, находящимся в генеральском звании).
Склонность к театрализации действительности проявляет семнадцатилетний корнет Кавалергардского полка граф П. Сухтелен, который в ответ на замечание Наполеона, что тот слишком молод, чтобы участвовать в столь крупных сражениях, как сражение при Аустерлице, ответил ему знаменитыми словами дона Родриго из корнелевского Сида: «Перестаньте, трусы, считать года богов: судьба Цезарей быть доблестными раньше своих лет!», чем привел Наполеона в восхищение. В «Военных записках» Д. Давыдова полковник 4-го Иллирийского полка Гетальс, взятый в плен партизанами из-за чрезмерного пристрастия к охоте, по словам Д. Давыдова, «каждый раз, когда попадалась ему на глаза легавая собака его, улегшаяся на казачьей бурке… брал позицию Тальма в „Эдипе“ и восклицал громким голосом: „Malheureuse passion!“ („Пагубная страсть!“)» [Давыдов, с. 181].
Традиция театрализации действительности хорошо дает себя знать и в «Записках» Дуровой. Так, описывая большие кавалерийские маневры в Мизочи в 1810 г., во время которых мариупольские гусары ее эскадрона чуть нс растоптали еврея, чье «бледное лицо, полные ужаса глаза, растрепанные пейсы и широко разинутый рот делали его похожим на чудовище» (с. 129), она тут же приводит французскую цитату из трагедии Ж. Расина «Федра», подсказанную ей офицером Вонтробкой, в которой моделируется сходная ситуация (описание чудовища, попавшегося на пути героя). Рассказывая историю французской сироты, Дурова приводит цитату из французской трагедии («в глубине наших сердец кровь заледенела!»), чтобы охарактеризовать ужас французского семейства, расположившегося в лесу в окрестностях Смоленска, когда они услышали казачье гиканье по лесу. Размышляя об ослепленном своим счастьем Наполеоне, мемуаристка признается, что ей «часто приходит на мысль молитва Старна перед жертвенником Одина, когда он просит его наслать на ум Фингала недоумение, предзнаменующее могучего падение» (с. 160). В данном случае цитата взята из трагедии В. А. Озерова «Фингал».
Для наполеоновской эпохи основной сферой приложения законов театрализации, а значит, и эстетизации действительности была сфера военных действий. Наиболее четко и определенно, в свойственной ему афористической лапидарной манере этот «театральный» взгляд на сражение был сформулирован самим «главным режиссером» этой блестящей и кровавой эпохи Наполеоном, который в беседе с графом Нарбонном перед Бородинским сражением сказал: «Сегодня будет сражение: а что такое сражение? Трагедия: сперва выставка лиц, потом игра страстей, а там развязка». Эти слова Наполеона были использованы Ф. Глинкой в качестве эпиграфа к «Очеркам Бородинского сражения», которые представляют собой парадную батальную зарисовку грандиозного сражения XIX в., описанного автором по всем законам драматического искусства. Так, в «выставке лиц» Ф. Глинка подробнейшим образом представляет расположение обеих армий, местоположение корпусов и дивизий, дает характеристику виднейшим генералам и маршалам русской и французской армий, начиная с Наполеона. В этой «выставке лиц» принимают участие маршал И. Мюрат, который «рисовался на статном, крутом коне впереди неприятельской конницы» [Глинка Ф., с. 67], и генерал П. Коновницын, который в простой серой шинели разъезжает перед рядами русских на скромной лошадке, маршал М. Ней, который «в блестящем маршальском мундире, с воинственной осанкою, сидит на белой лошади подле 3-го корпуса» [Там же, с. 84], и А. Ермолов, «осанистый, могучий, с атлетическими формами, с лицом и мужеством львиным» [Там же, с. 117]. Для сравнения в «Дневнике» Ц. Ложье так описывается впечатление от Бородинского поля: «Дивная панорама раскрывается перед нами. Прежде всего нам бросается в глаза позиция русских: она образует половину амфитеатра, или полукруг, кривая которого соответствует на другой стороне месту, где находится Наполеон. Под блеском солнца сверкает оружие и амуниция пехотинцев и кавалеристов, марширующих навстречу одни другим» [Ложье, с. 87−88].
Подобная театрализация военной действительности неизменно присутствует во всех военных мемуарах эпохи. «Записки» Дуровой, разумеется, не исключение в этом ряду. Дурова прибегает к «выставке лиц» всякий раз, когда возникает необходимость дать описание армии, полка, эскадрона общим планом, во время парада, боя или выступления в новый поход. Вот так, к примеру, дается ею описание русских войск при известии о бегстве Наполеона с острова Эльба: «Двинулись войска, снова вьются наши флюгера в воздухе, блистают пики, прыгают добрые кони! Там сверкают штыки, там слышен барабан; грозный звук кавалерийских труб торжественно будит еще дремлющий рассвет» (с. 234). Вспоминая же свое первое сражение под Гутштадтом 22 мая 1807 г., Дурова пишет: «Новость зрелища поглотила все мое внимание, грозный и величественный гул пушечных выстрелов. Рев или какое-то рокотание летящего ядра, скачущая конница, блестящие штыки пехоты, барабанный бой и твердый шаг, и покойный вид, с каким пехотные полки наши шли на неприятеля, все это наполняло душу мою такими ощущениями, которые я никакими словами не могу выразить» (с. 62). Это описание Дуровой удивительным образом напоминает первое впечатление Д. Давыдова от вида войска в походе, высказанное им в «Военных записках»: «Стук колес пушечных, топот конницы, разговор, хохот и ропот пехоты, идущей по колени в снегу, скачка адъютантов по разным направлениям, генералов с их свитами: самое небрежение, самая неопрятность одежды войск, два месяца не видавших крыши, закопченных дымом биваков и сражений, с оледенелыми усами, с простреленными киверами и плащами, — все это благородное безобразие, знаменующее понесенные труды и опасности, все неизъяснимо электризовало, возвышало мою душу!» [Давыдов, с. 47].
Очевидно, что такое детальное совпадение стиля, интонации, самих поэтических оборотов мысли не случайно. Оно обусловлено, с одной стороны, общим литературным стилем эпохи в изображении подобных сцен, а с другой — пылким романтическим (в духе культурно-исторического менталитета эпохи) сознанием авторов записок, не представляющих своей жизни без бранной славы и видящих свой идеал человека в кавалерийском офицере, кладущем свою жизнь на алтарь Отечества.
Вслед за «выставкой лиц» идет «игра страстей» — описание самого сражения, распадающегося на ряд сцен, в центре каждой из которых, как правило, действуют один или несколько актеров, героев-военачальников.
Традиционно любимым сюжетом подобной «игры» у всех без исключения мемуаристов (как русских, так и французских) является описание стремительных кавалерийских атак. Это вполне естественно, так как именно массированные атаки кавалерии на поле боя, их скоротечность и разрушительные для хода сражения последствия, сама грандиозность зрелища создавали эффект быстрой смены действий и сцен в трагедии, производили незабываемое эстетическое впечатление на зрителей. Это ощущение передается всеми мемуаристами, описывающими подобные сцены: Ф. Глинкой и Д. Давыдовым, Ц. Ложье и Е. Лабомом, Р. Зотовым и Н. Дуровой. Особенное впечатление производили на мемуаристов массированные атаки кавалерии маршала Франции И. Мюрата. Например, Д. Давыдов так описывает атаку этой кавалерии под Прейсиш-Эйлау: «Загудело поле, и снег, взрываемый 12 тысячами сплоченных всадников, поднялся и завился из-под них, как вихрь из-под громовой тучи» [Давыдов, с. 70]. Ф. Глинка в «Очерках…», рассказывая об атаке кирасиров Мюрата на батарею Раевского, свидетельствует: «Поле заговорило под копытами многочисленной кавалерии… Могучие всадники в желтых и серебряных латах… слились в живые медные стены. Тысячи конских хвостов, пуки разноцветных перьев гуляли по воздуху. И вся эта звонко-железная толпа неслась за Мюратом» [Глинка Ф., 1991, с. 123]. А вот как повествует об этой же атаке французский офицер Ц. Ложье: «…все приняло вид какой-то горы из движущейся стали… Кирасиры, каски, оружие — все это блестит, движется и искрится на солнце и заставляет нас забывать об остальном. Это кирасиры Коленкура» [Ложье, с. 92−93]. Н. Дурова в «Записках» так рисует атаку Литовского уланского полка под Смоленском: «Земля застонала под копытами ретивых коней, ветер свистел в флюгерах пик наших; казалось, сама смерть со всеми ее ужасами неслась впереди фронта храбрых улан» (с. 167).
Сближению поля сражения с театральной сценой во многом способствовала блестящая форма того времени, вносящая в боевые действия оттенок парадно-романтической красивости, уподобляя генералов, офицеров и даже солдат актерам. Чрезвычайно сильное эстетическое чувство по отношению к мундиру, который она носит, переживала Дурова, считавшая, что только это блестящее одеяние ей подлинно к лицу. Красота и блеск мундира, несомненно, составляли для нее дополнительную привлекательность военной службы. Так, любуясь своим гусарским мундиром, она констатирует: «Мундир мой был сшит прекрасно! Все мое гусарское одеяние блистало вкусом и богатством» (с. 95). Рассказывая о полковом смотре Мариупольского полка под Луцком в 1810 г., Дурова пишет: «Вот мы и выступили на зеленую равнину в белых мундирах, блистающих золотом, и с развевающимися перьями на киверах» (с. 100). Общаясь в местечке Броды с польскими офицерами, она с удовлетворением замечает, что они «не могли налюбоваться моим мундиром, превосходно сшитым; они говорили, что их портные не в состоянии дать такую прекрасную форму мундиру» (с. 113). Служа ординарцем у М. Милорадовича, который неизменно выбирал ее для сопровождения его в поездках, мемуаристка так объясняет для себя причину этого предпочтения: «Милорадович любит блеск и пышность; самолюбию его очень приятно, что блистающий золотыми шнурами гусар на гордом коне рисуется близ окна его кареты и готов по мановению его лететь, как стрела, куда он прикажет» (с. 122).
Важнейшей чертой военного мемуарного сознания первой половины XIX в. была героизация действительности, культ военных подвигов и военной доблести как средства достижения этих подвигов. Эта черта, являясь отличительной особенностью культурно-исторического менталитета эпохи, не зависела напрямую ни от особенностей индивидуального характера мемуариста, ни от его политических взглядов. Умный, ироничный, порой скептически-циничный в делах большой политики, генерал А. Ермолов так же искренне преклоняется перед «алтарем Марса», как и пылкий романтически увлекающийся Д. Давыдов. Е. Лабом, роялист 1818 г., который в своей «Реляции о походе 1812 года» обрушивается с резкой критикой на политику Наполеона, рисуя всю русскую кампанию самыми черными красками, тем не менее, всякий раз, когда речь заходит об описании военных действий, с нескрываемым восхищением (и в героико-романтическом ключе!) описывает подвиги солдат и офицеров IV корпуса и их командира вице-короля Италии Евгения Богарне [см.: Лабом]. В этом плане «Реляция» Е. Лабома смыкается с «Дневником» Ц. Ложье, молодого романтически настроенного патриота Италии, открыто симпатизировавшего Наполеону и готового трактовать в его пользу любой его поступок. Подобное типологическое сходство мемуарной рефлексии авторов записок объясняется тем фактом, что воинское ремесло в наполеоновскую эпоху почиталось благороднейшим в мире занятием, в определенном смысле даже сакрализовалось, глорифицировалось. В подобных условиях храбрость совершенно естественно превращалась в своеобразное мерило человеческой ценности в целом.
Эти воззрения эпохи очень хорошо отражены в «Записках» Дуровой, особенно в сцене, когда Дурова в разговоре с ротмистром Казимирским, отвечая на его вопрос, каким она находит военное ремесло, поет дифирамбы неустрашимости как основному качеству человеческой натуры, говорит, что любит воинское ремесло со дня рождения, что «занятия воинские были и будут единственным моим упражнением, что считаю звание воина благороднейшим их всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков, потому что неустрашимость есть первое и необходимое качество воина; с неустрашимостью неразлучно величие души, и при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям» (с. 56).
Случаи явной трусости в бою офицеров или солдат были так нетипичны для сознания мемуаристов, так противоречили военной традиции эпохи, что подобных примеров нам практически не удалось обнаружить ни в одних мемуарах, как русских, так и французских. Любые подозрения в трусости на поверку, как правило, оказываются ошибочными. Например, в «Дневнике» Ц. Ложье рассказывается о том, как Е. Богарне однажды во время боя заметил бледность на лице одного итальянского солдата из обоза. «Что это? — сказал принц. — Ты трусишь, а между тем ты из гвардии…» — «Нет, принц, — ответил несчастный, показывая ему изуродованную картечью ногу, — только вот это мешает мне твердо держаться на стремени» [Ложье, с. 135].
Единственным исключением в ряду мемуарных произведений, описывающих образцы героических деяний на поле чести, являются «Записки» Дуровой с их женской гендерной составляющей. В них она честно признается в том, что в начале кампании 1812 г. вверенная ее попечению команда солдат, оставленная ею по неосторожности на необстрелянного и не бывшего еще в деле унтер-офицера, бежала от мнимой опасности, встревожив покой всего Литовского уланского полка. Причина этой откровенности частично заключается в том, что этот случай поставил под угрозу репутацию Дуровой как боевого офицера, задел ее профессиональную гордость. Во-вторых, это объясняется тем, что Дурова, будучи женщиной, не была вписана окончательно в традиции военной мужской этики, негласно запрещавшей освещение подобных негсроических страниц военного бытия. Тем не менее, Дурова, нарушив негласный запрет, нс рекомендующий изображение в мемуарах примеров трусости и малодушия (особенно в записках, изначально предназначенных к печати!), остается вполне в русле существующих традиций, когда требует самого сурового наказания для людей, посмевших нарушить свой воинский долг. Мемуаристка пишет: «Правду говорил Ермолов, что трус солдат не может жить… У меня нет слов изобразить всю великость зла, какое может сделать один ничтожный, робкий негодяй для целой армии! Нет, робкий солдат не должен жить: Ермолов прав!» (с. 160).
Культ героизма, свойственный людям наполеоновской эпохи, находил свое отражение и в специфике восприятия смерти как высшей награды честолюбия. Воспитанное на героических образцах Античности и не менее героических образцах современности, поколение 1800−1810-х гг. XIX в. отличалось не только безупречным мужеством перед лицом смерти, но и осознанием того, что только героическая смерть на поле боя является доказательством абсолютного мужества человека, а, следовательно, наиболее желанна. Только в контексте культурно-исторического менталитета эпохи станет понятна обида П. Вяземского на то, что пуля, ранившая его лошадь, не попала ему в руку или ногу, «чтоб закалить на мне память о Бородинской битве» [Вяземский, с. 444], или зависть А. Пушкина к оторванной руке А. Ипсиланти — знаке чести, полученном в Лейпцигском сражении.
В «Дневнике» Ц. Ложье смерть на поле боя, как правило, не мешает герою в последний раз проявить доблесть и мужество, органично присущие солдату. Так, батальонный командир Негрисоли в сражении под Малоярославцем, получив первую рану, вернулся в строй, «но затем поражен был еще одной пулей и упал со словами: „Вперед, итальянцы! Я умру счастливым, если вы победите!“» [Ложье, с.139]. Лейтенант Бенде, смертельно раненный в сражении под Дорогобужем, делает в присутствии всех товарищей духовное завещание: «Вы все отлично знаете, что мы не боимся смерти. Любите родину; небо, быть может, сподобит вас умереть в ее защиту» [Там же, с. 152]. В мемуарах М. де Марбо один из самых запоминающихся эпизодов — это отчаянная атака французских кирасиров накануне сражения под Прейсиш-Эйлау в 1807 г. на позиции русской армии, в результате которой были почти полностью уничтожены восемь русских батальонов. Марбо пишет: «Никто никогда не видел подобных последствий кавалерийской атаки. Император, чтобы выразить свое удовлетворение кирасирам, обнял их генерала в присутствии всей дивизии. В ответ д’Опуль воскликнул: „Чтобы показать, что я достоин подобной чести, я должен погибнуть за Ваше Величество!“ Он сдержал слово, потому что на следующий день погиб на поле битвы при Эйлау. Какие времена и какие люди!» [Марбо, с. 201−202].
Дурова в «Записках» неоднократно размышляет о проблеме смерти в бою, и ее рассуждения по этому поводу, как и в большинстве других случаев, представляют собой яркое отражение специфики культурно-исторического менталитета эпохи в целом. Так, в записи от 29 и 30 мая 1807 г. она задается вопросом, что может усладить ужас смерти простому солдату, и не может найти на него ответа: «Совсем другое дело — образованному человеку: высокое чувство чести, героизм, приверженность к государству, священный долг к отечеству заставляет его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнью» (с. 67). Повествуя об эпизоде, когда она в первый раз в жизни испугалась, услышав в ночном лесу вопль, «не имеющий в себе ничего человеческого», мемуаристка пытается понять причину своего страха и приходит к выводу, что это произошло от того, что «смерть на поле сражения сопряжена со славою, а на поле среди волков с одной только болью» (с. 134).
Эта цитата из «Записок» Дуровой очень хорошо иллюстрирует существовавшую в сознании ее современников идею тесной связи героической смерти со славою, приобретаемой на поле чести. Жажда славы как необходимой принадлежности воинской службы и высшей награды мужеству неизменно присутствует на страницах мемуарной и эпистолярной литературы эпохи и в соединении с воинственно-патриотическими декларациями в духе своего времени составляет одну из основных черт исторической психологии военной субкультуры того времени.
Наэлсктризованность славой военных подвигов чувствуется и в сентиментальном дневнике А. Чичерина, когда автор, узнав о победах М. Платова под Духовщиной, не может уснуть от радостного волнения и «упивается славой», и в «Дневнике» Ц. Ложье, описывающего многочисленные примеры воинского энтузиазма Итальянского корпуса во время кампании 1812 г. в лучших традициях патриотической глорификации. Даже оказавшись в почти безвыходных условиях отступления на страшном холоде, практически без продовольствия, автор делает такую запись 6 ноября под Дорогобужем: «Неужели мы так и погибнем в неизвестности, без славы?» [Ложье, с. 153].
В не меньшей, а, может быть, еще большей степени, чем у Ц. Ложье, культ славы представлен в мемуарах генерала М. де Марбо. Характеризуя собственное настроение и настроение своих друзей, спешащих в 1809 г. попасть из Испании в Австрию, где начиналась новая кампания, мемуарист пишет: «Чувство, которое нами двигало, можно назвать либо жаждой славы, либо безумием. Но оно владело нами безраздельно, и мы шли только вперед, не оглядываясь назад!» [Марбо, с. 292]. Граф Ф. Сегюр, с которым Марбо так жестко полемизировал впоследствии, точно так же передает в своих воспоминаниях феномен глорификации военной действительности в сознании современников, видя в нем «опьянение победой и главным образом той ненасытной страстью к славе, тем могучим инстинктом, который в поисках бессмертия толкает людей в объятия смерти» [Сегюр, с. 183].
Важным моментом проявления культа героизма в военной мемуарной прозе первой половины XIX в. является безусловное преклонение перед мужеством и доблестью неприятеля. Эта черта мемуарной литературы представляет собой отражение важной психологической особенности сознания людей наполеоновской эпохи — мысли о том, что храбрость и мужество как основа характера «детей Марса» являются общим достоянием человечества, а не представляют собой исключительную монополию той или другой противоборствующей стороны, отделенной от другой классовыми, идеологическими или национальными барьерами. Такой подход во многом объясняется спецификой воспитания поколения, воспитания преимущественно военного, ориентированного на героические образцы Античности, воспринимаемой в качестве интернационального культурного наследия.
Во французских мемуарах много и подробно говорится о доблести русских, проявленной ими под Смоленском, Бородино и Малоярославцем. Так, граф Ф. Сегюр, бывший в 1812 г. адъютантом Наполеона, восхищается героическим отступлением Д. Неверовского под Смоленском, говоря, что тот отступал, как лев. Описывая битву под Бородино, Ц. Ложье восторгается героической смертью генерала А. Кутайсова, погибшего в тот момент, когда смело вел в огонь своих кавалеристов. Е. Лабом в «Реляции» свидетельствует о мужестве защитников редута Раевского, захваченного при атаке кирасиров О. Коленкура, которые предпочли погибнуть, чем сдаться, и выражает уважение доблести их командира генерала П. Лихачева, который «хотел сдержать данное слово и умереть на своем посту: оставшись один, он бросился нам навстречу, чтобы погибнуть» [Лабом, с. 143].
Что касается русских мемуаристов, то в их книгах доблесть и мужество противника также представлены очень широко. Ф. Глинка в «Очерках» дает блистательную характеристику И. Мюрату и М. Нею, которого называет «львом, во гневе махающим гривой, человеком, питающимся огнем и порохом» [Глинка Ф., 1991, с. 338], и Е. Богарне, который в описании автора представлен как «один из самых храбрых и, может быть, благороднейший из предводителей французских» [Там же, с. 390]. В «Письмах…» Ф. Глинка приводит множество образцов доблести, проявленной французами при защите Парижа: храбрость учеников Политехнической школы, мужество 60-летнего старика — национального гвардейца, который сражался с русскими до последней капли крови, не желая сдаться, и т. д. И. Лажечников в «Походных записках…» также восхищается доблестью учеников Политехнической школы, которые «дрались в сей день, как молодые разъяренные львенки, у которых отнимают мать их. В первый раз явились они из классов на поле брани, ученики сражались с искусством ветеранов и умирали героями на пушках, забираемых победителями» [Лажечников, с. 136]. Д. Давыдов в «Военных записках» восторгается мужеством старой гвардии, признается в «удивлении, подвигами Наполеона возбуждаемом, и… уважении, которое я питал к войскам его среди грозы военной» [Давыдов, с. 153]. В. Левенштерн в своих мемуарах отмечает, что под Красным М. Ней сражался, как лев, и, повествуя об ужасах французского отступления, не может не признать, что «французы выказывали изумительную храбрость… они берегли патроны и стреляли только в упор» [Левенштерн, с. 367]. Подобную точку зрения на неприятеля всецело разделяет и Дурова в своих «Записках», где она признается, что «французы — неприятель, достойный нас, благородный и мужественный» (с. 161).
Правда, в отношении русских к французам заметен еще один аспект, который критик XIX в. К. Леонтьев в статье «Наши новые христиане» охарактеризовал как эстетическую любовь. Он писал: «Русское дворянство времени Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им стратегически (а, следовательно, и лично) на каждом шагу» [Леонтьев, с. 213]. Эстетическое увлечение русского дворянства Францией и французами, составляющее одну из черт сознания образованного общества России, не осталось незамеченным в русских военных мемуарах первой половины XIX в. Лучше всего эта тенденция проявляется в статье генерала М. Орлова «Капитуляция Парижа», где автор пытался проанализировать причины любви русских к французам и ответной симпатии, которую французы питали к русским. Он пишет: «Причину этого искали в предполагаемом сходстве характеров и вкусов: а я, напротив, приписываю стечению особенных обстоятельств. Мы любили язык, литературу, цивилизацию и мужество французов, с убеждением и энтузиазмом отдавали им во всех этих отношениях справедливую дань удивления… Что касается до храбрости, то обе нации славно и не один раз встречались друг с другом на полях боевых и научились взаимно уважать себя. Здесь мы также сошлись» [Орлов, с. 17].
Основным моментом, определяющим типологию отличия наполеоновской эпохи от следующих за ней периодов европейского военного противостояния, включая Первую мировую войну, можно считать ее относительно гуманистический дискурс, заставляющий ее участников жить по законам чести и чувствительности. Для сравнения можно вспомнить, что с последней трети XIX в., когда в России престиж армии и военной службы начинает падать, в обществе появляется запрос на отстаивание кодекса чести офицера. Один из первых примеров подобных работ — статья Э. Свидзипского «О развитии военных познаний и общих принципов в среде офицеров армии», напечатанная в «Военном сборнике» за 1875 г. (№ 10).
Кульминации данный процесс достигает в период между Русско-Японской и Первой мировой войнами. Именно в это время в русских журналах, например «Русском инвалиде», «Офицерской жизни» и сборниках, во множестве появляются работы, посвященные этической составляющей бытия русского офицерского сословия. При этом в качестве идеала для современности рассматривалась эпоха Наполеоновских войн. Наиболее авторитетным текстом в этом ряду была книга Н. Морозова «Воспитание генерала и офицера как основа побед и поражений. Исторический очерк из жизни русской армии наполеоновских войн и времени плац-парада» (1909).
В целом надо признать, что для восприятия войны как благородно-героического эстетического деяния огромное значение имела традиция рассмотрения ее как рыцарского поединка, благородного занятия истинных мужчин. Эта традиция была неразрывно связана с культом чести, находящим свое отражение и в воинском кодексе чести эпохи, и, в гораздо большей степени, в неписаном кодексе поведения, которым должен был руководствоваться офицер, чтобы не потерять уважение к самому себе, то есть иметь право воспринимать себя в качестве образца идеального воина.
Анализ сущности войны как культурной функции человечества был подробно дан в монографии И. Хейзинги «Homo ludens», в которой автор писал: «Война, понимаемая как сфера чести, ведется в границах определенного круга, члены которого признают друг друга равными или, во всяком случае, равноправными. Попав в сферу чести, война становится священным установлением и в этом качестве облекается всем духовным и моральным декором» [Хейзинги, с. 113].
В эпоху Наполеоновских войн кодекс воинской чести функционировал практически в полной мере, и это находило отражение в литературной традиции эпохи. Так, восприятие войны и военной службы как сферы реализации законов чести мы находим у писателя А. де Виньи в книге «Неволя и величие солдата», где звучит настоящий гимн кодексу чести, всецело господствующему в армии и определяющему поведение благородного война. Виньи пишет: «…убеждение, которое… безраздельно господствует в рядах армии, зовется Честью. Теперешние люди… относятся скептически и насмешливо ко всему, кроме нее — стоит лишь упомянуть о ней, и каждый становится серьезным. Честь — это мужское целомудрие. Позор погрешить против нее для нас нестерпим. Вот почему солдата почитают больше, чем кого бы то ни было, и многие должны смиренно опустить перед ним глаза» [Виньи, с. 135].
Можно привести много подтверждений того, что война рассматривалась людьми наполеоновской эпохи как священное занятие, регулируемое законами чести. Так, в главе «Урок сорванцу» Д. Давыдов рассказывает, как, оказавшись в первый раз в деле, он, заметив в цепи неприятельских фланкеров офицера, пытался вызвать его на дуэль, осыпая отборными французскими ругательствами. Подъехавший к Давыдову казачий урядник с укоризной сказал ему: «Что вы ругаетесь, ваше благородие! Грех! Сражение — святое дело, ругаться в нем все то же, что в церкви: Бог убьет! Пропадете, да и мы с вами» [Давыдов, с. 53]. В этой главе Давыдов, пытаясь прокомментировать свое тогдашнее безрассудное поведение, пишет, что был увлечен «вдруг овладевшей мной злобой — бог знает за что — на человека мне неизвестного, который исполнял, подобно мне, долг чести и обязанности службы» [Там же]. Мысль о том, что исполнение «долга чести и обязанностей службы» неприятелем есть священное действие, за которое его противник нс имеет права его ненавидеть, находится всецело в традициях воинского кодекса чести, как его понимали в эпоху Наполеоновских войн. Нарушение этого долга чести рассматривается мемуаристом как непростительное и преступное деяние. Очень отчетливо кодекс чести офицера отражен и в «Записках» Дуровой, которая подробно передает на страницах своего произведения беседы по этому поводу с ротмистром Подъямпольским. В этих беседах неоднократно затрагивается гема о месте и роли храброго и знающего офицера в армии, особенно если этот офицер одарен «тем высоким чувством чести, которое заставляет встречать бестрепетно смерть и спокойно действовать в величайших опасностях» (с. 164).
Само собой разумеется, что для сознательного добровольного исполнения законов чести нужно было воспитать особый тип людей, который смотрел бы на военную службу как на единственное изначально благородное занятие, священное ремесло, формирующее в человеке рыцарские черты характера. Именно так на военную службу смотрела не одна Дурова, но абсолютное большинство ее современников. Например, И. Лажечников в «Походных записках», говоря об идеале истинного воина, писал: «Воспитание есть лучшее украшение воина. Звание его, давая ему особенные преимущества, не присваивает ему право быть грубым, необходительным и жестоким, напротив того, добродушие, любезность и чувствительность должны быть вплетены в венок его вместе с мужеством, твердостью духа и пренебрежением всех опасностей. Грозный, как лев, среди волнений шумящей битвы, кроткий, любезный и сострадательный в мирной хижине — вот отличительные черты истинного воина!» [Лажечников, с. 43].
Законы чести диктовали рыцарское отношение к пленному неприятелю, проявившему образцы мужества и храбрости, то есть выступившему в роли идеального воина. В соответствии с этой традицией Наполеон освобождает из плена ефрейтора лейб-гвардии Финляндского полка Леонтия Куренного, поразившего французов своей доблестью в сражении под Лейпцигом. Более того, он повелевает объявить в приказе по армии о подвиге этого русского героя, ставя его в пример своим солдатам. В сражении под Аустерлицем беззаветную храбрость проявил Кавалергардский полк, в особенности его четвертый эскадрон, не позволивший французской кавалерии разгромить русскую гвардейскую пехоту. Командир эскадрона граф Н. Репнин, раненный в грудь и контуженный, попал в плен и был отпущен Наполеоном в знак уважения к его доблести. Он же в знак уважения к доблести русских генералов П. Тучкова и П. Лихачева, попавших в плен в кампанию 1812 г., возвратил им шпаги, точно так же, как впоследствии австрийскому генералу М. Мервельдту при Лейпциге и генералу К. Полторацкому при Шампобере. Подобную же любезность неоднократно практиковал А. Суворов по отношению к французским республиканским генералам, взятым в плен во время его итальянской кампании. Законы чести диктовали также чувство особого братства «детей Марса» независимо от сиюминутных политических настроений. Это могло приводить к установлению частных дружеских отношений между людьми, принадлежащими к различным военным лагерям и бывшими врагами на поле боя (но только там!). Например, очень многие мемуаристы — В. Левенштерн, А. Булгаков, А. Муравьев, А. Маевский, А. Ермолов — писали об особых отношениях, сложившихся между генералом М. Милорадовичем и маршалом И. Мюратом, которые во время «тарутинского перемирия» неоднократно встречались друг с другом на аванпостах армии, обмениваясь взаимными любезностями. Такие же отношения существовали между М. Милорадовичем и О. Себастиани, командиром кавалерийской дивизии в корпусе Л. П. Монбрена. Так, Ф. Акинфов в своих записках вспоминает, как при отступлении русской армии от Москвы М. Милорадович «поехал к неприятельским аванпостам, спросил генерала Себастиани и, обрадовавшись друг другу, предложил ему не проливать крови в день их свидания (у Акинфова так! — Е. П.)» [Акинфов, с. 185]. Вообще маршал Мюрат пользовался необычайной популярностью у казаков. Об этом единодушно пишут все французские мемуаристы, бывшие свидетелями вступления авангарда наполеоновской армии в Москву: А. Дсдсм, М. Комб, Л. Ф. Боссе. Так, Л. Ф. Боссе свидетельствует: «Пока шли эти переговоры (о заключении перемирия. — Е. П.), казаки, постоянно видевшие Неаполитанского короля, одетого всегда очень эффектно, подошли к нему с чувством уважения, смешанного с восторгом и радостью… Король отдал им все свои деньги, бывшие при нем, даже часы, а когда у него больше ничего не оставалось, он занял часы у полковника Гурго, у своих адъютантов и офицеров. Казаки выражали свой восторг и громко говорили, что великодушие этого героя французской армии равно его храбрости» [Боссе, с. 207].
Еще в большей степени идея братства людей независимо от того, к какому военно-политическому лагерю они принадлежат, проявляется на примере взаимоотношений пленников и их победителей. Например, Ф. Сегюр повествует в своих записках о том, что после взятия французами Москвы русские пленные долгое время вообще не содержались под стражей и жили вместе с французами в самых дружеских отношениях [Сегюр, с. 140]. И. Лажечников в «Походных записках» свидетельствует, что сразу же после известия о взятии Парижа «победители (то есть русские. — Е. П.) в упоении своей радости, не видя более в побежденных пленников своих, ищут разделить с ними настоящее торжество разными исканиями и уверением в скорой их свободе» [Лажечников, с. 133]. Подобное братство людей зарождается между Д. Давыдовым и его пленником, поручиком гусарского полка Тилингом, которому Давыдов возвращает не только кольцо любимой им женщины, о чем тот просил, но и портрет, волосы и письма, ему принадлежащие. Давыдов пишет: «Чувства узника моего отозвались в душе моей. Легко можете вообразить взрыв моей радости при встрече с человеком, у одного алтаря служившим одному божеству со мной» [Давыдов, с. 182]. Такой же эпизод мы встречаем в «Записках» С. Волконского, где тот рассказывает о том, как казаками его партизанского отряда был взят в плен генерал Кореей вместе со своими адъютантами, которых мемуарист «старается обращением моим утешить… в случившейся с ним беде», и как он заставляет казаков вернуть генералу книжник с портретом его жены [Волконский, с. 228−229].
Тот факт, что пленник-офицер в определенном смысле считался «собственностью» и «гостем» своего победителя (в соответствии с традицией, идущей от рыцарских времен), не мог не способствовать также зарождению частных дружеских отношений. При этом следует иметь в виду, что, в отличие от настоящего времени, пленник той эпохи не находился целиком и полностью на государственном обеспечении пленившей его страны. Так же как в эпоху рыцарей, он должен был в идеале находить покровителей из числа офицеров неприятельской армии или просто граждан неприятельской страны, которые взяли бы на себя труд заботиться о его насущных нуждах. Очень интересные сведения на этот счет можно получить в «Военных записках» Д. Давыдова. Так, вспоминая пленение своего брата кавалергардского офицера Евдокима Давыдова под Аустерлицем, он рассказывает о благородном поведении по отношению к нему поручика французского конногренадерского полка Серюга, который окружил его поистине братской заботой: поделился последним куском хлеба, отдал ему свою лошадь, нашел повозку, чтобы отвезти раненого и постоянно впадающего в забытье Евдокима в Брюн, помог устроить его в военный госпиталь и обязал в случае необходимости обращаться к своему дяде, министру иностранных дел X. Б. Мааре. Это благородство Серюга с необходимостью вызывает ответное благородство со стороны Д. Давыдова. Когда смертельно раненный в сражении под Прейсиш-Эйлау Серюга, в свою очередь, попадает в плен к русским, Д. Давыдов принимает самое горячее участие в его судьбе, сумев скрасить братской заботой последние дни его жизни.
Подобных примеров можно привести очень много, и военная мемуарно-автобиографическая литература первой половины XIX в. дает нам возможность погрузиться в атмосферу этих человеколюбивых благодеяний.
Когда в сражении под Валутиной горой в плен к французам попал раненый генерал П. Тучков, то он стал личным гостем начальника французского штаба маршала А. Бертье, который окружил его дружеской заботой: пригласил к нему Ж. Д. Ларрся, главного хирурга французской армии, нашел женщину, которая могла бы выстирать генералу запачканный кровью мундир, дал ему белье из своего гардероба, ссудил на первое время достаточно большой суммой денег. Кроме того, мемуарист отмечает в «Моих воспоминаниях о 1812 годе»: «…с самого почти утра до вечера беспрестанно посещали меня разные чиновники, бывшие при главном штабе армии, предлагая всевозможные услуги свои и коих учтивое и хорошее обращение со мной заставило меня иметь к ним всякое уважение» [Тучков, с. 236]. Естественно, что все услуги предлагались от себя лично, а не от имени государства. Д. Давыдов рассказывает в «Военных записках» о дружеских отношениях, которые сложились между начальником штаба 1-й Западной армии А. Ермоловым и французским артиллерийским полковником Марионом, который долгое время пользовался гостеприимством Ермолова, живя в его доме в Орле. Марион был взят в плен адъютантом Ермолова П. Граббе, то есть в определенном смысле мог почитаться личным пленником будущего «покорителя Кавказа». Далее мемуарист отмечает, что гостеприимством адмирала П. Чичагова долго пользовался военный писатель генерал Водонкур, начальник артиллерии корпуса Е. Богарне, написавший адмиралу похвальное слово [Давыдов, с. 226]. А. Ермолов приютил у себя, по его признанию в «Записках», престарелого полковника Николя, угощавшего императора Александра в своем полку во время заключения Тильзитского мира [Ермолов, с. 191]. Когда в сражении под Бородино в плен к русским попал французский генерал Ш. А. Бонами, то при его отправке в Орел Ермолов написал своему отцу, чтобы тот помогал ему в случае необходимости. Бонами, по свидетельству К. Каверина, живя в Орле, был тесно связан с литературным кружком А. Плещеева, в котором, кроме него, принимали участие многие из образованных французских пленных. Когда в конце 1812 г. пришел приказ об отправке всех пленных в Казань, то В. Жуковский, бывший в то время активным участником этого кружка, через А. Тургенева добился для Бонами разрешения остаться в Орле. Муж А. Елагиной В. Киреевский в 1812 г., по словам того же Каверина, «будучи честным человеком, самопроизвольно, без всякого полномочия или приглашения от властей, принял в свое заведование госпиталь в Орле», так как «беспомощное состояние раненых пленных французов, неурядица и злоупотребления в госпиталях возмущали его» [Каверин, с. 137]. Впоследствии В. Киреевский скончался от госпитальной горячки, успев истратить на содержание пленных практически все наличные деньги семьи (около 40 тысяч рублей). А. Норов, тяжело раненный в Бородинском сражении и оставленный в Москве вместе со многими другими русскими офицерами, рассказывает в своих воспоминаниях, с какой заботой относился к нему генерал А. Лористон, бывший в 1811 г. послом Франции в России и знакомый Норову по петербургским светским кругам: «Он оказал мне самое теплое участие, заявив, чтобы я относился к нему во всем, что будет мне нужно, и обещал присылать наведываться обо мне, а в тот же день прислал мне миску с бульоном» [Норов, с. 369]. Декабрист М. Фонвизин, по воспоминаниям М. Францевой, в кампанию 1814 г. был взят в плен вместе со своим дивизионным командиром 3. Олсуфьевым и всем русским отрядом во время ночной атаки маршала Н. Ш. Удино. Удино снабдил Фонвизина рекомендательным письмом к своим друзьям в Париже, где будущий декабрист был ласково принят и жил на свободе [Францева, с. 166]. Так же — на свободе и не испытывая ни в чем недостатка — жил во Франции второй брат Д. Давыдова Лев, который послужил, по свидетельству А. С. Пушкина, прототипом лирического героя элегии К. Батюшкова «Пленный». Наконец, Н. Дурова в «Записках кавалерист-девицы» пишет, что осенью-зимой 1812 г. в доме ее отца жили пять французских офицеров, с которыми мемуаристка находилась в самых дружеских отношениях (с. 193).
Важнейшей чертой, характеризующей культурно-исторический менталитет людей наполеоновской эпохи, было органичное сосуществование рядом с культом чести «законов чувствительности». «Законы чувствительности», как их понимали в первой трети XIX в., не были связаны с традицией сентименталистского изображения действительности, хотя нельзя отрицать того факта, что мемуарные произведения 1810-х гг. (А. Чичерина, И. Лажечникова, Ф. Глинки) находятся под сильным влиянием сентименталистской эстетики, что находит отражение и в образе «чувствительного» автора, и в выборе языковых средств характеристики «чувствительных» эпизодов.
Однако чаще всего в мемуарно-автобиографической литературе наполеоновской эпохи чувствительность выступает как черта исторической психологии, отражающая специфику самосознания человека того времени. Не случайно одним из самых известных афоризмов Наполеона, обращенных к армии, был призыв: «Будьте всегда добрыми и храбрыми» [Наполеон Бонапарт, с. 614].
Прежде всего идеал чувствительного поведения проявляется при характеристике действующих лиц записок — офицеров, генералов, маршалов. Мужество, не облагороженное чертами высокого гуманизма, носящее оттенок свирепости, неизменно подвергается резкой критике.
В этой связи примечателен разговор Д. Давыдова с А. Фигнером, изложенный в «Дневнике партизанских действий». На просьбу Фигнера позволить «растерзать» пленных Давыдова его новым «не натравленным» казакам мемуарист отвечает: «Не лишай меня, Александр Самойлович, заблуждения. Если солдатская честь и сострадание к несчастью — предрассудки, то их предпочитаю твоему рассудку» [Давыдов, с. 204].
Среди обширного корпуса мемуарных источников, посвященных событиям наполеоновской эпохи, просто невозможно обнаружить текст, в котором так или иначе не затрагивалась бы проблема чувствительности, где нет героя, при характеристике которого доброта не являлась бы неотъемлемой чертой его натуры. Можно вспомнить изображение генерала Я. Кульнева в «Военных записках» Д. Давыдова, французских маршалов П. Ожеро и Ж. Ланна в воспоминаниях генерала М. де Марбо, маршала М. Нея в мемуарах Ф. Сегюра, маршала Ж. Бессьера в записках С. Н. Глинки.
Само собой разумеется, что чертами чувствительного человека наделяется в мемуарной литературе и Наполеон. Так, в записках Ф. Сегюра французский император трогательно заботится о русских раненых, оставшихся на Бородинском поле, и заявляет, что «после победы нет врагов, а есть только люди» [Ссгюр, с. 111]. Упоминание об этом эпизоде есть и в записках польского графа Р. Солтыка: «[Наполеон] разослал всех офицеров своего штаба, чтобы ускорить дело и оказать этим раненым [русским] быструю помощь. Наполеон принимал в них самое горячее участие, и я видел, как его глаза не раз наполнялись слезами. Бесстрастный и спокойный во время сражения, он был гуманен и чувствителен после победы» [Солгык, с. 177].
Пример, подаваемый начальниками, влиял на поведение подчиненных, определяя общие структурообразующие принципы изображения человека в мемуарном тексте. Чаще всего «чувствительный» эпизод или цепь эпизодов, выстроенных по кумулятивной логике, позволяли автору-мемуаристу доказать, что именно такой тип поведения может обеспечить человеку уважение окружающих, благосклонность начальства и, значит, блестящую карьеру, даже помимо христианской составляющей данного типа поведения, в целом очень значимой для дискурса русской военной мемуаристики наполеоновской эпохи. Знаковая для русской словесности антитеза «чувствительный — холодный» в контексте военной мемуарной литературы часто трансформируется в антитезу «чувствительный — жестокий», где жестокий неизменно оказывается в проигрыше, лишается доверия начальства или просто погибает. Так происходит, например, с соперником Д. Давыдова по партизанским поискам 1812 г. А. С. Фигнером, чья холодная и бездушная жестокость отталкивала от него даже самых близких людей.
Напротив, человеколюбивая самоотверженность Марселина де Марбо, на глазах императора Наполеона бросившегося в ледяную купель Зачанского пруда после битвы при Аустерлице, чтобы спасти жизнь раненого русского унтер-офицера, лежащего на льдине, приводит к противоположному результату. Император удостаивает его своей похвалы, запоминает его имя и впоследствии часто использует его для выполнения специальных заданий, требующих находчивости и мужества, хотя Марбо не скрывает, что человеколюбивое поведение могло стоить ему здоровья и даже жизни. Уже в XX в. эпизод из записок М. де Марбо был включен в роман Б. Окуджавы «Свидание с Бонапартом» для характеристики исторической психологии поколения 1812 г.
Эталонное чувствительное поведение требовало в идеале гуманного отношения ко всем людям, будь то неприятель или мирные жители завоеванной страны. Так, все французские мемуаристы— Ц. Ложье, Е. Лабом, В. де Маренгоне, А. Монтескью-Фезензак, А. Делаво — с огромным сочувствием пишут о страданиях русского населения Москвы в охваченном пожаром и грабежом городе. Образы несчастных жителей, «изнуренных голодом, усталостью, страданием, ужасом» (Ц. Ложье), которые, «оставшись без пристанища, не знали, где найти спасения» (Е. Лабом), «плакавших при виде этих ужасных беспорядков» (В. де Марснгонс), неизменно потрясают души авторов мемуаров. Так, В. де Маренгоне, возвращаясь в свой полк после неудачной попытки потушить пожар, пишет: «Оно [поручение] принесло мне только много забот, но не дало даже возможности оказать помощь несчастным, бедствия которых были ужасны. Я был глубоко взволнован» [Маренгоне, с. 20].
Разумеется, мемуаристы не остаются безучастными свидетелями этих возмутительных для чувствительных сердец сцен, стараясь по мере своих сил помогать погорельцам и беженцам. Так, А. Делаво на свои средства содержит русскую семью, состоящую из пяти человек, Е. Лабом с риском для жизни спасает из огня семью своих квартирных хозяев. Б. Кастеллан, офицер из штаба Наполеона, вместе со своими товарищами дает конвой толпе жителей, увозящей на тележках наиболее ценное из своего имущества, чтобы защитить их от грабежа солдат. Ж. Р. Куанье, верховой ординарец из штаба Наполеона, разгоняет солдат, пытавшихся отнимать во время пожара шали и деньги у оставшихся без крова женщин. Ф. Дюверже, бывший свидетелем эвакуации населения одного из московских домов, жители которого «плакали с надрывающими сердце рыданиями», защищает их от алчности старой маркитантки, которая, бросившись к больной женщине, лежащей на носилках, рылась в ее одежде, ища спрятанные драгоценности: «Этого с меня было довольно на этот день, чтобы прийти в ярость. Я схватил негодяйку. Да простит меня небо за то, что я ударил женщину!» [Дюверже, с. 24].
Жестокость, бесчувствие, любое отступление от канонов чувствительного поведения во время экстремальных условий грабежа и пожара представляются авторам мемуаров страшным злом в силу того, что искажают изначально добрую, в соответствии с концепцией Ж.-Ж. Руссо, природу человека. Так, Е. Лабом, описывая разгул огненной стихии в ночном городе, тем не менее, делает вывод, что «страшнее всего все-таки был тот ужас, который царил в человеческих сердцах, ужас, который еще более усиливался в ночной тишине» [Лабом, с. 45]. А. Делаво в своих записках приводит ряд эпизодов, наглядно иллюстрирующих «разгул страстей» во время пожара и грабежа: французский солдат грабит своих соотечественников, жителей московской колонии, не останавливаясь перед тем, чтобы снять с пальца женщины золотое обручальное кольцо, дорогой ей залог верности; один гуманный офицер поручает облагодетельствованного им московского жителя второму офицеру, который, решив, что это поджигатель, приказывает расстрелять его; некто Сент-R, начальник эскадрона, был ограблен французскими же солдатами-мародерами и т. д. Подводя итог этим печальным примерам. Делаво делает вывод: «Все эти факты я привел для того, чтобы показать, как разыгрываются страсти во время грабежа, и вовсе не желая внушить дурное мнение о французских солдатах, которые, в общем, оказались более дисциплинированными, чем союзники» [Делаво, с. 61]. Эта оговорка очень примечательна, так как указывает на тот факт, что подход к описываемому материалу у большинства мемуаристов был нравственно-этический, а не узкополитический, предполагающий негативное изображение противника и позитивное изображение своих собственных солдат. При таком нравственно-этическом общечеловеческом подходе к событиям тот или иной факт действительности соотносился в большинстве случаев с некой идеальной эталонной моделью чувствительного поведения и в соответствии со своим содержанием получал либо позитивную, либо негативную оценку. В то же время взгляд на отступления от единых морально-этических норм рассматривался как общечеловеческое бедствие, ставящее под угрозу существование самой традиции «чувствительного» поведения. В силу этого принципа для Делаво принципиально безразлично, кто совершил безнравственные поступки, характеризующие «разгул страстей» — французы, русские или союзники. Главным является сам факт их совершения в стихии грабежей и пожаров.
В контексте постоянного нарушения традиций идеального «чувствительного» поведения любой благородный гуманный поступок не остается неоцененным. Ярким примером является тот факт, что один и тот же «чувствительный» случай описывается сразу в нескольких мемуарах, становясь общественным достоянием, так как нет сведений, что авторы этих записок были личными свидетелями подобных поступков или же слышали о них из первых уст. Можно сказать, что этот «чувствительный» эпизод рассматривается мемуаристами как некий утешительный факт, свидетельствующий о том, что человеческая природа при всем своем «озверении» в экстремальных ситуациях все же дает возможность надеяться на ее исправление, вернее, на ее возвращение в исходную идеальную ситуацию. Например, в «Реляции» Е. Лабома среди описаний ужасов, которыми сопровождалось разграбление охваченного пожаром города, находим следующую запись: «Чтобы смягчить впечатление от такого множества бедствий, я хочу напомнить о прекрасном поступке одного французского солдата. Он нашел на кладбище женщину, которая недавно родила: больная находилась без всякой помощи и даже без пищи — и вот этот великодушный солдат, тронутый положением несчастной, окружает ее своими заботами и в продолжении многих дней делился с ней крохами съестных припасов, которые ему удавалось раздобыть» [Лабом, с. 226]. Этот же случай с соответствующими комментариями описывается в мемуарах Делаво. Даже если допустить, что Делаво позаимствовал этот эпизод из «Реляции» Е. Лабома, все равно непреложным остается один факт: действительный эпизод, даже взятый из чужих мемуаров, вводится в состав своих, чтобы подтвердить тем самым общую концепцию многих военных мемуаров того времени — описание любых жестокостей не должно приводить к полному крушению веры в изначально добрую и чувствительную человеческую природу, в тот «инстинкт человечности, от природы заложенный в наших сердцах» [Гриуа, с. 334].
В русской военной мемуаристике главным объектом приложения принципов эталонного «чувствительного» поведения являются сцены спасения французов во время их гибельного отступления из России.
Например, Р. Зотов, впоследствии ставший известным историческим писателем, в своих «Рассказах 1812 года», описывая положение французов, оставшихся на правом берегу Березины, свидетельствует: «И офицеры, и солдаты брали с собой этих несчастных, чтобы покормить их, укутать чем-нибудь потеплее и сдать для отправления в Витебск» [Зотов, с. 494]. Ф. Глинка в «Письмах» с огромным сочувствием описывает положение французов после битвы под Красным, обращает внимание на бедственное положение некоего заслуженного французского капитана, кавалера ордена Почетного Легиона, которому мемуарист вместе с другими адъютантами генерала М. Милорадовича перевязывает рану и кормит супом, на не менее тяжелое положение множества гражданских лиц, сопровождавших наполеоновскую армию в походе: «Как жалко смотреть на пленных женщин! Их у нас много. Одна прекрасная немка с простреленною рукою лежит в ближней избе. Ей перевязали рану и за неимением хлеба кормят сахаром и корицею» [Глинка Ф., 1990, с. 95]. М. Петров в «Рассказах», повествуя о финале французского отступления из России, не может «не вспомнить с благоговением святого, незлобивого умиления наших воинов, отдававших последний свой хлеб умиравшим от голода врагам своим, просившим помощи» [Петров, с. 204]. Такие же сцены можно найти в воспоминаниях А. Ланжерона и О’Рурка, А Норова и А. Чичерина, П. Чичагова и А. Ермолова, а также других русских мемуаристов, рассказывающих о заключительной фазе войны.
Жестокий финал Отечественной войны 1812 г., когда тысячи людей (прежде всего принадлежащих к французской армии) были обречены на смерть от холода и голода, утонули или были раздавлены в давке при Березинской переправе, подверг суровому испытанию прирожденное, по мнению людей того времени, чувство «чувствительности». Это приводит к неизбежному конфликту между чувствительностью как нормативным этическим чувством, предписанным человеку «эпохой чувствительности» (термин А. Н. Веселовского), и «правдой голого факта» мемуарного текста, диктуемой суровыми реалиями «грозы 1812 года».
Мемуаристы, как правило, переживают жесточайший нравственный кризис и испытывают нестерпимые муки совести от того, что повседневная практика этого ужасного отступления зачастую давала образцы далекого от идеалов чувствительности поведения, искажая благородную природу человеческой души. Лучше всего это чувство выразил Е. Лабом: «Этот поход был тем более страшен, что совершенно исказил наш характер, и у нас появились пороки, чуждые нам до сих пор. Люди, бывшие до этого времени честными, чувствительными, великодушными, сделались теперь скупыми, ростовщиками и алчными» [Лабом, с. 346]. Об этом же свидетельствуют и другие мемуаристы «великой армии» — Л. Ф. Лежен и О. Тирион, В. де Маренгоне и М. Комб, А.-Ж.-Б. Бургонь и Франсуа. Даже романтичный Ц. Ложье, описывая переправу через Березину, вынужден был признать: «В ночь с 26 на 27 нужда обратила людей в варваров. Люди чуть не насмерть дрались за краюху хлеба, за щепотку муки, за кусок лошадиного мяса или за охапку соломы. И все это происходило между людьми порядочными, которые до сих пор питали друг к другу чувство искренней дружбы! Надо сказать правду, что этот поход (в чем заключается весь его ужас) убил в нас все человеческие чувства и вызвал пороки, которых в нас раньше не было» [Ложье, с. 197].
Однако несмотря на жестокость подобных откровений, нарушение самим автором-мемуаристом эталонного чувствительного поведения обычно рассматривается им как непростительный поступок, заслуживающий всяческого осуждения и порицания.
Так, сержант А.-Ж.-Б. Бургонь вспоминает, как во время отступления ему самому «привелось поступить бессердечно по отношению к истинным друзьям» [Бургонь, с. 55]. Бессердечие было связано с нежеланием автора мемуаров поделиться своей «добычей» — несколькими мерзлыми картошками, спрятанными в ягдташ, со своими товарищами, жестоко страдающими от голода: «…с моей стороны это был эгоистический поступок, который я никогда себе не прощу!» [Там же, с. 57].
Такой же случай происходит с врачом Г. Роосом, отказавшимся поделиться своим «счастливым приобретением» (несколькими бутербродами и стаканом красного вина) с ротмистром Рейнгардтом, с которым в течение последних лет он жил по-братски. Роос пишет, что долго упрекал себя в этом поступке, пока пять лет спустя Рейнгардт в ответ на его извинительное письмо не заверил мемуариста в том, что давно простил его за этот досадный случай, принимая во внимание, что «тогдашнее печальное положение побуждало многих поступать вопреки желаниям сердца» [Роос, с. 100].
Традиции чувствительности, идущие от литературы, философии, нравов эпохи, сталкиваясь с жестокой действительностью, вызывали у авторов ощущение крушения привычных моральных жизненных ориентиров, постоянно ставили человека в состояние выбора. Личность должна была либо плыть по течению, приняв эгоистическую мораль толпы, либо пытаться противопоставить ей свою линию поведения. Подобное столкновение противоположных чувств и стремлений — желания выжить, спастись любой ценой, но и желания не уронить своего человеческого достоинства — могло стать причиной позднейших нравственных страданий мемуариста, но оно же могло стать причиной позднейшей гордости и надежды на изначальную доброту человеческой натуры. Можно сказать, что несмотря на все ужасы отступления, на все обесчеловечивание человека, мемуаристы в целом не теряли своей веры в идеалы добра и гуманизма. Поэтому они, искренне ужаснувшись глубине человеческого падения в дни бедствий и отчаяния, все же сохраняют свою веру в чувствительность человеческого сердца. Так, тот же Бургонь, правдиво описав возмутительные случаи, в которых торжествовали эгоизм и равнодушие людей (в том числе и самого мемуариста!), все же заключает: «Надо прибавить, впрочем, что хотя во время этой бедственной кампании было совершено много жестокостей, зато попадалось и немало поступков человеколюбия, делавших нам честь — не раз случалось мне видеть, как солдаты в продолжение нескольких дней тащили на плечах раненых офицеров» [Бургонь, с. 67].
Кирасирский офицер О. Тирион в эпоху всеобщей деморализации при переправе через Березину демонстрирует эталонное чувствительное поведение, ведя «под руки и поддерживая товарища, раненного ночью саблей в бедро» [Тирион, с. 265]. Кастеллан во время отступления за Березину без колебаний уступает свое место в санях раненому офицеру Бруквиллю и переходит Неман пешком с «лихорадкой вследствие нагноения и гангрены руки» [Кастеллан, с. 417]. Ц. Ложье до конца жизни был уверен, что своей жизнью он был обязан французскому капитану Дальстейну, который 16 ноября 1812 г. в окрестностях Лубян спас его от замерзания, дав выпить водки и посадив в свои сани. Этот благородный поступок заставляет Ц. Ложье записать в дневнике нравственноэтическую сентенцию, посвященную человеческой благодарности как важнейшей добродетели личности: «Быть может… до тебя, мой чудный и бравый Дальстейн, дойдет когда-нибудь это выражение моей признательности пе за жизнь, которую ты мне сохранил, а за твой доблестный и великодушный поступок, какой ты способен был совершить» [Ложье, с. 176].
Все эти примеры свидетельствуют о том, что жестокие реалии действительности оказались все же не в состоянии разрушить веру человека наполеоновской эпохи в идеалы мужества, чувствительности, чести. Это принципиально отличает культурно-исторический менталитет людей 1800−1810-х гг. от менталитета людей Первой мировой войны, людей «потерянного поколения», для которых жестокость, бесчеловечность и бессмысленность войны становятся решающими факторами, определившими их дальнейшее разочарование в жизни, невозможность найти себе места в этом безумном мире.
Чувствительность составляет одну из основных черт мировоззрения Дуровой, что находит яркое отражение в ее «Записках». С одной стороны, Дурова так же, как и другие мемуаристы, не может пройти мимо бедствий французской армии во время ее гибельного отступления из России. Так, она подробно приводит в «Записках» «трогательную историю прекрасной девочки», француженки-сироты, подобранной казачьим офицером на Смоленской дороге. Размышляя о финале 1812 г. и о судьбе, постигшей французов, Дурова пишет: «Несчастные! Никогда еще ничья самонадеянность и кичливость не были так жестоко наказаны, как их» (с. 195). С другой стороны, чувствительность является для Дуровой естественной реакцией на все факты окружающей ее действительности, определяя стиль ее поведения во всех случаях жизни. В соответствии с ним Дурова спасает под Гутштадтом раненого поручика Финляндского полка Панина, а под Фридландом — раненого улана своего полка, который, «весь покрытый кровью, с перевязанной головой и окровавленным лицом», ездил «без цели по полю то в ту, то в другую сторону» и оставить которого на произвол случая казалось мемуаристке «последней степенью подлости и бесчеловечия» (с. 75). Будучи чувствительным человеком, Дурова «обнимает и покрывает поцелуями и слезами бездыханный труп» своего любимого коня Алкида (с. 83) и горько переживает смерть белого гуся, убитого ею во время фуражировки в ответ на просьбу ротмистра Подъямпольского «достать что-нибудь съесть»: «Ах, как мне стыдно писать это! Как стыдно признаваться в таком бесчеловечии! Благородною саблей своей я срубила голову неповинной птицы! Это была первая кровь, которую я пролила во всю мою жизнь. Хотя это кровь птицы, но поверьте, вы, которые будете когда-нибудь читать мои записки, что воспоминание о ней тяготит мою совесть» (с. 172). Она не может без насилия над собой участвовать в охоте, столь любимой офицерами Мариупольского гусарского полка, говоря, что «жалостный писк терзаемого зайца наводит мне грусть на целый день» (с. 102); ей стыдно ездить на фуражировки в польско-литовские местечки и забирать овес почти даром под расписки, и она признается, что впервые тогда «проклинала свое уланское звание» (с. 151). Дурова жестоко упрекает себя в том, что, желая дать милостыню старику-нищему, вызвавшему ее глубочайшее сожаление, она дала ему сомнительную ассигнацию в десять рублей в надежде, что тому удастся сбыть ее хотя бы по меньшей цене. Чувствительность заставляет ее испытывать «болезненное чувство страха и жалости» за судьбу 18-летнего юноши-вора в городе Пениберге, укравшего у Дуровой и ее товарища Ильинского чемодан с 5000 рублей золотом, которого градоначальник хочет повесить; лить горькие слезы, узнав о смерти своей матери, которая при жизни так не любила мемуаристку; искренне сочувствовать наказываемым палками и розгами солдатам полков, в которых она служила. Чертами чувствительности наделяются у Дуровой и все положительные герои ее «Записок». Так, «кротость и милосердие изображаются в больших голубых глазах» императора Александра I, который проехал в Тильзите мимо фронта Коннопольского полка, смотря на солдат с «состраданием и задумчивостью» (с. 78, 79). «Человеколюбивый ротмистр» Казимирский после трагической гибели ее Алкида приказывает, чтобы два дня не мешали ей грустить и не употребляли никуда по службе. Другой ее начальник, ротмистр Подъямпольский, во время кампании 1812 г. признается ей: «У меня сердце обливается кровью при одной мысли видеть тебя убитым. Не знаю, Александров, отчего мне кажется, что если тебя убыот, то это будет убийство, противное законам. Ах, пуля не разбирает. Она пробивает равно грудь старого воина и сердце цветущего юноши» (с. 168). Можно сказать, что во всех этих случаях чувствительность является для Дуровой (так же как и для других мемуаристов эпохи) важнейшим критерием оценки людей, и ее отсутствие неизменно влечет за собой отрицательную оценку личности в целом, неизменную констатацию ее невписанности в воинский идеал эпохи и, шире, в общечеловеческий идеал того времени.
Гуманистический дискурс поведения Дуровой во всех этих случаях был тесно связан со спецификой культурно-исторического менталитета людей наполеоновской эпохи — времени, когда человек, как правило, ненавидел своих противников, равно военных или политических, только как абстрактную враждебную силу, угрожающую независимости Отечества или его собственным политическим и гражданских свободам, не перенося своей ненависти на частных лиц.
Всякий раз, когда ему приходилось сталкиваться лицом к лицу с конкретными представителями этой враждебной силы, место абстрактного состояния ненависти и вражды сразу же занимала идея естественного человеческого братства. Возникало желание строить свои отношения с ними по закону сердца и чувства, на основе принципов гуманизма и взаимопонимания. Только в атмосфере подобного сознания могла возникнуть и воплотиться на практике гуманистическая проблематика «Капитанской дочки» или неоконченной повести «Рославлев» А. С. Пушкина.
Вопросы и задания для самостоятельной подготовки
- 1. Субкультурная стратификация общества и ее отражение в мемуарно-автобиографических текстах. Проблема «открытых» и «закрытых» субкультур.
- 2. Механизм анализа психологии субкультур в мемуарной литературе через методику контент-анализа.
- 3. Отражение культурно-исторического менталитета эпохи в автодокументальных текстах. Принципы отбора источников и проблема субъективизма.
- 4. Национальный аспект исторической психологии и его отражение в автодокуменгальной литературе.
- 5. Гендер и историческая психология: к постановке проблемы.
Список рекомендуемой литературы
Гладков А. К. Мемуары — окно в прошлое / А. К. Гладков // Вопр. лит. 1974. № 4. С. 122−129.
Гуревич Я. Уроки Люсьена Февра / Я. Гуревич // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 501−542.
Земцов В. Искусство правильно умирать: Во имя чего шли на смерть французские солдаты / В. Земцов // Родина. 2002. № 8. С. 26−29. Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты / М. Н. Лонгинов. СПб., 2000. 672 с.
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — нач. XIX века). СПб., 1994. 339 с.
Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни: Бытовое поведение как историко-психологическая категория // Лотман Ю. М. Избр. ст.: в 3 т. Таллин, 1992. Т. 1. С. 296−337.
Марасинова Е. Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века / Е. Н. Марасинова. М., 1999. 303 с.
Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII—XIX вв. / А. В. Михайлов // Античность как тип культуры. М., 1988. С. 308−324.
Приказчикова Е. Е. Советские и немецкие стереотипы воинского поведения летчиков-истребителей // Questio Rossica. 2014. № 1. С. 163−191.
Приказчикова Е. Е. Театральный дискурс наполеоновских войн в мемуарной литературе I половины XIX века / Е. Е. Приказчикова // Филологический класс. № 27. 2012. С. 4−11.
Сахаров В. И. Русское масонство в портретах / В. И. Сахаров. М., 2004. 512с.
Сиповский В. В. Из истории русской мысли XVIII—XIX вв.: Русское вольтерьянство / В. В. Сиповский // Голос минувшего. 1914. № 1. С. 105−132.
Скакун А. Галломания и галлофобия в Екатерининской России / А. Скакун / Екатерина Великая: эпоха российской истории: материалы междунар. конф. СПб., 1996. URL: http://ideashistory org. Ru/almanacs/ aim oo/alm oo04.htm (дата обращения: 10.02.2014).
Строев А. Ф. «Те, кто исправляет Фортуну»: Авантюристы Просвещения / А. Ф. Строев. М., 1998. 398 с.
ФеврЛ. Бои за историю / Л. Февр. М., 1991.629 с.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Галантный век / Э. Фукс. М" 1994.479 с.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век / Э. Фукс. М., 1994.442 с.
Хейзинги И. Homo ludens / И. Хейзинги. М., 1992. 464 с.
Хренов Н. А. Художественная жизнь императорской России (субкультура, картина мира, ментальность) / Н. А. Хренов, К. Б. Соколов. СПб., 2001.809 с.