Эволюция образа Ставрогина (К спору об «Исповеди Ставрогина»)
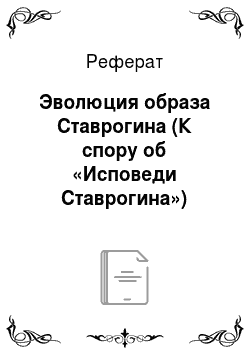
Между замыслом «Жития Великого Грешника» и первоначальным планом «Бесов» такого четкого размежевания не было, и отсюда постоянное столкновение двух замыслов, общность идейных характеристик и даже совпадение в некоторых сюжетных подробностях. Достоевский одно время хотел, видимо, оправдать такую близость тем, что мыслил оба романа как отдельные части единой эпопеи, развивающейся в двух разных… Читать ещё >
Эволюция образа Ставрогина (К спору об «Исповеди Ставрогина») (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
- 1
- 17 января 1869 г. Достоевский закончил роман «Идиот», отнявший у него столько творческих сил и душевного напряжения. Как всегда у Достоевского, окончание произведения для печати не означало завершения творческого акта над этим произведением. Это скорее была — в его личных ощущениях — творческая катастрофа, внезапный срыв, кем-то сторонним и враждебным ему поставленная точка над его мучительными исканиями.
Круг творческих идей, связанных с «Идиотом», был далеко не исчерпан романом. Окончание его сопровождалось острым чувством неудовлетворенности. Он писал тогда же об этом Н. Н. Страхову: «В романе много написано наскоро, много растянуто и не удалось, но кой-что и удалось. Я не за роман, а за идею мою стою… Я бы желал, чтобы Вы прочли конец. Тем не менее я нахожусь в очень хлопотливом положении. Впрочем, я сам очень многим не доволен в моем романе. А я, к тому же, еще отец его»[1][2]. В самом процессе работы над «Идиотом» с Достоевским произошел характерный для него срыв. Тщательно продумав роман, набросав его план, написав уже значительную часть его, он вдруг приходит к убеждению, что вся работа никуда не годится. И несмотря на то, что рукопись романа надо было спешно направлять в печать, он бросает все «к чорту» и принимается за работу заново. Так 4 декабря 1867 г. был оставлен первоначальный план романа «Идиот» и 18 декабря начат в сущности новый роман, резко изменивший первоначальный замысел. Как бурно для Достоевского протекал этот процесс творческой перестройки, видно из его письма к А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 г., в котором он между прочим пишет: «За тем (так как вся будущность моя тут сидела) я стал мучиться выдумыванием нового романа. Старый не хотел продолжать ни за что. Не мог. Я думал от 4-го до 18-го декабря нового стиля включительно. Средним числом я думаю выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался — не понимаю»1.
Этот новый роман был для Достоевского связан с идеей истинно прекрасного человека. «Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее, а если взялся теперь, то решительно потому, что был в положении чуть не отчаянном. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете…» — пишет он 1/13 января 1868 г. в исключительном для понимания замысла «Идиота» письме к С. А. Ивановой[3][4]. В сущности только этот замысел мы вправе связывать с именем главного героя «Идиота». Все то, что ему предшествовало в стадии подготовительных работ, было уничтожено или заброшено. Но не найдя себе места в новом романе о положительно-прекрасном человеке, оно осталось в творческом сознании Достоевского и требовало художественного оформления. Поэтому для изучения Достоевского приобретают такое большое значение — творческие остатки его законченных романов. Они важны не только и не столько для того произведения, с которым формально связаны, сколько для изучения общего развития творческих идей Достоевского и часто имеют большую органическую связь с его позднейшим творчеством, чем с ближайшим, вызвавшим их к жизни произведением. Так случилось и с рукописями к «Идиоту»[5]. Формально связанные с этим романом, они по существу тяготеют к иному творческому ряду, идущему от Раскольникова к Великому Грешнику, Ставрогину, Версилову и Ивану Карамазову. Как видно из этих рукописных заметок к «Идиоту», первоначальная редакция романа находится в близкой связи с планом «Жития Великого Грешника» (1869—1870). «Идиот», как именуется герой романа уже в ранних записях, задуман все в том же направлении гордого, необыкновенного, замкнутого, преступного, но в своей преступности привлекательного и загадочного человека, высшим выражением которого позже явился Ставрогин.
Уже в этой первоначальной стадии работы над романом облик «преступного» героя Достоевского носит двойственные черты. С одной стороны — это полное душевное разложение, окончательная опустошенность, без возможности выхода к спасению через живую веру и покаяние. Так напр., в первоначальном плане, который датируется сентябрь—октябрь 1867 г.: «Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижениях находит наслаждение», «он угрюм и несообщителен», он «говорит, смотрит и чувствует, как властелин»1, с другой — это «великий грешник», прошедший путь падений и восставаний, чтобы закончить спасением в живой вере. В одном из вариантов, например, говорится: «он мог бы дойти до чудовищности, но любовь спасает его. Он проникается глубочайшим состраданием и прощает ошибки… Взамен получает высокое нравственное чувство в развитии и делает подвиг»[6][7]. Правда, в конечном счете, как будто в этом раннем замысле «Идиота» верх берет нераскаянный грешник, являющийся воплощением эгоизма, гордости и рабства страстей, но все же показательно это колебание Достоевского между двумя возможными исходами в его судьбе. Возможно, что эти колебания и привели Достоевского к отказу от первоначального замысла. Он сам сознается, что замысел романа у него еще не дозрел, что бросился он в свой роман «на ура», что предчувствовал «фальшь и маловыжитость идеи»[8]. Мы увидим, что и в дальнейшем у Достоевского наблюдается двойственность в отношении к своему «преступному герою», и именно эта двойственность определила судьбу романа «Бесы» и место в нем «Исповеди Ставрогина».
Ближайший по времени художественный замысел Достоевского, его неосуществленный роман «Атеизм» (1868—1869), подхватывает тему, временно оставленную в процессе работы над «Идиотом». Только здесь ударение ставится уже не на преступности героя, а на его отпадении от Бога, его атеизме, его блужданиях и исканиях и конечном обретении Христа. В письме к А. Н. Майкову от 11 декабря 1868 г., в период работы над окончанием «Идиота»[9], Достоевский пишет впервые об этом замысле. Его герой «русский человек, нашего общества, и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, — вдруг, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский человек).
Потеря веры в Бога действует на него колоссально. (Собственно действие в романе, обстановка — очень большие). Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по Славянам и Европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по Священникам; сильно между прочим попадается на крючок Иезуиту, пропагатору, поляку; опускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога…"1 Эта идея — потеря и обретение Бога — становится для Достоевского особенно притягательной. Она связывается в его собственном духовном росте с таким же обретением Христа, с окончательным разрывом с остатками просвещенческо-позитивистского отношения к образу Спасителя. Очень характерно в этом отношении его письмо к А. Н. Майкову, в котором он упрекает его в религиозной робости в вопросе о вере в икону. «Одно слово:», пишет он, «верите вы иконе или нет? Храбрее, смелее, дорогой мой, уверуйте»[10][11]. А вскоре, в связи с чтением статьи Данилевского «Россия и Европа», когда роман «Атеизм» все еще находился в процессе обдумывания, Достоевский заявит, что «окончательная сущность русского призвания» состоит в «разоблачении перед миром Русского Христа, миру неведомого, и которого начало заключается в нашем родном Православии»[12]. Что эти идеи включались Достоевским в круг его более ранних художественных замыслов, видно из того, что частично они оказались вложенными в уста князя Мышкина, в его страстном монологе о католичестве и атеизме на памятном вечере у Епанчиных. Обновление всего человечества и воскресение его связывается князем Мышкиным с «русской мыслью, русским Богом и Христом»[13]. Впрочем, всю историю Николая Андреевича Павлищева, рассказанную на вечере Иваном Петровичем и так взволновавшую кн. Мышкина, можно рассматривать, как первоначальную версию романа «Атеизм». Эта связь устанавливается и частичным совпадением с намеченным для этого романа сюжетом и кругом идей, к нему прикрепленных. Павлищев, подобно герою романа, человек почтенный и уже немолодой: «родовой, с состоянием и камергер». Внезапно, на почве религиозного кризиса, он резко меняет свою жизнь. Правда, здесь не говорится прямо о потере веры в Бога, но смысл кризиса в истолковании кн. Мышкина тот же. Павлищев «попадается на крючок»[14] иезуиту, аббату Гуро, и сам принимает католицизм и становится иезуитом. Для кн. Мышкина это равносильно отречению от Христа, ибо «католичество — все равно, что вера нехристианская». Для него между католицизмом и атеизмом имеется непосредственная связь, даже больше — атеизм порождение католицизма. «Атеизм от них вышел, из самого римского католичества», страстно уверяет кн. Мышкин. И если герой «Атеизма» подпадает влиянию поляка-иезуита (по другому варианту это должен быть «католический энтузиаст-священник (вроде St. Francois Xavier)»1), а затем «опускается от него в глубину хлыстовщины», то он повторяет жизненный путь русского интеллигента, поколебавшегося в вере, как он рисуется кн. Мышкину. «У нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть и мечом!.. И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались… Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще!..»[15][16]
Герой «Атеизма», по мысли Достоевского, «под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога». Но и мысленный герой кн. Мышкина должен кончить обретением утерянной веры. «Покажите ему в будущем обновление всего человечества и обновление его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и вы увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий, вырастет перед изумленным миром…»[17] Не подлежит сомнению, что рассказ о Павлищеве и взволнованная речь кн. Мышкина о католицизме и атеизме заключает в себе завязь неосуществленного, но дорогого для Достоевского сюжета о судьбе потерявшего веру в Бога и вновь обретшего его русского интеллигента. Сам Достоевский сознавался, что его романы представляют сложное сплетение ряда сюжетных узлов, из которых в процессе творчества ему удается развязать только часть их. «Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии», — пишет он Н. Н. Страхову[18].
Этот эпизод романа, написанный с большим творческим подъемом, недаром речь князя Мышкина кончается припадком, свидетельствует о том, как дорог был самому Достоевскому круг идей, с которым он связывал свой роман об «Атеизме». Понятно поэтому, что он такое решающее значение придавал этому роману. «Писал я вам или нет о том», говорится в письме к А. Н. Майкову от 15 мая 1869 г., «что у меня есть одна литературная мысль (роман, притча об Атеизме), пред которой вся моя прежняя литературная карьера — была только дрянь и введение и которой я всю жизнь будущую посвящаю»1. Долго Достоевский не хотел отказываться от идеи романа об «Атеизме», но в том виде, как он был задуман, его нельзя было написать без возвращения в Россию, Еще в конце августа 1869 г., когда уже приходилось спешно продумывать планы новых произведений для «Зари» («Вечный муж») и «Русского Вестника», Достоевский не оставляет мысли об «Атеизме»: «Есть у меня идея, которой я предан всецело; но я не могу, не должен приниматься за нее, потому что еще к ней не готов; не обдумал и нужны матерьялы»[19][20].
Вероятно, необходимость спешно приступить к роману для «Русского Вестника» и заставила Достоевского видоизменить план романа, отодвинув время действия к юности героя. Так возникает план «Жития Великого Грешника». Сохраняя идейную связь с замыслом «Атеизма», этот новый роман-эпопея снова возвращает нас к образу «преступного героя», замеченного уже в ранних набросках к «Идиоту». «Житие Великого Грешника» приобретает, однако, особое значение, так как в нем впервые намечается встреча героя с Тихоном, которая затем художественно была реализована в «Исповеди Ставрогина».
План «Жития Великого Грешника» набрасывался параллельно с работой над будущими «Бесами». Как убедительно показано А. С. Долининым, работа над последними даже несколько опережала — по большей своей определенности в полноте характеристик действующих лиц — «Житие Великого Грешника»[21]. Одновременность эта требовала достаточно четкого размежевания двух замыслов. Без такого размежевания неизбежно должна была возникнуть борьба между ними, и один из замыслов должен был в конечном счете поглотить другой. Достоевскому удалось довершить своего «Вечного Мужа», над которым он работал в это же время, только потому, что эта повесть идейно и сюжетно выпадала из того художественного ряда, звеньями которого были романы «Идиот», «Житие Великого Грешника» и «Бесы»[22].
Между замыслом «Жития Великого Грешника» и первоначальным планом «Бесов» такого четкого размежевания не было, и отсюда постоянное столкновение двух замыслов, общность идейных характеристик и даже совпадение в некоторых сюжетных подробностях. Достоевский одно время хотел, видимо, оправдать такую близость тем, что мыслил оба романа как отдельные части единой эпопеи, развивающейся в двух разных отрезках времени. На это указывают письма Достоевского, в которых он рисует себе «Житие» большим романом, размером с «Войну и Мир», состоящее из «пяти больших повестей»1, представляющих каждая в отдельности самостоятельный интерес. Лишенный возможности вернуться в Россию и собрать там материал для 2-й части романа, действие которого должно происходить в монастыре, и вынужденный немедленно приступить к работе над романом для «Русского Вестника», Достоевский допускает уже не только расчленение романа во времени, но и расхождение идейно-сюжетного порядка. Не могу в этом вопросе согласиться с А. С. Долининым, который ставит слишком большое ударение на этом расчленении во времени двух замыслов. «Когда сравниваем все эти рассеянные черты князя (Ставрогина), как и основную идею, которую он должен был выразить собою в романе, с образом Великого Грешника и его центральной идеей», говорит Долинин, «то видим именно эту одновременность параллельно существующих и развивающихся замыслов в двух разных только аспектах во времени: Грешник должен быть дан в детстве и юности; князь (Ставрогин) как герой романа — активно действующее лицо, уже сложившееся». Хотя дальше сам Долинин указывает, что «главное зависит от сюжета, от тех событий, в которых герой должен себя проявлять, равно как и от других персонажей, с которыми он вступает в сюжетные коллизии»[23][24], но он упускает из виду, что уже в самых первоначальных записях к «Бесам» имеется совершенно иная жанровая установка обоих романов. «Житие Великого Грешника» уже своим названием предопределяет особый характер этого романа. Это «рассказ-житие», требующий эпического изложения. В отдельных заметках к роману Достоевский сам отмечает те требования, которые к нему предъявляет этот жанр. Так он между прочим пишет: «Тон (рассказ-житие, т. е. хоть и от автора, но сжато, не скупясь на изъяснения, но и представляя сценами. Тут надо гармонию). Сухость рассказа иногда до Жиль-Блаза. На эффектных и сценических местах как бы вовсе этим нечего дорожить. Но владычествующая идея жития чтоб видна была, — т. е. хотя и не объяснять словами всю владычествующую идею и всегда оставлять ее в загадке, но чтоб читатель всегда видел, что идея эта благочестива, что житие — вещь до того важная, что стоило начинать даже с ребяческих лет. Тоже — подбором того, об чем пойдет рассказ, всех фактов, как бы беспрерывно выставляется (что-то) и беспрерывно постановляется на вид и на пьедестал будущий человек»1. Поставив себе задачей художественно изобразить «падение и восставание» человека и его конечное просветление, Достоевский неизбежно должен был держаться в рамках индивидуально-психологического романа.
«Бесы» были задуманы в ином жанре. Здесь мы должны были встретиться с героем в критический фазис его духовной жизни. Существен не рост личности, а ее закрепленность на известной ступени, не предрешающая, однако, ее конечной судьбы. Здесь дана загадочность личности, ее нераскрытость вовне. Греховность и святость сведены к одной точке, и оба исхода равно даны. Загадочность личности лежит именно в раскрытии того, что скрывается за этой «маской» героя. Не касаясь даже вопроса о предусмотренной Достоевским в известной стадии его работы «тенденциозности» романа, уже эта своеобразная планировка образа героя давала роману особое место в ряду его замыслов. И это дает нам право рассматривать «Житие Великого Грешника» и «Бесов» (в их первоначальных записях), как самостоятельные звенья в цепи замыслов Достоевского того времени.
«Житие Великого Грешника», как я уже говорил, довольно близко примыкает к первоначальной редакции «Идиота». Местами близость характеристик двух героев настолько разительна, что можно думать, не хотел ли Достоевский уже в «Идиоте» (ранней редакции) дать нам эпоху жизни «великого грешника», план «жития» которого он набросал позже. В этом плане имеется программное изложение этой эпохи: «Вдруг юношество и разврат. Подвиг и страшные злодейства. Самоотвержение. Безумная гордость. От гордости идет в схимники и в странники. Путешествие по России. (Роман, любовь. Жажда смирения) и проч. и т. д. и т. д. (Канва богатая). Падение и восставание. Человек необычайный — но что же он сделал и совершил»[25][26]. Но ведь и в «Идиоте» — «последняя степень гордости и эгоизма», в нем одной из главных черт характера было «самовладение от гордости (а не от нравственности) и бешеное саморазрешение всего», и ему унижения доставляют удовлетворение. О нем говорится между прочим в записках: «кто его не знает, смеется над ним, кто его знает, начинает его бояться». Не мало и преступлений на его совести — он «зажигает дом» и «в один из разов насилует Миньону (героиню романа)»[27]. Но тогда, в конце 1867 года, Достоевскому рисовался план романа еще в форме романа общественно-психологического, на фоне изображения жизни двух русских семей — разоренной помещичьей и дворянско-аристократической. Эта канва и была до известной степени перенесена позже в роман «Идиот», резко, однако, изменивший облик главного его героя.
В отличие от ранней редакции «Идиота», герой «Жития Великого Грешника» как будто заранее предопределен автором к духовному возрождению. В этом и должна была заключаться «житийность» замысла. Через падения и преступления к духовному просветлению, к конечному обретению веры — так рисовалась Достоевскому телеология романа. В этой предопределенности и была органическая связь с неосуществленным замыслом романа «Атеизм». Их связывает и общая повышенная эмоциональность в отношении к основной мысли обоих замыслов. «Это будет мой последний роман», «этот роман я считаю моим последним словом в литературной карьере моей», — таковы собственные оценки Достоевского его будущего романа1. Как и в «Атеизме», здесь для Достоевского стоял основной для него вопрос — о существовании Бога. «Главный вопрос», пишет он А. Н. Майкову, «который проведется во всех частях — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование Божие»[28][29].
Здесь у Достоевского вновь является мысль об романе-эпопее. Начинает Достоевский детством героя, которому должна была быть посвящена первая часть («первая же повесть — детство героя»), затем помещает его в монастырь, сталкивает с Тихоном, затем снова ведет в свет («выходит вновь на свет, чтобы быть величайшим из людей»), заставляет пройти искушениями разума «…образование (Конт. Атеизм. Товарищи. Образование мучит его, и идеи и философия, но он овладевает тем, в чем главное дело»), проводит через юношеский разврат и страшные злодейства, затем делает схимником и странником. Только к концу — «все яснеет» и «Великий Грешник» «умирает, сознаваясь в преступлении». Здесь снова замечается совпадение с сюжетом о Павлищеве, как он изложен в «Идиоте», еще значительнее оно в том плане романа «Великий Грешник», который Достоевский сообщает А. Н. Майкову. Там «герой в продолжение жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист…»[30]
Хотя в плане «Жития», таким образом, как бы и предопределено спасение и преображение героя, но, если внимательно вчитаться в него, невольно остается впечатление все той же двойственности, которая имелась уже в ранней редакции «Идиота». Преступный лик героя вырисован четко и психологически убедительно, лик просветленный рисуется смутно, и его конечную победу приходится брать на веру. Даже столкновение мальчика с Тихоном не дает предощущения этой конечной победы. Встреча эта происходит между 13-летним мальчиком, «посаженным родителями в монастырь для обучения». Волчонок и нигилист — ребенок сходится с Тихоном, и эта встреча должна сыграть решающую роль в жизни героя. Однако в сохранившемся плане эта встреча скорее укрепляет грешника в его ложном пути, чем ведет его на путь просветления. Пусть в конце концов герой и признает душевную чистоту Тихона, пусть он догадывается, что «Тихон коренником крепок, как ребенок чист, мысли дурной иметь не может, смущаться не может, и потому все поступки его ясные и прекрасные», но это не внутренний духовный переворот, а только переоценка личности самого Тихона. Существенно то, что герой из встречи с Тихоном выводит неожиданное заключение, еще глубже укрепляющее его греховность, в конечном счете коренящуюся в его непобедимой самости. «После монастыря и Тихона великий грешник с тем выходит вновь на свет, чтобы быть величайшим из людей. Он уверен, что он будет величайшим из людей. Он так и ведет себя: он гордейший из всех гордецов и с величайшей надменностью относится к людям»1. Не случайно стоит в записи: «после монастыря и Тихона». Именно жизнь Тихона дает ему в руки новое оружие для утверждения своего превосходства над людьми. «Но он (и это главное) через Тихона овладел мыслью (убеждением), что чтоб победить весь мир, надо победить только себя. Победи себя и победишь мир». И отсюда вырисовывается новый облик великого грешника, облик кроткого и милостивого гордеца. «От гордости и от безмерной надменности к людям он становится для всех кроток и милостив — именно потому, что уже безмерно выше всех»[31][32]. Так почти до конца герой «Жития» пребывает в своей гордыне, пути преодоления которой в сохранившемся плане не даны.
Образ же Тихона Задонского, как можно думать, имел в глазах Достоевского самодовлеющую ценность; он был ему так дорог и близок, что в его художественные планы не могло входить намерения превратить его только в орудие обращения Великого Грешника. По замыслу Достоевского, Тихон Задонский отнюдь не должен был явиться лицом эпизодическим в романе. «Хочу выставить во второй повести главной фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем, но тоже Архиерей будет проживать в монастыре на спокое… Авось, выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в Обломове. Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература, а не Лавровский, не Чичиков, не Рахметов и проч. и не Лопуховы, не Рахметовы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя важным подвигом»1.
Схематические наброски плана «Жития Великого Грешника» там, где они говорят о Тихоне, тоже свидетельствуют о том, что вторая часть романа должна была дать Тихону равноправное место с героем романа. Здесь предполагается включение жития в житие — жизнь Тихона прошла бы перед нами в его рассказах о себе мальчику. «Ясные рассказы Тихона о жизни и земной радости. О семье, матери, братьях. Чрезвычайно наивные, а потому трогательные рассказы Тихона о своих прегрешениях против домашних, относительно гордости, тщеславия, насмешек. (Так бы все переделал теперь, говорит Тихон). Уж одно то трогательно, что он с мальчиком связался. Рассказ Тихона о своей первой любви, о детях. Монахом жить ниже, надо иметь детей и выше, когда призвание имеешь., Therese-philosophe» смутила Тихона. А я думал, что уже закалился. Пошел в послушание к мальчику; слушается его. (Высоко, сильно и трогательно)" — значится в записях плана[33][34].
Повторяю, внимательный анализ плана «Жития Великого Грешника» заставляет усомниться в удаче основного замысла Достоевского, в приведении героя к спасению и вере. Не случайно, уже в самом конце плана, как бы подводя итоги, Достоевский сам себе ставит вопрос: «Человек необычайный — но что же он сделал и совершил»[35]. «Кончает воспитательным домом у себя и Гасом становится», — звучит какой-то внутренней фальшью в общей системе творчества Достоевского. Неужели для Достоевского образ доктора-филантропа Гааза может явиться доподлинной пристанью после бурного плавания его героя? Поэтому я не стал бы с такою решительностью, как это делает В. Комарович, утверждать, что герой «Жития» всей своей жизнью «должен был обнаружить религиозную закономерность жизни вообще, неизбежность приятия Бога»[36]. Для меня план «Жития» скорее лишнее доказательство того, что Достоевскому в этот период его творчества не давался замысел преодоления греховности. В его герое, вопреки желанию автора, греховность пускает такие глубокие корни, приводит к такому внутреннему опустошению, что путь спасения, несмотря на все усилия востосковавшего о правде духа, оказывается тщетным. Непобежденный в своей гордости, не способный на подлинный акт смирения и раскаяния, мятущийся герой Достоевского вплотную подходит к самоубийству: «застрелиться хотел», говорится о нем в одной из заключительных записей. И этот конец художественно кажется более оправданным, чем заключение плана образом филантропа Гааза.
Творческая история романа «Бесы» уже в достаточной мере разработана, чтобы сейчас возвращаться к ней во всей подробности. Для нас здесь — при анализе творческих исканий Достоевского — важно выделить лишь самое существенное.
Будучи задуман еще в конце 1869 г.1, роман «Бесы» занимает творческое воображение Достоевского наряду и одновременно с продумыванием «Атеизма» и работой над планом «Жития Великого Грешника». Однако до февраля 1870 г. мы ничего определенного об этом замысле не знаем. К февралю-марту относятся первые дошедшие до нас датированные заметки, с несомненностью относящиеся к сюжету будущего романа «Бесы». И вновь, с первых же шагов, образ будущего Ставрогина, носящего в ранних записях имя «князя», носит черты двойственности.
В этих записях, относящихся к февралю-марту 1870 года, Князь еще мыслится «новым человеком», пришедшим к решению начать «новую» жизнь и зовущим к этой жизни «воспитанницу», будущую Дашу романа. «Князь приехал, уже все разрешив, все сомнения. Он — новый человек… В бешеной, засевшей внутрь энергии, мало высказывается, смотрит насмешливо и скептически, как человек, уже имеющий у себя окончательную разгадку и идею»[37][38], говорится о князе в одной из ранних записей. Или же в другом месте: «Главная же идея (т. е. пафос романа) это князь и воспитанница — новые люди, выдержавшие искушение и решающие начать новую, обновленную жизнь»[39]. Подобно герою «Жития Великого Грешника», он находит идею, которая дает ему возможность укрепиться в жизни, он из одержимых идеей. «Это человек идеи. Идея обхватывает его и владеет им, но имея то свойство, что владычествует в нем не столько в голове его, сколько воплощаясь в него, переходя в натуру, всегда с страданием и беспокойством, и уже раз поселившись в натуре, требуя и немедленного приложения к делу»[40]. Эта идея, овладевшая им, шла от Голубова, духовного лица, игравшего роль Тихона в «Житии Великого Грешника». «Идеи Голубова суть смирение и самообладание, и что Бог и царство небесное внутри нас, в самообладании, и свобода тут же»1.
Ему кажется, что идею эту он сам выдумал, хотя она явно осознана им под влиянием Голубова: «Быть новыми людьми, начать переработку с самих себя. Я не гений, но я однако же выдумал новую вещь, которую никто кроме меня на Руси не выдумывал: самоисправление», горделиво говорит о себе Князь[41][42]. В уста Князя Достоевский влагает самые дорогие ему мысли о спасительной роли России и православия. Его устами он торжественно объявляет, что «отныне он Русский человек, и что надо верить даже в то, что сказано им у Голубова (что Россия и русская мысль спасет человечество). Он молится иконам и проч.»[43]; он «ищет правду; нашел правду в идеале России и христианства»[44]. Здесь мы входим в круг любимых идей самого Достоевского, и любопытно, что идеи эти связаны с Князем, будущим Ставрогиным. Следует сейчас же отметить, что по сравнению с образом Ставрогина, в начальных записях Князь перед нами является менее психологически расчлененным, менее собранным в одну точку. Если примкнуть к положению, что Шатов и Кириллов романа только эманации Ставрогина, расчленение единой личности на несколько отражений его духа[45], то в образе Князя первоначальных записей еще налицо эта нерасчлененность, совмещение в одном облике ликов и Шатова и Кириллова. Отсюда психологическая несобранность образа Князя, перемежающиеся характеристики, друг другу противоречащие. Видно, что сам автор не прояснил себе образа Князя, все время находится в колебании, каким чертам характера дать перевес. Поэтому в записях и встречаются такого рода заметки для себя: «Задача. (Украсить и создать эту пару — князя и воспитанницу). Тут-то и беда. Князь готовится в мировые судьи. Больше поэзии…»,"…всякому свой эпитет, а главное о князе крупные две-три черты", «…вообще создать князя…» и т. д.[46] Но чем далее идут записи, тем все более и более проясняется этот первоначальный образ Ставрогина. Сначала в положительные характеристики «нового человека» врываются уже знакомые черты «преступного» героя, идущего от ранней редакции «Идиота…» «И уж конечно он не идеал, ибо ревнив, упрям, горд и настойчив, молчалив и болезнен, т. е. грустен»[47], говорится, например, сейчас же вслед за указанием на необходимость сообщить о Князе две-три черты, и в других местах рассеян целый ряд таких отрицательных характеристик: «упрям и самостоятелен до болезни»1, «князь ненавидит все и всех…» и т. п.[46][49] Следует еще отметить, что уже с ранних записей Князь воспринимает себя как явление типичное для русской жизни и сознает ответственность, лежащую на нем, как представителе известной группы русской интеллигенции. Эта мысль, очевидно, входила в замысел Достоевского уже с самого начала работы над романом. Он и позже будет повторять, что Ставрогины хотя и редко, но бывают в жизни, что это не исключение, а тип. «Я, говорит Князь в одной из записей, прежде судил нигилизм и был врагом его ожесточенным, а теперь вижу, что и всех виноватее и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы прежде всех переродиться должны; мы — главная гниль, на нас главное проклятие и из нас все произошло»[50]. Эта выписка имеет особенное значение для понимания места Ставрогина в плане общественно-политического романа-памфлета, каким были задуманы «Бесы».
Оторванность от почвы служит для Достоевского и в дальнейшем объяснением многих поступков Ставрогина, вплоть до объяснения этой оторванностью страшного преступления, в котором он признается в «Исповеди». Но к этим мотивам мы вернемся, когда остановимся на ранних вариантах встречи Князя с Тихоном. Пока же отметим, что к концу марта 1850 г. в понимании образа Князя происходит какой-то резкий поворот. Сейчас его еще трудно установить в подробностях, но записи показывают, что Достоевский решил этот тип значительно упростить, как бы отчаявшись в возможности осуществить первоначальный слишком сложный и внутренне противоречивый замысел[51]. Сначала появляется запись промежуточного характера: «Князь — симпатичная фигура, прекрасен (под видом легкомыслия — глубоко поражен и мыслит). Скептик и Дон-Жуан, но только с отчаяния»[52], а затем следуют более решительные и беспощадные характеристики, резко меняющие первоначальный облик Князя: «Мысль. Игра жизнию, махание руками и закрывание глазами (!) и верчение в омуте, чтоб не видать. Если ж раз увидит, то застрелится. Дон-Жуан, но с сознанием. «Не то мы племя, живи пока живется» «, «скептик и насмешник над всеми, но свысока и спустя рукава», «полное равнодушие ко всему гражданскому. Одно упоение сладострастием», и как заключение, неожиданный ярлык, завершающий эту эволюцию образа Князя: «изящный Ноздрев»[53].
Именно с этим изменившимся образом все настойчивее связывается мотив самоубийства, вновь приоткрывающий в Князе какие-то глубины. «Человек легкомысленный, занятый одной игрою жизнию, изящный Ноздрев делает ужасно много штук и благородных и пакостных, и он-то вдруг и застреливается… Только пустой и легкомысленный, а под конец оказывающийся глубже всех человек и больше ничего. NB ??? (что-то выйдет из этого?)»1. Таким недоуменным вопросом заканчиваются творческие усилия Достоевского создать образ своего загадочного героя в этой ранней стадии работы.
Что же привело Достоевского к перелому в толковании образа Князя? Нам думается, что он, незаметно для самого себя, настолько близко подошел в своем первом плане к герою Великого Грешника, что испугался за судьбу последнего. Продолжая работать в том же направлении, он вынужден был бы отказаться от мысли создать роман о «Великом Грешнике», что не входило в его планы. Эта одновременность двух сходных замыслов заставила его искать для героя романа, обещанного в «Русский Вестник», т. е. будущих «Бесов», иные черты, не совпадающие с образом Великого Грешника. Не с этим ли связано и решение придать новому роману характер тенденциозный, о чем Достоевский впервые пишет в письме к Н. Н. Страхову 24 марта 1870 г. «На вещь, которую я теперь пишу в Русский Вестник, я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Надеюсь на успех»[54][55]. Хотя уже ранние записи начала 1870 г. дают план общественного романа, героем первых страниц которого является Грановский (Г-й), будущий Степан Трофимович, но тенденциозная заостренность романа явилась, очевидно, позже, под влиянием каких-то иных мотивов. Одним из таких мотивов и могло явиться желание спасти «Житие Великого Грешника», роману-житию противопоставив роман-памфлет, выполнение которого казалось ему сравнительно простым. Это вызывало необходимость упрощения и образа Князя, которому отводилось в ходе романа место второстепенное. Он слишком вырос в своей значительности в первоначальных записях и нарушал бы своей излишней «психологичностью» новый замысел романа-памфлета[56].
Входила ли уже в первоначальный замысел Достоевского встреча Князя с Тихоном и какое место в романе этой встрече отводилось? Вопрос этот существен для определения в дальнейшем места так называемой «Исповеди Ставрогина» в общей композиции романа «Бесы». Как известно, вокруг «Исповеди Ставрогина» между исследователями Достоевского ведется горячий спор, до сих пор окончательно не разрешенный[57][58]. Если мы проследим, как у самого Достоевского складывается замысел встречи с Тихоном, то это может помочь нам установить свою точку зрения на сущность этого спора и занять в нем самостоятельную точку зрения.
Первые записи Достоевского, несомненно относящиеся к сюжету будущего романа «Бесы», датировка которых нам известна (январьмарт 1870 г.), вовсе не содержат упоминания о встрече героя с Архиереем1. Это объясняется тем, что в это время образ Тихона сюжетно еще был прочно связан с «Житием Великого Грешника», где ему отводилась, как мы видели, существенная роль во второй части романа. До начала мая 1870 г. Достоевский работал над планом этого романа и вплоть до августа этого года не оставлял мысли, что к нему еще вернется[59][60]. Но уже в этих ранних набросках роль Тихона была отведена Голубову, прототипом которого служил старообрядческий деятель, позже вернувшийся к единоверию, Константин Ефимович Голубов. Здесь предусмотрена встреча с ним Князя и глубокое влияние, произведенное его личностью и учением на него. Он «предается» Голубову, который «потрясает» его; встреча с ним «волнует и поражает его», смирение Голубова заставляет его задуматься над самим собою. Голубова он «слушает почтительно» и заражается его идеей[61]. Встреча с Голубовым сыграла в жизни Князя решающее значение. Князь, встретив его, «поражается, ужасается и поддается ему беззаветно» и «укрепляется в его идеях, а остальное все отвергает»[62]. Так Достоевский пытался сохранить Тихона Задонского для своего «Жития Великого Грешника», отведя сходную ему роль в другом романе Голубову, менее яркому и духовно ему близкому человеку. Однако, он не мог долго удержаться на этой компромиссной позиции.
Судя по черновым записям к роману «Бесы», опубликованным первоначально Л. П. Гроссманом[63] и теперь вошедшим в «Записные тетради», Достоевский уже в первоначальной концепции романа отводил «Исповеди» довольно значительное место в общем развитии сюжета. В этих записях говорится о свидании Князя с Архиереем, названным уже далее прямо Тихоном. Таким образом перед нами налицо прямое перенесение образа Тихона из плана «Жития Великого Грешника» в будущий роман «Бесы». Однако такое перенесение стоит в противоречии с тем, что Достоевский долго еще не оставлял мысли о романе «Житие Великого Грешника»; ведь «главная мысль» романа, набросанная в конце плана «Жития», в которой имеется прямое упоминание Тихона, носит определенную дату: 3 мая 1870 г., т. е. время, когда Достоевский уже работал над «Бесами» и определял их как роман с «тенденцией». Даже в августе 1870 г., когда к роману «Бесы» было написано уже до 15 листов, Достоевский еще не бросает мысли доставить в будущем году в журнал «Заря» роман «Житие Великого Грешника».
Как же выйти из этого противоречия? Я думаю, только предположением, что Достоевский определил в романе «Бесы» Тихону сравнительно ограниченную роль, сохранив его для своего «Жития» под другим именем в роли главного лица второй части романа. Одно время Достоевский не вводил вовсе Тихона в роман, сохраняя однако мысль об «Исповеди». Об этом свидетельствует следующая запись: «Князь исповедует Ш. (т. е. Шатову) свою подлость с ребенком (изнасилование). Написал исповедь, хочет напечатать, показал HL, прося совета. Говорит, что хочет, чтобы ему плевали в лицо. Но после того возненавидел Ш. и рад, что его убили»1.
Чрезвычайно существенным является в этих записях то, что «исповедь» предусмотрена Достоевским еще тогда, когда образ Князя он мыслил во многом иным, чем он сложился позже. Здесь все еще Князь является носителем новых идей: он принял «катехизис новой веры», по которому православие является «главным основанием новой цивилизации с востока», и именно идеей православия он поражает Шатова[64][65]. Признание в ужасном преступлении происходит на иной душевной почве, и образ Князя здесь вырисовывается иным, чем Ставрогин в «Бесах». В Князе происходит большая внутренняя борьба, и если он не осиливает в себе беса «праздности и уныния», то все же он ближе к победе над собой, чем Ставрогин. О последнем никак нельзя было бы сказать: «Князь обворожителен как демон, и ужасные страсти борются с… подвигом. При этом неверие и мука — от веры. Подвиг осиливает. Вера берет верх, но и бесы веруют и трепещут. „Поздно“, говорит Князь и бежит в Ури, а потом повесился»[66].
Иная психологическая задача стояла здесь перед Достоевским, и «исповедь» играла здесь иную роль в разрешении ее. Самое преступление отодвинуто на задний план, и ему уделено мало внимания в записях. Главный интерес сосредоточен на самом Князе, на вскрытии его душевного состояния. Одна из главных причин, выдвигаемых в объяснение его бессилия, — это «неполнота» веры, отсутствие той «непосредственной» веры, которая одна только и является полным выражением православия. Князь сам сознает эту ущербность своей веры, связанную с ущербностью его личности. «Князь совершенно верует и в Антихриста, и в спасение православием. Но так как он, по совести его, недостаточно верует, то и говорит формулу: коли недостаточно верую — значит ничему не верую»[67]. Он готов на «самопожертвование исповедью», но не готов к подвигу смирения, не высшего «классического подвига, связанного с презрением к другим», а труднейшего «труда православного». Тут вплетается у Достоевского его любимая идея об «оторванности» от почвы, как одной из основных причин, обусловливающих ущербность духа. В записке об изнасиловании должно было быть место: «Все это я сделал, как барин, как праздный, оторванный от почвы человек». Скука и праздность — вот главные симптомы этой болезни духа. «Я праздный ум и мне скучно. Я знаю, что на земле можно быть счастливым (и должно) и что есть что-то, в чем счастье, чего я не знаю. Но потому-то мне и грустно, что я не знаю, что это за вещь. Нет, я не из разочарованных. Я думаю, что я из развратных и праздных»1. Исповедь это не только попытка сломить свою гордость, но и последний порыв к «энтузиазму», к непосредственному растворению себя в покаянии. Но этот порыв гаснет, ибо нет подлинного смирения.
Ясно, что для Достоевского самое преступление, будь оно даже столь ужасное, как изнасилование Матреши, еще не закрывало пути к спасению. Ему это преступление было необходимо, как указание глубины падения человека, впавшего в безверие.
Так эти записи закрепили особую стадию в эволюции образа Ставрогина: в нем еще сохранилась порывистость духа, еще не опустошена его душа до мертвенности и неподвижности, еще рвется она к последнему подвигу, но уже подрезаны крылья живой и непосредственной веры, и в итоге — Ури.
В августе 1870 г. происходит резкий перелом в работе над «Бесами». Достоевский почувствовал неудовлетворенность своей работой и решился на коренную переработку романа, которого уже было написано до 15 листов. «Теперь я решил окончательно», пишет он в первой половине августа В. В. Кашпиреву, «все написанное уничтожить, роман переделать радикально, и хоть часть написанного и войдет в новую редакцию, но тоже в радикальной переделке»[68][69]. Эта перемена произошла в связи с каким-то изменением в идейной оценке Достоевским своего романа. «Отказаться от новой идеи и остаться при прежней редакции романа я не в силах совершенно. Я не мог представить всего этого», пишет он в том же письме. Очевидно, Достоевский остался неудовлетворенным слишком «тенденциозным» уклоном романа, и по мере углубления в работу идейное значение романа вырастало в его глазах. Происходил двойной процесс — с одной стороны отходил несколько в сторону замысел «Жития Великого Грешника», над которым работа приостановилась, с другой — работа над «Бесами» все более углублялась в своем идейном содержании. Создавалась внутренняя неудовлетворенность, которая и привела к решению радикально изменить план романа «Бесы». Несомненно, этому сопутствовал полный отказ от осуществления в ближайшее время «Жития Великого Грешника». Таким образом создавалась возможность использования уже накопленного материала, предназначавшегося для оставленного замысла, в частности образ Тихона мог усложниться и занять более самостоятельное место в романе. Во всяком случае, Достоевский придает теперь своему роману большое идейное значение, и на него переходит тот пафос, который характеризовал его отношение к «Атеизму» и «Житию Великого Грешника». Он пишет с восторгом об идее новой редакции: «Идея так хороша, так многозначительна, что я сам пред ней преклоняюсь»1. Работа значительно подвигается вперед, и уже в начале октября он высылает половину первой части романа в «Русский Вестник»[70][71].
Кризис в работе над «Бесами» был вызван главным образом тем, что образ Князя-Ставрогина уже в черновых записках перерос ту роль, которая ему отводилась Достоевским в плане «тенденциозного» романа. Он незаметно перерос главного героя и занял первое место в творческих раздумьях Достоевского. Правда, ему самому далеко не ясен был его облик, он двоился в его сознании и временами сливался с чертами героя «Великого Грешника». Но теперь, когда была оставлена надежда на ближайшее осуществление замысла, можно было смелее дорисовать облик Князя-Ставрогина. В письме от 8 октября 1870 г. к М. Н. Каткову Достоевский впервые говорит о Ставрогине как главном герое романа и, что особенно важно, дает свое авторское толкование этому типу. Говоря о Нечаеве как вдохновителе образа Петра Верховенского, Достоевский пишет в этом письме: «Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. Без сомнения не бесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению это лицо наполовину выходит у меня комическим. И потому, несмотря на то, что все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, — только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы называться главным героем романа. Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении: „Что это такое?“ Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению это и русское, и типическое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу разговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Конечно, это характер редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя общества)».
Это чрезвычайно ценное для истории творческой работы Достоевского над «Бесами» письмо содержит в дальнейшем прямое указание на будущую встречу Ставрогина с Тихоном. Характер этого свидетельства не допускает сомнения в том, что здесь роль Тихона разрастается за счет замысла «Великого Грешника» и что ему отводится в романе известная самостоятельная роль. «Мрачное» лицо Ставрогина должно здесь оттенить светлый облик Тихона, выдвинуть его на роль положительного героя романа. «Но не все здесь будут мрачные лица», пишет Достоевский далее, — «будут и светлые. Вообще боюсь, что многое не по моим силам. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже святитель, живущий на покое в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа. Боюсь очень; никогда не пробовал; но в этом мире я кое-что знаю»[72].
Могло ли в таком случае это свидание Ставрогина с Тихоном пройти безрезультатно для него, могло ли оно остаться без всякого влияния на его дальнейшую судьбу? Неужели эта встреча, задуманная Достоевским еще в пору обдумывания романа «Атеизм», теперь, когда он наконец подошел к тому, чтобы художественно воплотить ее в новом романе, нужна была только для выявления несостоятельности преступного героя? Достоевский в таком случае отказался бы от слишком дорогого для него, запавшего ему в душу замысла, отказался бы без надежды воплотить его когда-либо в жизнь. Ведь появись «исповедь» в печати в таком виде, как мы ее знаем, ему уже трудно было бы подойти позже даже к образу старца Зосимы, которому отчасти передана роль Тихона в романе «Братья Карамазовы». Нет, очевидно, вводя Тихона действующим лицом романа, сводя и сопоставляя его со Ставрогиным, Достоевский отводил этой встрече существенное место в развитии внутренней трагедии своего героя. На это отчасти указывает и письмо Достоевского к С. А. Ивановой от 6 января 1871 г. В нем имеется место, связанное с высказанным М. А. Ивановой желанием, чтобы роман «Бесы» был посвящен ей. По этому поводу Достоевский пишет ее сестре следующие, исключительно для нас ценные строки: «Я уже отослал первую половину 1-й части, когда получил это желание. Правда, тотчас же хотел было написать в редакцию, чтобы вставить строчку о посвящении, потому что тогда еще наверное не начинали печатать. Но — остановился за совершенною невозможностью посвятить Марье Александровне. В романе (во 2-й и в 3-й части) будут места, которые хоть и можно читать даже девушке, но все-таки нехорошо посвятить ей. Одно из главных лиц романа признается таинственно другому лицу в одном своем преступлении. Нравственное влияние этого преступления играет большую роль в романе, преступление же, повторяю, хоть о нем и можно прочесть, но посвятить не годится… Не знаю, может я рассуждаю неправильно. Я еще далеко не дошел до того места и все будет, может быть, очень прилично; но теперь все-таки посвятить не решусь»1. Не подлежит сомнению, что здесь речь идет об «исповеди» Ставрогина, которой отводилось существенное место в общей композиции романа. Но можно ли говорить о «нравственном» влиянии этого преступления на Ставрогина, если его брать таким, каким мы его знаем по каноническому тексту? Я думаю, мы здесь имеем прямое указание на то, что «Исповедь Ставрогина» была внутренне связана с иным образом Ставрогина, с возможностью для него нравственного воскресения, и встреча с Тихоном должна была подвести его к этой возможности. Я не решусь утверждать, как это делает В. Комарович, что Достоевский действительно предназначал Ставрогину «преображение»; для такого категорического утверждения мы не располагаем объективно доказательным материалом, но что «исповедь» предполагала иную ступень душевного опустошения Ставрогина, чем она дана в каноническом тексте, это мне кажется несомненным. За это говорят и те колебания, какие были у Достоевского во время непосредственной работы над «Исповедью».
Дошедшая до нас «Исповедь Ставрогина» в двух редакциях[73][74] носит на себе следы все того же колебания в обрисовке образа Ставрогина. Петербургская редакция все время держит нас на известной грани, оставляя возможность толковать признание Ставрогина в преступлении как поклеп на самого себя, как очередную фантазию больного воображения. Самому автору по каким-то художественным мотивам не хочется допустить Ставрогина до этого последнего падения, как бы закрывающего ему путь к душевному преображению. Уже в черновых записях Достоевский колеблется в своем решении провести своего героя через грех растления девочки: он в нескольких местах намекает на то, что самого преступления в сущности не было.
Архиерей перед уходом Князя обращается к нему: «„Скажите, заклинаю вас, правду ли вы мне сказали или все это солгали?“ — Князь смотрит на него: „Я все солгал?“ Архиерей посмотрел на него, подумал, благословил: Гряди с миром. После чего, на завтра, от князя записка: Все это я вам солгал, и вы можете убедиться, что теперь не лгу, уже потому что не из боязни огласки пишу вам, ибо вы не перескажете, а из одного лишь желания хоть сколько-нибудь смягчить мой недостойный поступок с вами. Я немного был не в своем уме; болезнь у меня такая; простите же меня и помолитесь за меня. Сын ваш Ставрогин»1. Хотя дальше сам Достоевский и старается ослабить это место следующими разъяснениями: «Затем князь непременно в романе еще раз проговаривается так (и пишет в записке со станции об Ури), что ясно читателю, что грех его действительно был сделан и он не солгал Тихону. «Пусть Тихон помолится» «, написал он[75][17], но все же и после этого остается возможным толкование в пользу Ставрогина, который почему-либо мог снова изменить свое решение и постарался укрепить Тихона в своей виноватости. Взять на себя преступление, которое ему молва и так приписывала, вынести это бремя унижения и поругания за другие, уже подлинно содеянные грехи, — так могла Достоевскому рисоваться психология Ставрогина, толкнувшая его на этот новый фантастический шаг.
Петербургская редакция содержит в себе ряд мест, которые дают возможность именно такого толкования. И любопытно, что в этом лежит отличие двух известных нам редакций «Исповеди». Петербургский текст, подводя Ставрогина вплотную к преступлению, искусственно оставляет читателя в недоумении, было ли оно действительно совершено. После того, как Матреша обхватила Ставрогина «за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама», в петербургском тексте значится: «Я встал почти в негодовании — так это было мне неприятно в таком маленьком существе, от жалости, которую я вдруг почувствовал»[77]. Далее пропущен весь «Листок 2-й», удержанный у себя Ставрогиным «под цензурой» и содержащий откровенное психологическое описание духовного состояния Матреши после того, как «все кончилось». Но пусть это был только литературный прием, чтобы освободить читателя от слишком реалистической страницы исповеди. От этого ведь самое преступление не становится менее вероятным. Но вряд ли можно найти отвод против другого места, где устами самого автора хроники Достоевский стремится вызвать у читателя сомнение в правдивости исповеди Ставрогина. Это место особенно важно, потому что, как мы увидим далее, Достоевский имел в виду его восстановить и во второй, московской редакции. Второй раздел «главы IX», озаглавленной «У Тихона», содержит в петербургской редакции следующую вставку от автора хроники, которая следует сейчас же после слов «Во всяком случае ясно, что автор прежде всего не литератор»: «…Позволю себе и еще замечание, хотя и забегаю вперед. Документ этот, по-моему, — дело болезненное, дело беса, овладевшего своим господином. Похоже на то, когда страдающий острой болью мечется в постели, желая найти положение, чтобы хотя на миг облегчить себя. Даже и не облегчить, а лишь бы только заменить, хотя на минуту, прежнее страдание другим. И тут уже разумеется не до красивости или разумности положения. Основная мысль документа — страшная, непритворная потребность кары, потребность креста, всенародной казни. А между тем эта потребность креста — все-таки в человеке, не верующем в крест, — „а уж это одно составляет идею“, — как однажды выразился Степан Трофимович в другом, впрочем, случае. С другой стороны, весь документ в то же время есть нечто буйное и азартное, хотя и написан, по-видимому, с другой целью. Автор объявляет, что он „не мог“ не написать, что он был „принужден“, и это довольно вероятно: он рад бы миновать эту чашу, если бы мог, но он действительно, кажется, не мог и ухватился лишь за удобный случай к новому буйству. Да, больной мечется в постели и хочет заменить одно страдание другим, — и вот борьба с обществом показалась ему положением легчайшим, и он бросает ему вызов. Действительно, в самом факте подобного документа предчувствуется новый, неожиданный и непочтительный вызов обществу. Туг скорее бы только встретить какого-нибудь врага… А кто знает, может быть, все это, то есть листки с предназначенною им публикацией, — опять-таки не что иное, как-то же самое прикушенное губернаторское ухо в другом только виде? Почему даже мне это теперь приходит в голову, когда уже так много объяснилось, — не могу понять. Я и не привожу доказательства и вовсе не утверждаю, что документ фальшивый, то есть совершенно выдуманный и сочиненный. Вероятнее всего, что правды надо искать гденибудь в середине… А впрочем, я уже слишком забежал вперед; вернее обратиться к самому документу. Вот что прочел Тихон…»[78]
И вот что особенно следует отметить: на полях корректурной гранки московской редакции, как раз в соответствующем этой выдержке месте, имеется рукописная приписка рукою Достоевского: «одного замечанья только одного»1. Без сомнения эта отметка имеет в виду начальные слова приведенного выше отступления: «Позволю себе еще замечание». На что эта приписка указывает? Само по себе требует разъяснения, почему корректурные гранки, сохранившиеся в архиве А. Г. Достоевской, носят на себе не только следы обычных корректурных исправлений для типографии, но «почти сплошь, — особенно начиная с конца первой главы — и на полях и в самом тексте испещрены величайшим множеством сделанных рукою автора поправок, вставок и дополнений»[79][80]. Это свидетельствует о том, что Достоевский, уже после полученного им отказа печатать «Исповедь» в «Русском Вестнике», все еще продолжал над ней работать, т. е. не оставляя мысли так или иначе сохранить эту главу в романе. Это подтверждается письмом Достоевского к С. А. Ивановой из Петербурга от 4 февраля 1872 г. В этом письме он пишет: «Вторая часть моих забот был роман. Правда, возясь с кредиторами и писать ничего не мог; но по крайней мере, выехав из Москвы, я думал, что переправить забракованную главу романа так, как они хотят в Редакции, все-таки будет не Бог знает как трудно. Но когда я принялся за дело, то оказалось, что исправить ничего нельзя, разве сделать какие-нибудь перемены самые легкие. И вот в то время, когда я ездил по кредиторам, я выдумал, большей частию сидя на извозчиках, четыре плана и почти три недели мучился, который взять. Кончил тем, что все забраковал и выдумал перемену новую, т. е. оставляя сущность дела, изменил текст настолько, чтобы удовлетворить целомудрие Редакции. И в этом смысле пошлю им. Если не согласятся, то уж я и не знаю, как сделать»[81].
Наличие на полях замечания со ссылкой на петербургскую редакцию, в которой содержится ограничительное толкование правдоподобия «исповеди», совершенно ясно указывает на желание Достоевского внести известное смягчение и в переработанный текст. Отсюда, во всяком случае, следует, что Достоевский до конца колебался в одном из самых существенных вопросов «исповеди»: сделать ли ее только проявлением очередного фантастического бреда героя или исходить в ней из факта беспримерного его падения? От того или иного толкования могла в дальнейшем сложиться судьба Ставрогина — его большая просветленность, даже при трагическом исходе, или позорный конец «гражданина города Ури».
А. С. Долинин, горячий сторонник органичности «Исповеди» в общей концепции романа «Бесы», признает, что у Достоевского эти колебания в изображении внутреннего мира Ставрогина были налицо.
«Несомненен факт колебания Достоевского в основном плане сюжета „Исповеди“, в психологической ее трактовке. Несомненно, что самые существенные расхождения во 2-й части обоих текстов объясняются именно тем, что в одном из них, в петербургском, образ Ставрогина ставится так, что делается возможным для него пережить акт живой религиозной воли, истинное раскаяние»1. Правда, московский текст как будто бы устранил все колебания; в нем Достоевский исходит в своей концепции образа Ставрогина из факта преступления над «отроковицей». Впрочем, и здесь имеется характерная оговорка в словах Ставрогина: «Я, может быть, не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много налгал на себя, — прибавил он неожиданно», и дальше, как бы нарочно подчеркивая сказанное, он повторяет: «Я, может быть, вам очень налгал на себя, настойчиво повторил Ставрогин»[82][83].
Но мы знаем, что и этот московский текст нельзя считать окончательным. Он сохранил следы дальнейших колебаний Достоевского, характер которых как будто говорит за то, что московская редакция снова приближалась к петербургской. Во всяком случае, в настоящее время мы не располагаем таким текстом «исповеди», который мы были бы вправе рассматривать как часть канонического текста романа. Внешняя причина, оборвавшая печатание «исповеди» в журнале «Русский Вестник», совпала с какими-то внутренними колебаниями Достоевского, не нашедшими себе, к сожалению, более полного выявления. Вплоть до «Исповеди» Ставрогина, когда уже определились и композиционные и сюжетные его линии, для Достоевского не была исключена возможность иной судьбы Ставрогина. Все говорит за то, что исключение «исповеди» совпало с какими-то творческими колебаниями, заставившими Достоевского в конечном счете привести героя к позорной гибели, не оправдав ни одного его усилия к нравственному возрождению. Этот конец не был предрешен вплоть до «исповеди», исключение которой предопределило и нынешнее окончание романа и тот образ Ставрогина, каким мы его знаем по каноническому тексту романа.
Почти год перерыва отделяет появление в печати 2-й части романа «Бесы» в «Русском Вестнике» от начала печатания 3-й части: от декабря 1871 года до ноября 1872 г. Этот перерыв в печатании романа отражает не менее значительную остановку в самой работе над ним. Время это в жизни Достоевского было чрезвычайно сложно. Сознание дальнейшей невозможности оставаться вне России, постоянная и острая денежная нужда, неудовлетворенность собою и своею работою, неожиданный прорыв игорной страсти (апрель 1871 г.), возвращение на родину и хлопоты с этим связанные, рождение сына Федора сейчас же по возвращении в Россию (16.7.1871) — все это не могло содействовать успеху работы над незаконченным романом. Только с мая 1871 г. Достоевский вновь садится за прерванную работу. Надо думать, что к этому времени часть 2-я, включая «Исповедь», уже была вчерне готова. Еще в марте Достоевский был убежден, что закончит роман в 1871 г. Мы имеем указание на то, что уже к началу 1872 г. «исповедь» Ставрогина была «забракована» редакцией «Русского Вестника»; об этом сохранилось прямое свидетельство в письме Достоевского к жене от 4 января 1872 г.1 В феврале же Достоевский «дописывал» последнюю часть романа[84][85]. Остановка в печатании романа давала Достоевскому возможность вновь продумать окончание романа, над которым он работал почти вплоть до появления его в печати. Этого нового продумывания требовал прежде всего образ Ставрогина.
Достоевский был слишком большим художником, чтобы не чувствовать, какую роль играла «исповедь» в общей композиции романа и в понимании облика Ставрогина. На острие ножа подвел Достоевский своего героя к встрече с Тихоном, оставляя одинаково возможными для Ставрогина оба пути — путь просветления и путь гибели. «Исповедь» так, как мы ее знаем, отразила на себе еще раз колебания Достоевского в окончательном выборе пути. Но даже во второй редакции, предусматривающей нераскаянность Ставрогина, она содержала такое напряжение его воли к возрождению, что предопределяла собой трагическую гибель героя, а не позорное безвольное самоистребление.
Устранение «Исповеди» возлагало на Достоевского как художника труднейшую задачу: сохранить художественную цельность Ставрогина, уже вплотную к «исповеди» подведенного и внезапно от нее устраненного. Как Достоевский справился с этой задачей?
Если кульминационным пунктом романа должна была явиться исповедь с пророческим предвидением Тихоном нового преступления Ставрогина, то теперь Достоевский такое вершинное значение переносит на ночное свидание с Хромоножкой. Именно ее проклятие вослед убегающему в ночь Ставрогину: «Гришка Отрепьев, анафема!» ложится пророческой тенью на облик героя. И все, что следует дальше, только судорожное метание предопределенного к гибели героя. «Поединок» с Гагановым уже последняя вспышка самоиспытывающей воли Ставрогина, вспышка перед угасанием. Кириллов произносит над Ставрогиным именно после поединка уничтожающий приговор: — «вы не сильный человек». И как бы символизируя это угасание духа Ставрогина, его душевное разложение, всплывает вслед за этим, в разговоре с Дашей, мотив двойника, беса Ставрогина, который сливается затем с образом Федьки Каторжного.
С этим местом связан любопытный эпизод в истории текста романа. Просматривая «Бесы» для первого отдельного издания, Достоевский, оказывается, вовсе не стремился, как полагает А. С. Долинин, сохранить «все свои намеки и указания, определенно ведущие к «Исповеди», дабы мы, потомки более далеких поколений, смогли восстановить то единство и целостность романа «Бесы», которое мыслимо воссоздать только при свете новой главы об «исповеди Ставрогина41…»1 Наоборот, он произвел сокращения и изменения журнального текста, внутренне связанные с устранением «Исповеди». Так, в упомянутой беседе с Дашей в первоначальном тексте мотиву привидений у Ставрогина отведено было значительно больше места и не так тщательно было проведено противоположение демона мелкому бесу Ставрогина. «Бес» журнального текста ближе к «бесу» Ивана Карамазова и в этом смысле иерархически не соответствовал Ставрогину канонического текста. Если последний действительно «просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся», то первый сохранил, правда отдаленные, черты «демона» юного Ставрогина. Недаром он злится, «что его собственный бес мог явиться в такой дрянной маске». Ставрогин жалуется Даше: «Вчера он был глуп и дерзок. Это тупой семинарист, самодовольство шестидесятых годов, лакейство мысли, лакейство среды, души, развития, с полным убеждением в непобедимости своей красоты… ничего не могло быть гаже…» Однако этот «лакей мысли» сохраняет поползновение играть роль настоящего беса, и эта роль ему не так плохо удается. Его значительность, отражающая значительность самого Ставрогина, дает себя явно знать. «Я знаю», — говорит Ставрогин, «что это я сам в разных видах, двоюсь и говорю сам с собою. Но все-таки он очень злился; ему ужасно хочется быть самостоятельным бесом и чтоб я в него уверовал в самом деле. Он смеялся вчера и уверял, что атеизм тому не мешает»[86][87]. Это слишком явно ведет к тому бесу, о котором Ставрогин говорит Тихону в исповеди. Там он признавался, что «видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и «разумное44, в разных лицах и разных характерах, но одно и то же, а я всегда злюсь»[88], и его атеизм действительно не помешал ему окончательно уверовать в своего беса: «я верую в беса, верую канонически, в личного, не в аллегорию, и мне ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все», — горячо и раздраженно бросает он Тихону.
Ему — Гришке Отрепьеву — в спутники дан не «разумный и злобный» бес, а «расчетливый бесенок», принявший облик Федьки Каторжного.
Достоевский мог сохранить в тексте отдельного издания романа, куда он уже сознательно, по доброй воле не внес «Исповеди», отдельные места, как бы ведущие к «Исповеди» (напр., совет Шатова Ставрогину пойти к Тихону), ибо они ни в чем существенном не меняли самого облика Ставрогина, но сохранить в прежнем виде ему его «беса» он не мог. Художественное чутье подсказало ему необходимость переработать это место. Образ Ставрогина «Исповеди», с которым было связано это место, не укладывался в канонический текст романа.
Не подлежит сомнению, что еще с большей решительностью Достоевский принялся за переработку образа Ставрогина в последней части романа. В каком-то соответствии с внутреннею своею жизнью, Достоевский необычайно суров по отношению к своему герою, о котором еще недавно говорил, что взял его «из сердца своего». Эту суровость мироощущения, отразившуюся в романе «Бесы», уже отметил в печати А. С. Долинин: «Здесь мы должны подчеркнуть общий фон романа как исключительно суровый даже для трагических концепций Достоевского», говорит Долинин. «Мы не знаем тому причин, почему именно в эту пору мир воспринимался Достоевским в таком безнадежно-трагическом аспекте. Гибнет Шатов в тот самый момент, когда обрел, наконец, столь чаемую веру в тайне рождения нового существа, не от него зачатого, и в радости великой всезахватывающей любви к этому существу и к обидчице-матери его. Гибнет Хромоножка, единственное лицо у Достоевского, которому дано без всяких усилий, без нужения, постичь тайну новой ипостаси: „Богородица, что есть, как мнишь? — мать сыра-земля…“ Гибнет и Лиза, задетая лишь косвенно самым отдаленным краем Ставрогинского зла. Гибнет — именно в конце своего жизненного пути, уже очищенный, просветленный, познавши тайну апокалиптического пророчества: „И Ангелу Лаодикийской церкви.“ — Степан Верховенский. Гибнет, наконец, и Кириллов, так близко подошедший ко Христу: отделенный тончайшей гранью, лик человекобога уже начинает сливаться с ликом Богочеловека. И над всем и всеми торжествует одна Ставрогинская обезьяна, „ложный ум“ и „бездарность“, всего лишь „мелкий бес“ с „насморком и флюсом“ — Петр Верховенский»[89].
Эта суровость лежит именно на третьей части романа, выросшей на почве нового переосмысливания его героя. «Законченный роман», последнее преступление Ставрогина, жалкая попытка найти забвение в подвернувшейся любви Лизы, снимает остатки очарования с его лица. Предсмертное письмо к Даше только дорисовывает облик Ставрогина. Ни одной смягчающей черты, ни одного намека на трагичность гибели героя не нашлось у Достоевского для последних страниц романа. «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей…» И неужели в плоскости бытийственности реального греха преступления над отроковицей лежит объяснение этой мрачной смерти? Для Достоевского такое объяснение было бы слишком примитивно-психологично. Это преступление в плане «Исповеди» должно было играть другую роль, и оно ничуть не углубляет понимания Ставрогина, каким мы его знаем по роману. Но Ставрогин «Исповеди» оставался дорог Достоевскому, и он не мог отказаться от попытки его дальнейшего художественного воплощения. К нему он еще раз вернется в «Подростке», наделяя Версилова его чертами. Не случайно, именно Версилову он влагает в уста замечательный сон о «золотом веке», приснившийся ему под влиянием картины Клода Лоррена «Ацис и Галатея», тот сон, который привиделся и Ставрогину «Исповеди». Ставрогинские черты отразятся позже в Иване Карамазове, которого «борют мысли», некогда волновавшие и Ставрогина. К Ивану Карамазову перейдет и «бес» Ставрогина — «лакей и приживальщик», не потерявший, однако, своей значительности. Наконец, сама «исповедь», как мотив встречи с праведником и покаяния перед ним в содеянном преступлении, сюжетно будет повторена в связи с житием старца Зосимы («Таинственный посетитель»). Здесь покаяние в преступлении ведет к душевному просветлению и воскресению, вскрывая таким образом неосуществленный мотив «Исповеди Ставрогина». И образ самого Архиерея-Тихона, так волновавший художественное воображение Достоевского, найдет, наконец, свое конечное воплощение в старце Зосиме.
«Исповедь Ставрогина», выпав из общей концепции романа «Бесы», осталась художественно действенной и реализовалась в позднейшем творчестве Достоевского. Но в истории эволюции образа Ставрогина она играет лишь вспомогательную роль, являясь следом одного из этапов в развитии этого образа. Этап этот отразил колебания самого Достоевского в понимании «преступного» героя. Ставрогин «Исповеди» стоит ближе к Версилову, чем к гражданину кантона Ури, висевшему за дверцей.
1931—1939 гг.
- [1] В первоначальном виде напечатано в «Трудах 1 Съезда Русск. Академ. Организаций за границей». София, 1931. С. 177—213. Кроме того вышло на чешском и немецкомязыках: «Evoluce obrazu Stavroginova», в юбил. сборн. «Dostojevskij», Praha, 1931. С. 147—181 и «Die Entwicklung der Gestalt Stavrogins» в сборнике под редакцией Д. И. Чижевского «Dostojevskij-Studien». Reichenberg, Stiepel, 1931. С. 67—97. См. обстоятельныйотзыв о настоящей работе Leone Savoj в «La nuova Italia», 1932, 5. С. 196—198. Для настоящего издания в статью внесены существенные исправления и дополнения.
- [2] Письмо от 26 февр. (10 марта) 1869 г. Письма, II, 170.
- [3] Письма, II, 60. Подчеркнуто самим Достоевским, мною в примечаниях не оговорено.
- [4] Письма, II, 71.
- [5] Они опубликованы П. Н. Сакулиным. См. Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы. Редакция П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. М. 1931.
- [6] Рукописи к «Идиоту», стр. в порядке цитирования: 12, 14 (два раза).
- [7] Там же, 16—17.
- [8] См. письма от 9 окт. 1867 г. к А. Н. Майкову (Письма, И, 47) и от 31 дек. 1867 г. ему же (Письма, II, 59).
- [9] «Первое упоминание об „Атеизме“ имеется в письме к Майкову от 11 дек. 1868 г., когда „Идиот“ уже закончен», говорит А. С. Долинин в предисловии к изданию писем (см. Письма, I, 19). Это неверно: о работе над «Идиотом» имеются еще упоминанияв письмах после 11 декабря (см. Письма, II, 156). Только 25 января 1869 г. Достоевский писал о романе: «теперь он окончен, наконец» (см. И, 159). Мы принимаем за датуокончания романа 17 января 1869 г., проставленную в конце печатного текста романав журнале «Русский Вестник» (см. Поли. собр. худ. произв. VII, 557).
- [10] Письма, II, 150.
- [11] Письмо от 11/23 декабря 1868 г. Письма, II, 154. Речь здесь идет о связи со словами И. Киреевского о чудотворной иконе, а не А. С. Хомякова, как ошибочно говоритДостоевский, что видно прямо из одной позднейшей записи к роману «Бесы», опубликованной Л. П. Гроссманом: Шатов объясняет разницу: «Славянофилы — барская затея, икона (Киреевский), никогда они не могут верить непосредственно». Сборн. «Творчество Достоевского». Одесса, 1921. С. 16. Сравним «Записные тетради Достоевского». М.;Л. 1935. С. 108 и примечания А. С. Долинина к Письмам, И, 139—441.
- [12] Письмо Н. Н. Страхову от 18/20 марта 1869 г. Письма, II, 181.
- [13] «Идиот». VI, 481.
- [14] Выражение «попадается на крючок иезуита» из речи кн. Мышкина (см. указ, текст, с. 480) переходит затем в сюжет «Атеизма» (см. письмо Майкову, II, 150).
- [15] Письма, II, 161. В предисловии к плану «Жития Великого Грешника» Н. Бродскогов этом месте допущено досадное искажение: «в роде St. Francois Fanier». См. Документыпо истории литературы и общественности. В. 1. Ф. М. Достоевский. М. 1922. С. 49.
- [16] «Идиот». VI, 480—481.
- [17] Там же.
- [18] Письмо от 23 апреля / 5 мая 1871 г. Письма, II, 358.
- [19] Письма, И, 195.
- [20] Письмо С. А. Ивановой 29 авг. / 10 сент. 1869 г. Письма, II, 207.
- [21] Предисловие к изд. «Писем», I, 20. Расхождение в понимании Долининым взаимоотношения «Жития» и «Бесов» с точкой зрения В. Комаровича сформулированопоследним в статье «Neue Ptobleme der Dostojevskij Forschung» (Z-tschr. fur slav. Phil.).C. 414—417. X, 3—4, 1933.
- [22] Об идейном замысле «Вечного Мужа» см. мою работу «Развертывание сна» («Вечный Муж» Достоевского) в книге: «Достоевский. Психоаналитические этюды». Прага, 1938. С. 54—76.
- [23] Письма, II, 261.
- [24] Предисловие к Письмам, I, 21.
- [25] Документы по истории лит. и обществ. В. 1. Ф. М. Достоевский. М., 1922, С. 71—72.Далее цитирую это издание всюду так: «Докум…» Ср. «Записные тетради Достоевского». М.; Л., 1935. С. 103. Записи к «Житию Вел. Грешн.» в этом издании воспроизведенына с. 96—107.
- [26] «Докум.» 77. Ср. Зап. тетр., с. 107.
- [27] Рук. к «Идиоту», с. 20, 16, 12 (три раза) в порядке цитирования.
- [28] «Письма» (в порядке цитирования), II, 263 и 298.
- [29] Письмо от 25 марта / 6 апреля 1870 г. Письма, II, 263.
- [30] Письма, II, 263.
- [31] «Докум.» 76. Зап. тетр. 107, подчеркнуто Достоевским.
- [32] «Докум.» 76 и 77.
- [33] Письмо к Майкову от 25 марта / 6 апреля 1870 г. Письма, И, 264. Перечисляя положительных героев русской литературы: Костанжогло (2-я часть «Мертвых Душ» Гоголя),"немца" в ром. «Обломов» — Штольца, Лопухова и Рахметова из ром. «Что делать» Чернышевского, Достоевский очевидно допустил описку, назвав Лаврецкого (из «Дворянского гнезда» Тургенева) Лавровским. См. примечание к письму у Долинина. II, 476.
- [34] «Докум.» 75. Зап. тетр. 161.
- [35] «Докум.», с. 77. Зап. тетр. 107.
- [36] В. Комарович. Неизданная глава романа «Бесы» — «Былое», 1922, № 18. С. 221.
- [37] Первое упоминание нового замысла можно видеть в фразе письма Достоевскогок Майкову от 17/29 сент. 1869 г.: «Замыслил вещь в Русский Вестник, которая оченьволнует меня» (Письма, II, 213). Записная тетрадь № 1/10 под 2/14 ноября 1869 г.: «Подпольная идея для Русского Вестника» (Зап. тетр., 39) хотя и напрашивается на связьс сюжетом романа «Бесы», но соприкасается также с «Житием Великого Грешника» (см. Зап. тетр. Прим, к тексту, с. 398).
- [38] Зап. тетр., 94 (11 марта 1870).
- [39] Там же, 142.
- [40] Там же, 90 (запись 7 марта 1870).
- [41] Зап. тетр., 90 (запись 7 марта 1870).
- [42] Там же, 160.
- [43] Зап. тетр., 94.
- [44] Там же, 158.
- [45] См. А. С. Долинин «Исповедь Ставрогина» — Альманах «Литературная мысль». Петр. 1922, 1. С. 153 и Д. Чижевский «К проблеме двойника» в сборн. п. р. А. Бема —"О Достоевском" 1. Прага, 1928. С. 23.
- [46] Зап. тетр., 143.
- [47] Там же, 143—144.
- [48] Зап. тетр., 143.
- [49] Там же, 159.
- [50] Там же, 170.
- [51] Здесь я расхожусь с Н. Л. Бродским, который считает, что Ставрогин был «проще, понятнее в первоначальных записях». См. «Творческая история романа"Бесы»". (Неизданные материалы). «Свиток». М., 1922. С. 85.
- [52] Зап. тетр., 162.
- [53] Там же, 163.
- [54] Зап. тетр., 163.
- [55] Письма, II, 257.
- [56] Это различие трех стадий в эволюции образа Ставрогина имеет существенноезначение. Оно объясняет тот странный факт, что Достоевский в известном письме своемк Страхову от 9/21 октября 1870 г. говорит о выступлении на первый план нового лица"с претензией на настоящего героя романа" (Письма, И, 294). Это утверждение, приобычном различении двух стадий в эволюции образа Ставрогина, находится в противоречии с многочисленными записями-характеристиками Князя, свидетельствующимио значительности его роли в романе уже в самой начальной стадии работы над ним. Только предположением, что «роман-памфлет» является второй упрощенной стадиейв развитии замысла «Бесов», можно устранить это противоречие. На с. 62 черновойтетради № 3 имеются две записи, отводящие Ставрогину центральное место в романе:"Выходит так, что главный герой романа князь", говорится в одном месте; «и так О
- [57] Эвесь пафос романа в князе, он герой. Все остальное движется около него, как калейдоскоп. Он заменяет и Голубова…», сказано о князе несколько ниже. Любопытно, что эти записи находятся на отдельном листе, вклеенном в тетрадь № 3, и снабженыдатой 10 апр. / 29 марта 1870 г., в то время как записи тетради № 3 сплошь более позднего времени (23 мая 1870—13 мая 1871 г.). Наш анализ таким образом является косвенным подтверждением предположения, что листок с этими записями м. б. вырваниз тетр. № 2 и по ошибке вклеен в тетрадь № 3. Ср. Зап. тетр., 243—244 и комментарийна стр. 426. Это соответствует записи в тетр. № 2 на стр. 36: «Все заключается в характере Ставрогина. Ставрогин все» (Зап. тетр., 61).
- [58] По вопросу о месте «Исповеди Ставрогина» в общей композиции романа установились две прямо противоположные точки зрения. По одной — «Исповедь» была исключена Достоевским добровольно в связи с тем, что в процессе работы образ Ставрогинаизменился и «Исповедь», предполагавшая возможность подлинного покаяния Ставрогина и его религиозного просветления, оказалась в противоречии с образом Ставрогина, не способным на акт живой веры. По другой — «Исповедь» является органическойчастью романа, его кульминационным пунктом, и ее выпадение зависело от причинчисто случайного характера (отказ М. Н. Каткова напечатать эти главы в своем журнале).Первая точка зрения высказана наиболее полно В. Комаровичем в статьях: Неизданнаяглава романа «Бесы» (журн. «Былое», 1922, № 18. С. 219—226), «Die inneren Motive fur dieWeglassung der Beichte» von W. Komarowitsch («Der unbekannte Dostojevskij», S. 373—385).Этой же точки зрения придерживается Н. Л. Бродский в статье: «Unbekannte Fragmenteund ausgelassene Kapitel aus den, Damonen»" (Ibid. 127—245). См. также Александр Шрейдер «Николай Ставрогин» (в книге «Тетрадь о Достоевском». Пар., 1929. С. 19—21).На другой точке зрения стоит А. С. Долинин, несколько раз возвращавшийся к этойтеме. См. «Исповедь Ставрогина» (в связи с композицией «Бесов») в «Литерат. Мысли». Петр., 1922. С. 139—162, «Страницы из, Бесов»" (в канонический текст не включенные) в сборн. Долинина «Достоевский», Лен., 1924, кн. II, с. 544—556 и по-немецки:"Die fremden Einfllisse bei der Weglassung von «Stavrogins Beichte»" («Der unbek. Dost.», S. 298—354), «2 Ausgelas. Seit. aus d. Damonen», 354—374). Близок к последней точкезрения и проф. С. И. Гессен (см. Sergius Hessen: «Stavrogin als philosophische Gestalt. DieIdee des Bosen in den, Damonen» Dostojevskijs" — в сб. «Dost. Studien», Reichenberg, 1931.C. 63—68). В чешской печати тема эта приобрела особую актуальность, в связи с тем, что «Исповедь» была включена в драматическую переработку романа «Бесы» Ф. Гетца (F. Goetz) и таким образом была поставлена на сцене. Против такого включения с точкизрения идейного понимания выступил проф. Эмиль Свобода (Сезкё Slovo, 1930, 28.1):Dvё poznamky па tema «Besu».
- [59] Записи конца или начала марта 1870 г. — «Архиерея для увещания (красавица)"(Зап. тетр. 129), „Кощунство красавицы, мать зовет Архиерея“ (стр. 157), „На помолвкеГр-й соединяет руки князя и невесты. До помолвки кощунство, Архиерей“ (стр. 168)—отводят композиционно Архиерею иную роль и к „Исповеди Ставрогина“ отношенияне имеют.
- [60] См. письмо к В. В. Кашпиреву от половины августа 1870 г. Письма, II, 280.
- [61] Зап. тетр., 160, 162, 94 (в порядке цитирования).
- [62] Зап. тетр., 90.
- [63] Сб. „Творчество Достоевского“ п. р. Гроссмана. Одесса, 1921. С. 13—20.
- [64] Зап. тетр., 294.
- [65] То же, 214—215.
- [66] То же, 217.
- [67] То же, с. 286.
- [68] Зап. тетр., с. 203 и 228 (в порядке цитирования).
- [69] Письма, II, 279.
- [70] Письмо к С. А. Ивановой от 17/29 августа 1870 г. Письма, II, 283.
- [71] См. Письма, II, 287.
- [72] Письма, II, 288—289.
- [73] Письма, II, 315.
- [74] „Исповедь Ставрогина“ известна в двух редакциях. „Петербургская“ редакцияпредставляет собою копию с неизвестного оригинала, сделанную А. Г. Достоевской, и хранится в настоящее время в Институте литературы (б. „Пушкинском Доме“) Академии Наук. Она опубликована впервые В. Комаровичем в журн. „Былое“ 1922 г.,№ 18. С. 227—252. Вторая „московская редакция“ представляет собою корректурныегранки для журн. „Русский Вестник“, где роман печатался. Частично этот текст опубликован А. Г. Достоевской в юбилейном издании 1906 г. Полностью опубликованон под редакцией В. Фриче в изд. „Документы по истории литературы и общественности“. Вып. 1. Ф. М. Достоевский. М. изд. Центрархива. 1922. С. 3—40. В наст, времяхранится в Главархиве. В. Л. Комарович, внимательно изучавший соотношение обеихредакций, пришел к выводу, что „первоначальным текстом главы является текст гранок (т. е. московский) в том виде, в каком они были набраны до корректурных правок“ (см. Поли. собр. соч. Госизд. VII, 592). Эту же первоначальную редакцию отражает и копияАнны Григорьевны (т. е. петербургский текст), но лишь частично, в пределах первогоподотдела главы и второй половины самой „исповеди“; в остальном же дает позднейшую редакцию, в которую введены корректурные правки гранок и развиты намеченныена полях эпизоды». Такая неоднородность копии объясняется тем, что «в момент копирования А. Г. Достоевская почему-нибудь не имела под руками всего рукописного материала». «Литературное наследство Достоевского за годы революции» в сборн. «Литературное наследство», XV, 1934 г. С. 259. Вопросу о разночтениях двух редакций посвящентщательный анализ А. С. Долинина в статье «Исповедь Ставрогина» в журнале «Литературная Мысль», кн. 1. II, 1922 г.
- [75] Зап. тетр., 202.
- [76] Там же.
- [77] А. С. Долинин приводит еще более определенную редакцию этого места: «Я всталпочти в негодовании, чувство гадливости как бы побороло звериную страсть» (Лит.Мысль I, стр. 141). Московская редакция соответственно имеет два варианта: 1) «Я чутьне встал и не ушел — так это было мне неприятно в маленьком существе от жалости, которую я вдруг почувствовал». 2) «Я чуть не встал и не ушел — так это было мненеприятно в таком крошечном ребенке — от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался» («Докум.», стр. 20). У Долинина соответственный вариантчитается так: «Я чуть не встал и не ушел…» — многоточие. И дальше: «Когда все ужекончилось…» («Лит. мысль», 1, 141).
- [78] «Былое», № 18. С. 234—235.
- [79] «Докум.» 14, прим. 2-е.
- [80] Новые записные тетради Ф. М. Достоевского — «Докум.», с. VII.
- [81] Письма, III, 21. Ср. Замечания Б. Томашевского к новым текстам романа «Бесы"в изд. «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования», под ред. А. С. Долинина. Лен., 1935. С. 398.
- [82] «Лит. Мысль», 1,143.
- [83] «Докум.», 34.
- [84] Говоря о денежных расчетах с «Русским Вестником», Достоевский здесь прибавляет: «Заметь, что два последние забракованные ими листа в счет не вошли». — Письма, III, 19.
- [85] Письмо С. Д. Яновскому от 4 февраля 1872 г. Письма, III, 23.
- [86] «Лит. Мысль», 1, 162.
- [87] А. С. Долинин. Страницы из «Бесов» (в канонический текст не включенные).Сборн. «Достоевский» под ред. Долинина, т. II. С. 544—545.
- [88] «Докум.», 8.
- [89] «Литературная Мысль», 1, с. 150.