Первые шаги Достоевского (Генезис романа «Бедные люди»)
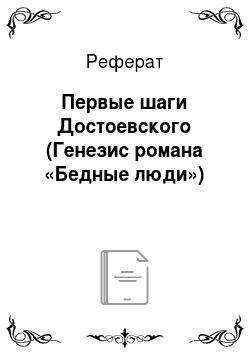
Недостаточно внимательное отношение к первому произведению Достоевского, равно как и вообще ко всему раннему периоду его творчества, обусловило собою столь распространенное, особенно среди критиков с философским подходом, убеждение в резком делении творчества Достоевского на два периода. При этом о первом периоде обычно говорится с некоторым пренебрежением, как о периоде для Достоевского… Читать ещё >
Первые шаги Достоевского (Генезис романа «Бедные люди») (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Начало литературной деятельности писателя представляет для исследователя особый интерес. Начинающему писателю приходится определить свое отношение к литературной традиции, наметить свой путь среди имеющихся литературных вкусов и направлений. Пусть этот выбор чаще всего происходит полусознательно, без отчетливого понимания автором тех руководящих начал, которые лягут позже в основу его литературной деятельности, но все же эти первые, еще робкие шаги являются для него решающими. Очень важно проследить именно первые шаги писателя, наметить колебания, которые проявились у него в поисках своего пути, выяснить, под воздействием каких литературных традиций создавалось первое произведение. При этом необходимо учесть и характер литературного успеха писателя, выделить черты, которые привлекли к нему внимание, и установить, в какой мере эти черты являлись определяющими для самого автора. Очень часто первое произведение писателя, встреченное весьма сочувственно современной критической литературой, оказывается ложно понятым. Создается расхождение между автором и критикой, которого не осознает ни одна, ни другая сторона. Успех произведения заслоняет до поры до времени взаимное непонимание. Только с появлением следующих произведений этот разрыв обнаруживается с большой наглядностью. Критика разочаровывается в своих ожиданиях, обрушивается на молодого писателя или, что еще хуже, начинает его замалчивать. Писатель впадает в глубокое разочарование и часто терпит полное крушение, не будучи сам в состоянии дать себе отчет о причине своего внезапного неуспеха. Только сильные натуры, награжденные подлинным талантом, переживают благополучно этот кризис. Так случилось с Львом Толстым[1][2] в менее яркой форме, так было в острой и болезненной форме с Достоевским.
На какой же почве происходит это расхождение между писателем и современной ему критикой? Обычно критика идет в русле современных литературных вкусов, примыкает к той или иной литературной традиции, осваивает новое под углом зрения уже определившихся критических оценок. Своеобразие нового таланта, даже если и оказывается отмеченным, воспринимается под этим устоявшимся углом зрения. Сам писатель дает основание к тому, чтобы его своеобразие не было во всей полноте угадано по его первому произведению: он еще слишком робок и неуверен в своих первых шагах, еще слишком явно прикрывается чужой, традиционной формой. Обычно только позже, после литературного успеха своего первенца, он резче обнаруживает свое писательское лицо, но так как это неизбежно связано со своеобразной борьбой с установившимися литературными формами, с их разложением, то эти произведения по своим формальным достижениям обычно стоят ниже того привычного уровня, который определяет собою эстетические нормы данного времени, — и критика имеет полную возможность обрушиться на писателя за его «формальное несовершенство». Для писателя наступает трудный период искания новой формы, сквозь которую ему нужно выявить своеобразие своего писательского лица. На этом пути его ждут тяжелые разочарования и испытания. Он проделывает его при полном непонимании критики, ею замалчиваемый или осуждаемый. И только пройдя этот период, пробившись к новой форме и приведя ее в гармоническое соотношение с предшествующей традицией (чаще всего эта связь устанавливается с более старшим литературным поколением через головы своих непосредственных предшественников), писатель находит вновь себя и создает крупное произведение, признаваемое единогласно критикой, как бесспорное достижение. И тогда писатель становится признанным. Насколько, однако, устойчиво бывает это непонимание критикой раннего периода творчества писателя, видно из того, что и целое поколение спустя, когда на смену критике приходит историко-литературная наука, она обычно дает ошибочную оценку всему раннему периоду творчества писателя, считая его малоценным. Нужен длинный период научных изысканий, чтобы снова вернуться к истокам творчества писателя и в них именно обнаружить все своеобразие его писательского таланта. Тогда становится ясным, что только при свете этих ранних произведений можно понять во всей глубине и полноте зрелый период творчества.
Время такого именно изучения творчества Достоевского наступило сравнительно недавно.
Литература
о Достоевском, как в России, так и вне ее, обогатилась целым рядом исследований о раннем творчестве Достоевского, и этими работами установлено с бесспорностью, что уже в своих ранних произведениях Достоевский наметил в основных чертах свой будущий путь. И еще больше — даже вся проблематика Достоевского с большой отчетливостью намечена Достоевским уже в этих ранних произведениях. Однако работа эта еще только начата, требуется еще много настойчивых усилий, чтобы во всей полноте оценить первый период литературной деятельности Достоевского. Особенного бнимания заслуживают при этом, как мы уже говорили, первые шаги писателя на его страдном литературном пути. Эти соображения и заставляют нас остановиться подробнее на истории создания Достоевским его первого романа «Бедные Люди».
Спорным является уже вопрос о самом начале работы Достоевского над «Бедными Людьми». Письма Достоевского и его позднейшие воспоминания относят совершенно определенно начало этой работы к осени 1844 года. Но в литературе о Достоевском существует свидетельство, заставляющее усомниться в правильности этого авторского показания. А. И. Савельев, старший дежурный офицер Инженерного Училища, оставивший воспоминания о времени пребывания Достоевского в Училище, сообщает, что Достоевский писал роман «Бедные Люди» еще в Инженерном Училище, выбирая для этого ночное время, когда ему никто не мог мешать. Следует отметить, что Савельев подкрепляет это свидетельство словами самого Достоевского, относящимися, правда, к значительно более позднему времени. При этом Достоевский начало своей работы над романом отнес, по словам Савельева, к еще более раннему периоду, до своего поступления в Инженерное училище, т. е. до 1833 г.1 Таким образом, сам Достоевский себе противоречит в вопросе, столь существенном для нас.
Достоевский допускает также ошибку, когда утверждает в своих воспоминаниях, что роман «Бедные Люди» был его первым литературным произведением. Мы знаем, что еще в начале 1841 г. он читал отрывки из двух своих драматических опытов (навеянных, надо думать, чтением Шиллера и Пушкина): «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова». Над первым сюжетом Достоевский работал, по свидетельству А. Е. Ризенкампфа, еще и в 1842 г.[3][4] К 1843 и 1844 гг. относится работа над переводом «Матильды» Евг. Сю, а к апрелю 1844 г. над переводом романа «La derniere Albini» Жорж Занд[5]. Роман «Бедные Люди» не был и первым произведением Достоевского, появившимся в печати. Он дебютировал переводом романа «Евгения Гранде» Бальзака, напечатанным в «Репертуаре и Пантеоне» 1844 г. (кн. 6 и 7). Над этим переводом он работал в конце 1843 г. и закончил его на Рождество того года, как видно из письма брату М. М. Достоевскому от пол. января 1844 г.1 К этому же времени относится еще одна не дошедшая до нас драма Достоевского, о которой он пишет брату в том же письме: «Клянусь Олимпом и моим жидом Янкелем (оконченной драмой, и чем еще? Разве усами, кои, надеюсь, когда-нибудь вырастут), что половина того, что возьму за Евгению, будет твоя. .»[6][7] К этой же «оконченной драме», надо думать, относятся самонадеянные мечты о ее постановке на театре, как видно из его письма к брату от 30 сент. 1844 г.: «Ты говоришь: спасение мое — драма. Да ведь постановка требует времени. Плата также. А у меня на носу отставка…», а в другом месте: «…драму поставлю непременно. Я этим жить буду»[8]. Однако, скоро Достоевский убедился, что драматический род творчества ему плохо дается. В приписке к письму от 24 марта 1845 г. он пишет: «Писать драмы — ну, брат. На это нужны годы трудов и спокойствия, по крайней мере, для меня. Писать ныне хорошо. Драма теперь ударилась в мелодраму. Шекспир бледнеет в сумраке и сквозь туман слепандасов-драматургов кажется Богом, как явление духа на Брокене или в Гарце. Впрочем, летом, я может быть буду писать. 2, 3 года, и посмотрим, а теперь подождем! Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли»[9].
Надо думать, решающее значение для осознания своего роста имела работа над «Бедными Людьми». Именно в работе над своим первым романом Достоевский почувствовал, в чем его сила и в какой области ему суждено оказаться литературным новатором. Это была область философского романа, к которой, однако, он пришел не сразу. Первым шагом в этом направлении и был роман «Бедные Люди».
Первое упоминание о работе над этим романом мы встречаем в письме Достоевского к брату Михаилу Михайловичу от 30 сент. 1844 г.: «У меня есть надежда. Я кончаю роман в объеме Eugenie Grandet.
Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Получу может быть руб. 400, вот и все мои надежды. Я бы тебе более распространился о моем романе, да некогда…", и в конце того же письма Достоевский вновь обращается к роману: «Я чрезвычайно доволен романом моим. Не нарадуюсь. С него-то я деньги наверно получу, — а там…»[10] Любопытно, что Достоевский, работая, очевидно, упорно над своим первым романом уже в 1844 году, ничего своему брату, которому сообщает подробно о своих работах над переводами, не сообщает до того момента, когда ему казалось, что роман у него уже окончательно закончен и его остается, переписав, только пристроить в «Отечественные Записки». Подтверждение того, что именно в это время Достоевский усиленно работал над своим романом, мы находим и в воспоминаниях Д. В. Григоровича, который говорит, что ко времени их совместного жительства1: «Достоевский… просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет: на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные…»[11][12] Вероятно, отражением этого периода творчества над «Бедными Людьми» является известное место в «Униженных и Оскорбленных», где Иван Петрович вспоминает свои переживания в связи с работой над своим первым романом. «Если я был счастлив когда-нибудь», — говорится здесь о начинающем писателе, «то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому своей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем своим…»[13]
Автобиографический характер этих строк вне всякого сомнения, и с какою бы осторожностью ни подходить к использованию художественных произведений для целей биографических, все же здесь можно себе позволить предположение, что эти поздние припоминания (роман «Униженные и Оскорбленные» писался в 1860 году) довольно верно отражают переживания Достоевского во время его работы над первым романом.
Автобиографичность этого места подтверждается и позднейшими воспоминаниями Достоевского о «Бедных Людях» в «Дневнике Писателя»: «…писал я их с страстью, почти со слезами, — неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — все это ложь, мираж, неверное чувство? Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась»1.
Можно думать, что работа в этот период творчества шла напряженно, однако без больших внутренних трудностей. Об этом говорит и стиль первого упоминания о романе в письме к брату. Но, как это часто бывает и как позже у Достоевского бывало почти постоянно, за этим творчески напряженным, но недостаточно критическим периодом наступила внезапная заминка. Зимою 1844 г. Достоевский вдруг почувствовал неудовлетворенность своим уже законченным романом и приступил к его переделке. «Кончил я его совершенно», пишет он 24 марта 1845 г., «чуть ли еще не в Ноябре месяце, но в Декабре вздумал весь его переделать: переделал и переписал, но в Феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины Марта я был готов и доволен…», и тут же ниже он дает такую самооценку своему переработанному произведению: «Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть впрочем ужасные недостатки»[14][15].
Следует сейчас же отметить, что эта столь решительная переработка романа находится в какой-то связи с раздумьями молодого Достоевского над задачами писателя, с его оценкой современной ему литературы и вдумчивым отношением к жадно прочитываемым им книгам. Это для нас существенно, ибо поможет нам позже разобраться в тех колебаниях, которыми сопровождалось творчество начинающего Достоевского. Пока только отметим, что эти колебания отражали не просто недовольство в области стилистического выполнения или композиционного построения произведения, но касались самого существа дела: связи с этой или иной литературной традицией. Так можно думать на основании следующих строк того же письма, в котором говорится о решительных переделках в романе. Объявляя брату, что он будет до последней возможности крепиться, чтобы не писать «на заказ», Достоевский прибавляет в пояснение этого своего решения: «Заказ задавит, загубит все. Я хочу, чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали не много, а оба ждут монументов… Зато слава их, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода. Старые школы исчезают. Новые мажут, а не пишут. Весь талант уходит в один широкий размах, в котором видна чудовищная недоделанная идея и сила мышц размаха, а дела крошечку. Beranger сказал про нынешних фельетонистов французских, что это „бутылка Chambertin в ведре воды“. У нас им тоже подражают. Рафаэль писал года, отделывал, отнизывал, и выходило чудо, боги создавались под его рукою. Vernet пишет в месяц картину, для которой заказывают особенных размеров залы, перспектива богатая, наброски, размашисто, а дела нет ни гроша. Декораторы они!» Он признается, что для него чтение играет огромную роль, вплетаясь органически в его творчество. «Ты, может быть, хочешь знать, — спрашивает он брата, — чем я занимаюсь, когда не пишу, — читаю. Страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь, и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать»1.
Итак, вне всякого сомнения, переработка романа «Бедные Люди», предпринятая Достоевским зимою 1844 г., стояла в самой непосредственной связи с продумыванием им своей «поэтики», попыткой найти свое место в ряду современных ему литературных школ. И другое: при этих раздумьях мысль Достоевского устремлялась к Пушкину и Гоголю, которым он противопоставлял современных ему писателей. В своем творчестве он должен был, следовательно, отразить прежде всего свое отношение к этим двум своим гениальным предшественникам.
Но раз ступив на путь продуманной переработки своего произведения, Достоевский уже не мог сразу удовлетвориться сделанными изменениями. Наступает длительный период отделки и обработки романа. В начале мая Достоевский снова пишет брату: «Я до сей поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы я знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переделывать, и ей-Богу к лучшему; он чуть-ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрогиваться…» Характерно, что Достоевский ищет в этих своих постоянных возвращениях к рукописи оправдания в ссылках на крупных писателей, и прежде всего на того же Пушкина и Гоголя. При этом его самого интересует специально вопрос о творческой работе над «первыми произведениями». «Участь первых произведений», — пишет он в том же письме, «всегда такова; их переправляешь до бесконечности. Я не знаю, была ли Atala Chateaubrian’a его первым произведением, но он, помнится, переправлял ее 17 раз. Пушкин делал такие переправки даже с мелкими стихотворениями. Гоголь лощит свои чудные создания по два года…»[16][17] Но эта работа уже не была коренной переделкой, а отделка в деталях, согласование всех частей с уже найденной и принятой художественной формой. Коренная переработка романа падает на зиму 1844 года. Вероятно, именно значительностью этой переделки объясняется то противоречивое место «Дневника Писателя» за 1877 г., в котором Достоевский вспоминает свои первые литературные шаги. «В начале зимы я начал вдруг „Бедных Людей“, мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши»[18]. Но ведь уже в сентябре «роман» в сознании Достоевского был готов, и он приступил к его переписке. Очевидно, эта редакция романа так сильно отличалась от переработанной заново в декабре, что в его сознании самое начало работы переместилось на начало зимы 1844 г. Такая ошибка психологически вполне объяснима. Весьма возможно, что эта более ранняя редакция даже в сознании Достоевского еще и не связывалась с наименованием «Бедные Люди», так как она очень существенно отличалась от зимней редакции, принявшей в основном уже теперь известный нам вид.
Но можно ли и эту более раннюю редакцию считать первой, как это делает К. Истомин в своей работе «Из жизни и творчества Достоевского в молодости» и как вслед за ним принимает это и А. С. Долинин?[19][20]
Очевидно, нет. Иначе пришлось бы предположить, что свидетельство А. Савельева и его ссылки на слова самого Достоевского о работе над романом еще в Инженерном Училище являются сплошной выдумкой. Вернее предположить, что Достоевский уже в 1844 г., когда он приступил к работе над своим романом, имел под рукою более старые записи, свои юношеские опыты, которые он временно забросил. В таком случае мы вправе выставить гипотезу, что при установлении генезиса романа «Бедные Люди» нужно исходить не из двух, а из трех основных редакций романа. Первая редакция, наиболее ранняя, по времени своему относится к периоду работы над романом еще в Инженерном Училище, о чем нам сохранил свидетельство А. Савельев, свидетельство, подтвержденное самим Достоевским. Вторая редакция относится в осени 1844 г., о которой имеется упоминание в письме от 30 сент. 1844 г., и третья редакция, в основном отражающая печатный текст, падает на зиму 1844 г. и весну 1845 г. При отсутствии рукописей романа мы, конечно, не в состоянии установить промежуточных редакций, которых могло быть несколько. Основные три редакции, гипотетически устанавливаемые только на основе анализа текста и косвенных указаний, могут быть определены со стороны их содержания также только в самых общих чертах.
К. К. Истомин уже сделал такую попытку выделения из основного текста дошедшего до нас романа более ранней редакции, которая, по его предположению, включала в себя историю Вареньки, сообщаемую ею в своем дневнике. Он при этом исходит из положения, что роман «Бедные Люди» в окончательной печатной редакции носит на себе следы неорганичности, некоторой искусственности от соединения двух сюжетов: истории Вареньки Доброселовой и платонического романа бедного чиновника. В своей работе К. Истомин говорит: «Присматриваясь к общему составу „Бедных Людей“, мы сразу вскрываем там два главных сюжета, сшитых, так сказать, белыми нитками и даже совершенно разных по стилю. В центре первого сюжета стоит Варенька, ее прошлая жизнь и злоключения в Петербурге, в центре второго сюжета стоит Макар Девушкин, и Варенька здесь играет какую-то приставную, второстепенную роль. Внешнею связью между тем и другим сюжетами служит дневник, который Варенька посылает для прочтения своему благодетелю. Письмо Вареньки (от 1-го июня) с объяснением мотивов посылки дневника слишком ясно изобличает литературную уловку автора, которому во что бы то ни стало нужно вплести один сюжет в другой. Да и на протяжении всего романа сюжет с Варенькой на каждом шагу приносится в жертву сюжету с Девушкиным: так и видно, что первый сюжет когда-то был иначе задуман, что в роман, только после долгих колебаний автора, вкрались те издевательства над бедной девушкой, которые подчас так неприятно действуют на сердобольного читателя…»1
Исходя из этих соображений, К. Истомин и рассматривает «дневник Вареньки» как самостоятельную первую редакцию романа, затем коренным образом переработанную в декабре 1844 г. Содержание этой первой редакции К. Истомин реконструирует приблизительно в следующих чертах: «Центральная фигура романа — Варенька, по вине судеб ставшая круглой сиротой. Счастливая жизнь на лоне природы, богатая помещичья обстановка в детстве и горькая нужда в Петербурге после смерти родителей, корыстолюбие «благодетелей», тяжелые испытания ее целомудрию — вот первоначальный состав романа «Бедные Люди» «[21][22].
Но уже в этой редакции известную роль играл и бедный чиновник. Он, свидетель жизненных испытаний, выпавших на долю несчастной девушки, является ее защитником: «Отец умирает, мать чахоточная и больная, и некому заступиться за бедную девушку. И вот ее, как свою невесту, защищает бедный 45-летний чиновник, Девушкин: он оберегает ее чистое имя и даже вызывает на дуэль ее обидчика…».
Я думаю, что в основном здесь К. Истомин совершенно прав. Действительно, история Вареньки, рассказанная в ее дневнике, является остовом более ранней редакции романа, написанного не в эпистолярной форме, а в форме дневника героини. Только позже появилась переписка между двумя «любовниками», в которую был введен дневник героини. Однако вовсе не надо соглашаться с К. Истоминым, что при этом пострадала эстетическая ценность романа. Достоевский здесь — уже в самом начале своей литературной деятельности — проявил большое мастерство в перегруппировке материала в процессе самого творчества. Позже ему не раз приходилось производить перестройку своих произведений в самый разгар работы, часто тогда, когда значительная часть уже была в печати, и это не мешало ему с честью выходить из такого рода испытаний. На произведении как художественном единстве такие перегруппировки материала обыкновенно мало отзывались1. Поэтому-то попытка В. Комаровича ослабить гипотезу К. Истомина указанием на то, что «традиционная форма эпистолярного романа не только допускает, но почти требует, чтобы быстро чередующиеся письма двух корреспондентов задерживались бы в своей смене отрывками из дневников»[23][24], едва ли может считаться убедительной. Ведь можно исходить из предположения, что Достоевский именно в силу этого счел возможным использовать для своей новой редакции уже имевшийся у него набросок дневника-романа. Если бы здесь возникла непреодолимая художественная коллизия, то тогда наверно ему пришлось бы от такого использования уже имевшегося материала отказаться. Но в пользу гипотезы К. Истомина говорит и то, что сам Достоевский при перепечатывании своего романа исключил из него один отрывок из дневника Вареньки Доброселовой, явно воспринимаемый им как эстетически излишний, как неоправданный остаток первоначального романа-дневника. Любопытно, что он пожертвовал этим отрывком, несмотря на то, что как раз в нем современная критика увидела неоспоримое доказательство умения автора писать «прекрасным языком»[25]. Достоевский должен был дорожить этим отрывком и в силу того, что в нем нашли отражение его личные воспоминания о детстве, о прогулках в роще родной ему Чермашни, к которым он позже вернулся в известном рассказе о встрече с мужиком Мареем в «Дневнике Писателя»[26]. И вот, несмотря на все это, Достоевский исключает из печатного текста целую страницу — явно из соображений чисто художественного порядка. Эти соображения могли быть связаны именно с тем, что ему хотелось в этом месте сгладить оставшийся шов от соединения двух сюжетов.
Так, примыкая в этом вопросе к гипотезе К. Истомина, я склонен пойти еще дальше в восстановлении генезиса романа. Я думаю, что первоначальный остов романа, набросанный еще в дортуарах Инженерного Училища, заключал в себе только сентиментальную повесть об обманутой девушке. Написана была эта повесть под явным воздействием Карамзина, следы влияния которого справедливо отмечает К. Истомин и в окончательной редакции. Примитивный сюжет этой повести в духе «Бедной Лизы», перемежающийся с описаниями природы, — таков мог быть первый опыт Достоевского1. Мне думается, что в нем еще не было ни истории Покровского, ни Макара Девушкина. Оба эти сюжета, как и вставочная история «горемыки Горшкова», являются позднейшим наслоением.
Следы первоначального сюжета могут быть восстановлены в повести Вареньки, как она становится нам известной из ее дневника, и в описаниях природы, сохранившихся в романе. Я думаю, что к этой первой редакции восходит и исключенный отрывок из дневника, о котором я уже говорил, и описание осени в письме Вареньки от 3 сентября («Как я любила осень в деревне…»). Это предположение о наличии в творчестве Достоевского — внешне недостаточно выявившегося — особого сентиментальнокарамзинского периода мне представляется весьма существенным. Оно проливает свет на несомненные следы влияния Карамзина в творчестве Достоевского чуть ли не на всем его литературном пути. Даже больше: мы можем говорить о нескольких приливах сентиментализма, конечно на разной ступени его оформления — в творчестве Достоевского. Такой возврат сентиментальной установки, напр., появляется в «Неточке Незвановой», в «Униженных и Оскорбленных» и в своеобразной форме «умильного» сентиментализма в «Братьях Карамазовых».
В роман «Униженные и Оскорбленные» перешел между прочим в более развернутом виде один из элементов не дошедшей до нас сентиментальной новеллы об обманутой девушке: история разорения отца героини, начавшаяся с момента потери им места управляющего в помещичьем имении. Только слегка намеченная в романе «Бедные Люди», она оказалась в «Униженных и Оскорбленных» до конца сюжетно использованной. Во всяком случае, тема о Карамзине в творчестве Достоевского уже сейчас может считаться вполне оправданной, и она ждет своего исследователя[27]. Само по себе это тяготение Достоевского.
к сентиментализму очень показательно. Опираясь на него, ему удается позже преодолеть традицию натуральной гоголевской школы и найти путь к созданию романа-трагедии, увековечившего его имя в европейской литературе. Но уже на первых порах, в самом начале своей литературной деятельности, сентиментализм карамзинского толка не мог надолго удовлетворить Достоевского. Первое же более близкое соприкосновение с пушкинской и гоголевской стихией в русской литературе должно было оказать на него решающее влияние. Мне думается, что именно с Пушкина началось у Достоевского преодоление его раннего сентиментализма. «Повести Белкина» сыграли в этом сдвиге решающую роль. В сентиментальную новеллу ворвался свежий воздух пушкинского реализма. Так в сюжет об обманутой девушке вплелась повесть о старике Покровском и его сыне-студенте. Прямое указание на «Станционного Смотрителя», произведшего такое сильное впечатление на Макара Девушкина, наконец, то, что именно собрание сочинений Пушкина Варенька приносит в подарок студенту Покровскому, — все это является дополнительными показаниями в пользу влияния Пушкина уже на начальную редакцию романа. Нетрудно установить и следы этого непосредственного влияния, сохранившиеся и в окончательной редакции. В старике Покровском, как ни осложнен его образ иными чертами, можно выделить родственные элементы с Симеоном Выриным, героем «Станционного Смотрителя». Наконец, вся история Горшкова, вошедшая в письма Макара Девушкина, представляет собою реалистическую повесть, еще мало впитавшую в себя особенности «натуральной школы».
В своем дальнейшем анализе генезиса «Бедных Людей» я снова сближаюсь с изысканиями К. Истомина. Он совершенно справедливо привлекает для своих целей к рассмотрению фельетон Достоевского 1861 г. «Петербургские сновидения в стихах и прозе»1. Фельетон этот, имеющий исключительное значение для истории творчества Достоевского в его начальный период, содержит для нас очень ценное указание на сюжет «Бедных Людей» в числе других, волновавших юношеское воображение Достоевского. Он помогает нам понять смысл того кризиса в его творчестве, который привел к коренной переработке первого романа. Но в самом истолковании этого кризиса я снова расхожусь с К. Истоминым. Как мы уже видели, К. Истомин не предусматривает вовсе ранней редакции «Бедных Людей», а сразу реконструирует свою «первую редакцию» в виде повести-дневника Вареньки. Со стороны литературных воздействий, он видит в ней стихии трех писателей: Пушкина, Гоголя и Бальзака, преображенные в «сострадательном» сердце автора. Вот его подлинные слова: «Итак, вспыхнувшее в процессе творчества „сострадательное сердце“ автора, пушкинский идеализм („Станционный Смотритель“), гоголевский реализм („Шинель“) и Бальзак — вот главные стихии, в которых нащупывается первый очерк „Бедных Людей“. И с первых же шагов творчества оказалось, что идеалы „сострадательного сердца“ кровно срослись с Карамзиным и Пушкиным, а гоголевское неразрывно срослось с Бальзаком…»1
И только под воздействием «видения на Неве», о котором повествует фельетон 1861 г., в художественном восприятии Достоевского произошел резкий перелом. Это видение уходящего ввысь вместе с мглистым туманом города, поразившее воображение писателя в один из зимних январских вечеров в Петербурге, сам Достоевский считает «началом своего существования». Так как в духовном развитии Достоевского это «видение на Неве» играет несомнению исключительную роль, о чем свидетельствует уже то обстоятельство, что оно дважды отразилось в его художественном творчестве: «Слабом Сердце» и «Подростке»[28][29], я приведу его здесь полностью: «Помню, раз в зимний январский вечер я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр мглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов… Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столбы дыма, сплетаясь и расплетаясь по дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как-будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор шевелившееся во мне, но еще неосмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той минуты началось мое существование…»1
Совершенно несомненно, что этот отрывок говорит о каком-то глубоком духовном сдвиге, о внезапном прозрении, почти таинственном внутреннем преображении. Сущность этого душевного переворота можно до известной меры восстановить, если его сопоставить с соответственным «видением» в ранней повести Достоевского «Слабое Сердце». Мы знаем, что там это прозрение сопровождается для Аркадия Ивановича, друга несчастного героя повести Васи Шумкова, глубоким духовным переворотом: «Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как-будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе незнакомого ему ощущения. Он какбудто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как-будто прозрел во что-то новое в эту минуту… Он сделался скучен и потерял всю свою веселость…»[30][31]
Как я уже в другом месте писал, перед нами в развитии творческих идей Достоевского намечается важный пункт. Здесь в момент «видения на Неве» родился новый герой Достоевского, который в размышлении о судьбе «слабых сердцем», «униженных и оскорбленных» — затоскует по силе, попытается утвердить свое место в жизни даже через преступление[32]. Другими словами, вместо простого наблюдателя чужого горя или в лучшем случае «сочувствователя», нарождается образ «протестующего героя», отказывающегося признать и принять неправедность и несправедливость мира. Отсюда прямой путь к бунту, к возвращению билета в царство небесное. Если так толковать смысл кризиса, творчески отображенного в «видении на Неве», то в области литературной его надо будет связать с переоценкой Достоевским Гоголя и всей натуральной школы, им возглавляемой. И тогда станет вполне понятным одно сложное и загадочное место в «Петербургских сновидениях», привлекающее внимание исследователей Достоевского. Рассказав историю мечтательной любви своей к Амалии-Наде, вышедшей «вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока, с шишкой на носу… получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку… и непроходимую бедность», автор фельетона переходит к описанию уже знакомого нам кризиса своего, но истолкованного уже в литературных понятиях. Но трудно смысл этих его толкований в дальнейшем вскрыть с полной отчетливостью. Вот соответствующий отрывок: «Только что я сам обзавелся квартирой и смиренным местечком, самым, самым смиренным из всех местечек на свете, мне стали сниться какие-то другие сны… Прежде, в углах, в Амальины времена, жил я чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носившим шинель с воротником из кошки, которую можно было всегда принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице. И вдруг, оставшись один, я об этом задумался. И стал разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не ДонКарлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время какбудто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал!»[33]
Кого имеет здесь в виду Достоевский, когда говорит о единственном артисте кукольного театра, по воле которого двигались фантастические куклы, так поразившие воображение писателя? К. Истомин выдвигает положение, что Достоевский имел здесь в виду Гофмана, а именно его литературному влиянию он приписывает коренной перелом в раннем творчестве Достоевского, связанный с «видением на Неве». «Представьте себе прежде всего карамзино-пушкинскую идеологию («какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству11), представьте гоголевский беспощадный реализм («странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не ДонКарлосы и Позы, а вполне титулярные советники»), представьте себе в бальзаковском жанре тот безумный «дух приключений», ту тиранию капитала и жажду наживы, которые стирают с лица земли и законы, и право, и личность и мощно расшатывают фундамент «семейственности» — вот та литературная накипь, которая вдруг всплыла на поверхность из глубины кипящего вдохновения. Представьте себе и всколыхнувшееся «сострадательное сердце» автора, который кровавыми слезами заливается при виде хмурого и скорбного Девушкина и радостно приветствует его безумный смех и кошмарное веселье. И вот, среди этого мирового оркестра, в котором жизнь поет всеми голосами радости и смеха, ужаса и проклятий, от детского щемящего хора до хриплого старческого стона, среди этого мирового оркестра появляется на эстраде сам Гофман с божественной иронией на устах… И вся эта зала вдруг превратилась в обширный кукольный театр, а в центре его стоит сам маг и чародей — Гофман, который невидимыми сетями волшебства опутал людей-марионеток. И достаточно ему нажать пружину, дернуть за ниточку, чтобы послушно-радостный рой кукол закружился в бешеной пляске минутного веселья. Да, Гофман неожиданно посетил Достоевского в трудные минуты творчества и вывел его из мрачных трущоб реального мира на широкий путь фантастики»1.
Однако непосредственных данных для утверждения влияния Гофмана на первый роман Достоевского «Бедные Люди» у нас не имеется. Опирать же этот вывод только на якобы «явные реминисценции из Гофмана», которые В. Комарович, напр., усматривает в словах фельетона 1861 г.: «кто-то гримасничал передо мною» и т. д.[34][35], было бы явно недостаточно. И В. Комарович совершенно прав, когда не видит уже никаких оснований для дальнейших заключений Истомина о связи первого романа Достоевского с влиянием не только немецкого романтизма, но и немецкой философии в лице Гегеля. Этот вывод Истомина мы только приведем, не вдаваясь в его дальнейшее рассмотрение: «Гофман сплетается теперь с Гегелем, с Белинским (статья о «Горе от Ума»). Так Достоевский под влиянием немецкой философии (Гегель) и немецкого искусства (Гофман) стал переделывать первую редакцию «Бедных Людей*1 на вторую и воплотил в реальной жизни «разумную действительность** Девушкина (термин Белинского)»[36].
Кризис Достоевского, в его чисто формально-литературном понимании, никак не может быть связан с влиянием на него Гофмана. Как раз роман «Бедные Люди» показывает, что элемент фантастики, в гофмановском духе, еще в это время был Достоевскому чужд. Коренная переработка романа была вызвана новым пониманием Достоевским творчества Гоголя, вдруг представшего ему в совершенно новом свете. Воспринимая Гоголя ранее в духе реалистически-гуманитарном, Достоевский при самостоятельном к нему подходе, в связи с обостренными творческими переживаниями во время работы над своим первым романом, увидел в Гоголе иные черты. Резче всего это сказалось на художественном переосмыслении гоголевской «Шинели». Образ Акакия Акакиевича под влиянием этого нового восприятия Гоголя зажил совершенно иною жизнью. Раньше, в период своего сентиментально-шиллеровского восприятия окружающего, он просто не замечал трагической фигуры «титулярного советника». Он был весь во власти мечтательного романа с Амалией-Надей. Только теперь, когда за спиною этих гоголевских героев он увидел гримасу самого Гоголя, который «спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал», теперь он очнулся от своего мечтательства. И вовсе не ушел в мир фантастики, как должно было бы случиться, если бы речь шла о Гофмане, а наоборот — вернулся к реальности. Именно в таком сочетании сам Достоевский говорит о зарождении замысла «Бедных Людей». Расслышав гоголевский «хохот» за сценой фантастического театра о его героямимарионетками, он говорит о себе: «И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история»1.
Достоевскому захотелось под влиянием нового понимания творчества Гоголя, в котором он почувствовал обиду за человека и хулу на него, дать свое понимание трагедии «маленького человека». Таким путем история Вареньки Доброселовой, этой бедной «девочки, оскорбленной и грустной», задуманная в духе сентиментальной исповедидневника, в которую проник реалистический сюжет о Покровском, была неожиданно осложнена художественной полемикой с Гоголем. О сущности этой полемики я уже писал в своей работе «Шинель» и «Бедные Люди»[37][38] и возвращаться к этой теме здесь не имею возможности. Для меня только важно подчеркнуть, что коренная переработка «Бедных Людей» была вызвана влиянием Гоголя, но это влияние было не влиянием притяжения, а влиянием отталкивания.
Между двумя крайними редакциями, начальной, заключавшей в себе исповедь-дневник Вареньки, и последней, легшей в основание печатного текста, должна была быть еще промежуточная, над которой Достоевский работал осенью 1844 г. Она возникла на почве решения посвятить себя литературной деятельности и отражала первые, еще робкие шаги Достоевского на его литературном поприще. Он извлек свои ранние наброски романа-дневника и приступил к его новой обработке. Именно к этому времени, надо думать, под влиянием Гоголя входит впервые действующим лицом в повесть чиновник, но может быть, в совершенно иной роли, роли жениха Вареньки. О такой возможности говорит единственный из сюжетов фельетона 1861 г., отражения которого не нашлось в позднейшем творчестве Достоевского, — сюжет об Амалии-Наде[39]. В этой второй редакции, принявшей уже литературно более зрелый характер, вошла в большой степени струя пушкинского реализма. С известной долей вероятности можно предположить, что история Горшкова именно теперь оказалась связанной с сюжетом о чиновнике-женихе. Его образ отражал в себе, вероятно, раннее восприятие Достоевского от гоголевских героев, проникнутое жалостью и гуманизмом. Таким образом, между пушкинским Симеоном Выриным и гоголевским Акакием Акакиевичем еще не чувствовалось противоречия. И Покровский и Горшков были в сознании Достоевского героями одного литературного плана — гуманитарно-жалостливого. Этот роман о «Бедных Людях» был осенью 1844 г. совершенно закончен и готов к печати. Но в нем еще не было тех элементов, которые сказались в знакомой нам редакции, — элементов художественной полемики с натуральной школой Гоголя и протеста против несправедливости судьбы. Оба эти элемента вошли в роман только на почве первых сознательных раздумий Достоевского над явлениями литературы и стремления найти в ней свое место. Процесс этого перерождения протекал болезненно и в области личной, и в области литературной. Лично он отразился в том «озарении», которое связано с видением на Неве, литературно — на резком сломе первого романа.
В чем же сказался этот слом в романе «Бедные Люди», который произошел зимою 1844—45 гг. Прежде всего в придании роману новой литературной формы. Достоевский вынужден был в поисках внешней формы, которая дала бы ему возможность сочетать в одно художественное целое трогательную повесть о бедной девочке, оскорбленной и грустной, с образом друга-защитника, в душе которого преломляется болью и прорывами протеста ее несчастная судьба, — прибегнуть к форме романа-переписки. Именно эта форма давала ему возможность сохранить не только остатки своего первого произведения, но и органически соединить два столь разнородных стиля, как трогательно-сентиментальный стиль Карамзина и реалистический стиль пушкинских повестей. Но изменение литературной формы вызвало коренную переработку всего материала, о чем и говорится в письме от 24 марта 1845 г. Этой переработки потребовало и изменение самого сюжета, в той части, где роль друга Вареньки переходит к «маленькому герою», Макару Девушкину. Именно его образ теперь проходит сквозь литературную призму полемики с Гоголем. Макар Девушкин не просто несет известную сюжетную роль, но становится носителем идейно-полемической функции. Таким путем в первый роман Достоевского входит литературно-философская струя, которая отныне станет его непременным свойством. В стремлении противопоставить свой особый реализм, который условно можно бы назвать реализмом внутренним, натурализму гоголевской школы Достоевский делает первый шаг к созданию философского романа. Став на этот путь, он выявляет уже в первом своем произведении те стороны, которые станут характерными для его последующих произведений.
Но здесь и вступает в силу то взаимное непонимание между писателем и критикой, о котором я говорил выше. Современная критика увидела в «Бедных Людях» почти исключительно то, что было характерно для ранних редакций первого романа. Она восприняла его под углом зрения «гуманистических» идей своего времени. Эта сторона совершенно заслонила перед критикой и перед читателем заложенные в нем элементы другого характера. Я имею в виду те зачатки «бунта», которые прорываются в письмах Макара Алексеевича. Правда, бунт этот еще очень робок, и сам Макар Алексеевич в душе своей пугается своего неожиданного «вольнодумства». Но все же смысл этого бунта совершенно ясен. Он никак не укладывается в привычную формулу «гуманности» и протеста против социальной несправедливости, как его понимали критики 40-х годов. Для Достоевского вопрос стоит не столько в области социального неравенства, сколько в несправедливости судьбы. Слепая судьба, удача, счастье — вот что стоит перед Достоевским, как проблема, пока еще в несколько наивной формулировке Девушкина: «Отчего это так всё случается, что вот хороший-то человек в запустеньи находится, а к другому кому счастие само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще в чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой сякой, только облизывайся; ты, дескать на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет»1. В другом месте Девушкин ступает еще шаг дальше в своем «вольнодумстве». Он позволяет себе усомниться в самом Промысле Божием, но делает это еще в виде полу-утверждения, полу-отрицания. Узнав о согласии Вареньки выйти за Быкова, он восклицает: «Конечно, во всем воля Божия; это так, это непременно должно быть так; то есть тут воля-то Божия непременно должна быть; и Промысл Творца Небесного, конечно, и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое»[40][41].
Знаменательно, что уже в первом произведении Достоевского, как позже в бунте Ивана Карамазова, несчастье детей, встреча с нищиммальчиком, вызывает в Девушкине размышления о несправедливости жизни-судьбы[42]. Кровью обливается сердце Девушкина при виде детского горя. Люди не замечают детских слез, не слышат детских просьб о помощи. «Сердца у них каменные, слова их жестокие: „Прочь! убирайся! шалишь!“ — вот что слышит он от всех, и ожесточается сердце ребенка, и дрожит напрасно на холоде бедненькой, запуганный мальчик, словно птенчик, из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут у него руки и ноги; дух занимается. Посмотришь, вот он уж и кашляет; тут не далеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, заползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над ним, где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи — вот и вся его жизнь! Вот какова она, жизнь-то бывает»[43].
Сам Девушкин сравнивает себя с этим загнанным, запуганным ребенком. Но он доходит в своих размышлениях над несправедливостью счастья-судьбы до той грани, когда смирение готово перейти в открытый бунт. Он начинает понимать, что в своем самоуничижении он дошел до крайнего принижения своей личности. И его неожиданные прорывы в жизнь — буйство и пьянство — являются только судорожными попытками спасти свое человеческое достоинство. Но его раздумья о своей судьбе скоро переходят в мысли о всех страждущих. При виде картины «дымящегося» города он начинает понимать, что судьба дает свои «щелчки» не ему одному. Под впечатлением этих мыслей он пишет Вареньке: «…случается мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит, — тут иногда перед утренним зрелищем так умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою, и рукой махнешь!»1
Любопытно, что рассуждения о жизни-судьбе посещают Девушкина в сходной обстановке с зарождением бунта в душе приятеля Васи Шумкова, в «Слабом Сердце». «Дымящийся» город и здесь и в «видении на Неве» играет решающую роль. «По какому праву все это делается!» — в этом вопросе Девушкина уже слышится будущий вызов Ивана Карамазова. Современная Достоевскому критика не заметила этих зачатков «бунта» в письмах Девушкина, хотя с большим сочувствием отметила сострадательность его натуры. Последнее отвечало духу времени. С таким же сочувствием было воспринято описание жалкой жизни канцелярского чиновника, в котором видели жертву бесчувственного строя. Но сам Достоевский сознательно подчеркнул, что он вовсе не думает эти явления обобщать. В противовес Гоголю, его начальство не только не преследует своего чиновника, но само ему помогает в беде. Но такое идиллическое изображение канцелярской России настолько выпадало из круга тогдашних настроений, что оно прошло вовсе незамеченным и неотмеченным. Макар Девушкин был в представлении критики такой же жертвой канцелярии, как и Акакий Акакиевич Башмачкин.
Если еще можно понять, что современная Достоевскому критика могла не заметить некоторых особенностей первого произведения Достоевского, то приходится поражаться, что и позднейшая критика, вплоть до самого последнего времени, остается в пределах «гуманистического» истолкования романа «Бедные Люди». Впервые, кажется, Драгутин Прохаска в своей монографии о Достоевском подчеркнул внесоциальную установку романа «Бедные Люди», но и он не выделил в нем моментов назревающего бунта[44][45]. Только в самое последнее время этот момент начинает выделяться критикой и сопоставляться с позднейшим творчеством Достоевского[46][47][48][49].
Недостаточно внимательное отношение к первому произведению Достоевского, равно как и вообще ко всему раннему периоду его творчества, обусловило собою столь распространенное, особенно среди критиков с философским подходом, убеждение в резком делении творчества Достоевского на два периода. При этом о первом периоде обычно говорится с некоторым пренебрежением, как о периоде для Достоевского, в сущности, не характерном. Особенно резко этот взгляд был высказан Д. С. Мережковским. По его мнению, «истинный» Достоевский, тот бесстрашный испытатель божеских и сатанинских глубин, каким мы его знаем, начался с «Преступления и Наказания». Все, что раньше создавал он, «Бедные Люди», «Униженные и Оскорбленные» — принадлежит как бы совсем другому писателю. Если бы все это исчезло, образ его как художника, в особенности, как мыслителя ничуть не пострадал бы, скорее напротив, очистился бы от случайного и наносного. Философствующая критика в лице своих крупнейших представителей взяла полностью на веру выводы Белинского и его школы о зависимости Достоевского в его ранних произведениях от т. н. натуральной школы и пошла так далеко, что весь этот период вплоть до «Записок из подполья» считает подражательным и малооригинальным. Вслед за Д. С. Мережковским и Лев Шестов готов отбросить, без ущерба для понимания истинного Достоевского, весь первый период его творчества. «… „Бедные Люди“ и „Записки из Мертвого Дома“ — пишет он в своей известной работе „Достоевский и Ницше“ — вышли из одной школы и имеют одну и ту же задачу; разница лишь в мастерстве автора, успевшего за пятнадцать лет значительно усовершенствоваться в искусстве писания. В „Бедных Людях“, так же как и в „Двойнике“ и „Хозяйке“, вы имеете дело с неловким еще, хотя и даровитым учеником, вдохновенно популяризирующим великого мастера Гоголя, объясненного ему Белинским. Читая названные рассказы, вы вспоминаете, конечно, „Шинель“, „Записки Сумасшедшего“, „Страшную Месть“ и, вероятно, думаете про себя, что не было нужды их популяризовать. Читатель, пожалуй, немного потерял бы, если бы первые рассказы Достоевского навсегда остались в голове их автора»1. И даже Н. Бердяев в своей книге о Достоевском хотя и подчеркивает большое различие между Гоголем и Достоевским совершенно в духе новейших историко-литературных исследований, остается при убеждении о резком распадении творчества Достоевского на два периода. Достоевский, по его словам, в своем творчестве непосредственно примыкает к Гоголю, но «отношение» к человеку у Достоевского существенно иное, чем у Гоголя. Гоголь воспринимает образ человека разложившимся, у него нет людей, вместо людей — странные хари и морды… Достоевский же целостно воспринимал образ человека, открывал его в самом последнем и падшем"[50][51]. Однако раннее творчество Достоевского рисуется Н. Бердяеву менее ценным. «До „Записок из подполья“, по его мнению, Достоевский был еще психологом, хотя с психологией своеобразной, он — гуманист, полный сострадания к „бедным людям“, к „униженным и оскорбленным“, к героям „мертвого дома“. С „Записок из подполья“ начинается гениальная идейная диалектика Достоевского. Он уже не только психолог, он — метафизик, он исследует до глубины трагедию человеческого духа. Он уже не гуманист в старом смысле слова. Он уже мало общего имеет с Жорж Занд, В. Гюго, Диккенсом и т. п. Он окончательно порвал с гуманизмом Белинского»1.
Более внимательное изучение раннего периода творчества Достоевского, особенно его «Двойника», показало, насколько ошибочна точка зрения, разрывающая творчество Достоевского на два резко обособленных периода. Но по отношению к «Бедным Людям» точка зрения, идущая еще от Белинского, держится с особым упорством. Даже во многих отношениях прокладывающая новые пути работа В. В. Виноградова «Эволюция русского натурализма» видит в стиле первого романа Достоевского обновление сентиментализма на фоне натуральной школы Гоголя, причем особый характер этого стиля будто бы создавался «филантропическим» истолкованием сентиментальных сентенций. В письмах Макара Алексеевича, по мнению В. В. Виноградова, «на натуралистический фон ложились сентиментальные излияния, и сентиментальным „моралитэ“ давалось филантропическое, социалистическое истолкование в духе идеологов натурализма (Белинский)»[52][53].
Если бы дело было только так, то от «Бедных Людей» к «Двойнику» лежала бы целая пропасть. Ведь в этой повести уж никак нельзя найти тех элементов «филантропического истолкования действительности», которое было так дорого критике 40-х годов. Недаром современная критика оказалась совершенно беспомощной перед этим произведением Достоевского. А для всякого непредубежденного сознания между стилем первого романа Достоевского и его «Двойником» не только нет никакого разрыва, а он непосредственно примыкает к этому произведению.
И по своему основному композиционному приему «Бедные Люди», напр., связаны как раз с тем произведением, с которого хотят видеть начало «нового» Достоевского, — с «Преступлением и Наказанием». Картина жизни несчастного существа на фоне общей человеческой беды в преломлении «героя» — ведь это композиционно уже имеется в романе «Бедные Люди». И подобно тому, как роман «Пьяненькие», задуманный вначале как самостоятельное произведение, органически слился затем в одно целое с историей воскрешения к новой жизни героя, так и повесть о бедной девушке, «оскорбленной и грустной», тоже самостоятельно задуманная, соединилась с историей возрождения к новой жизни под влиянием любви Макара Девушкина. Что дело идет о воскрешении Девушкина, видно из его собственных слов: «…Я знаю, чем я вам, голубчик вы мой, обязан! Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать и вас стал любить; а до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете… как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную, так что и сердце и душа моя осветились, и я обрел душевный покой и узнал, что и я не хуже других…»1
И, переходя от внешней формально-литературной стороны вопроса к области философско-идейной, надо отметить, что уже в «Бедных Людях» заложены некоторые из существеннейших идей позднейших произведений Достоевского.
Проблема «своего места», которая играет такую значительную роль в «Двойнике», а затем осложняется проблемой самозванства, намечена уже отчасти в «Бедных Людях». Она входит органической частью в несложную жизнь Макара Алексеевича: «…всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим Богом». Поэтому и воспринимает Макар Алексеевич свой ропот против судьбы как «вольнодумство», как вступление на ложный путь.
Я уже говорил об элементах бунтарства в «Бедных Людях», которые ведь тоже надо отнести к философско-идейной концепции «Бедных Людей». Отмечу еще, что и проблема вины намечена здесь в очень любопытной для Достоевского постановке. Чувство вины не является в результате проступка, а ему предшествует и даже вызывает его — вот та постановка проблемы вины, которая с такою четкостью поставлена Достоевским только в его первом, казалось бы, самом философски беспомощном и наивном произведении. Вот что пишет Девушкин Вареньке после своего «дебоша»: «…чувствую, что я виноват, чувствую, что я провинился перед вами, да и, по-моему, выгоды-то из этого нет никакой, маточка, что я все это чувствую, уж что вы там ни говорите. Я и прежде проступка моего все это чувствовал, но вот упал же духом, с сознанием вины упал»[54][55].
Сам Макар Алексеевич не может себе объяснить, как это сознание своей виноватости могло его толкнуть на путь «дебоша и азарта». Он понимает, что в основе его поведения лежит что-то темное и непроясненное, что он сам определить не в состоянии: «…я и не совсем виноват в проступке моем, так же как ни сердце, ни мысли мои не виноваты; а уж я и не знаю, что виновато. Уж такое дело темное, маточка».
Проблема вины, здесь еще только поставленная, затем переходит в «Двойник» и играет уже в «Господине Прохарчине», как я пытаюсь показать в другом месте, определяющую роль[56]. А «Господин Прохарчин» уже непосредственно связывается в постановке этой проблемы прямо с «Братьями Карамазовыми». Так тянутся нити от первого произведения Достоевского до завершающего его творческий путь романа.
Мне и хотелось показать, как тесно связаны уже первые литературные шаги Достоевского со всем его дальнейшим творчеством. Эти первые шаги были очень сложны, ибо они требовали преодоления гоголевской традиции и нахождения своего самостоятельного пути. История создания «Бедных Людей» и есть история этих исканий Достоевским своего пути в литературе. За простым и, казалось, несколько наивным первым романом стоит напряженный и долгий путь творческих исканий молодого гениального писателя.
1931—1939
- [1] В первоначальном виде напечатано в журн. «Slavia», XII, 1933, в. 1—2. С. 134—161. Настоящий текст местами исправлен и дополнен.
- [2] О исканиях Толстого см. книгу Б. М. Эйхенбаума «Молодой Толстой» (Пет.—Берл.,"Гржебин", 1922): «…после „Детства“ успех Толстого начинает падать, а к 60-м годамон считается почти забытым писателем» (с. 59).
- [3] См. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883, отд. 1. С. 43. Далее везде цитирую этот источник: Биогр., отд. и стр. «Сороклет спустя при одном из моих свиданий с Ф. М. Достоевским», говорит А. И. Савельевв примечании к своим воспоминаниям, «когда я припомнил его ночные письменныезанятия в роте, особенно то обстоятельство, что я мешал ему иногда заниматься ночью, то он мне сказал, что он тогда действительно писал роман „Бедные Люди“, но что началписать этот роман еще до поступления своего в училище».
- [4] Биогр. 1, 41.
- [5] См. письма Достоевского от 31.12.1843, нач. 1844 г., 14.2.1844 г., апр. 1844 г.(Письма под редакцией А. С. Долинина, т. 1. С. 66, 68, 69—70, 71 и т. 2. С. 553). В. Мику-лич (Л. И. Веселитская), с кот. Достоевский познакомился в дек. 1880 г., в своих воспоминаниях сообщает со слов Достоевского о начале его литературной деятельности:"Потом, не утерпев, я спросила его, как он начал писать, писал ли предварительно стихии не писал ли что до «Б. Л.» или это был его первый опыт. Нет, стихов не писал, т. е. писал, но только шуточные. А серьезно никогда не мог. До «Б. Л.» он ничего оригинального не написал, а начал с того, что переводил романы, которые ему нравились, романыБальзака…" — (В. Микулич. Встречи с писателями. Л., 1929. С. 154).
- [6] Письма, 1, 69: «Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел Евгению GrandetБальзака (чудо! чудо!). Мой перевод бесподобный…» Перевод ром. «Евгения Гранде"опубликован А. П. Гроссманом в Поли. собр. соч. Достоевского, изд. «Просвещение», т. 23. С. 363—525. См. Г. Н. Поспелов: «Eugenie Grandet» Бальзака в переводе Ф. М. Достоевского. Учен. Записки Языка и Литер. М., 1928, т. 2. С. 103—136.
- [7] Письма, 1, 69.
- [8] Письма, 1, 73. Об этих ранних попытках драматического творчества см. интересную работу М. Алексеева «О драматических опытах Достоевского» в сборнике «Творчество Достоевского» под ред. Л. П. Гроссмана. Одесса, 1921. С. 41—62.
- [9] Письма, 1, 76.
- [10] Письма, 1, 73 и 74.
- [11] Общий адрес Д. В. Григоровича и Достоевского впервые упоминается в письмеДостоевского к брату от 30 сент. 1844 г. (Письма, 74). Впрочем, уже в письме, датируемом П. Н. Сакулиным летом 1844 г., имеется указание, что Д. жил на квартире «у Владимирской церкви», что совпадает с его полным адресом: «У Владимирской церкви в домеПрянишникова в Графском переулке» (ср. Письма, 2, 555).
- [12] Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Лен., 1928, изд. «Academia». С. 139.
- [13] «Униженные и Оскорбленные». Ч. 1, гл. V. Поли. собр. худ. произв. М., Госиздат, т. II. С. 23. Ссылки на это изд. дальше всюду ограничиваю указанием на том и стр.
- [14] Дн. Пис. 1877, янв. И/4.12, 30.
- [15] Письма, 1, 74—75.
- [16] Письма 1, 75 и 76. Подчеркнуто мною. Напоминаю, что это то же письмо, в котором имеются уже выше приведенные строки о сознательном отказе писать драмы.
- [17] Письмо от 4 мая 1845 г. Письма, 1, 77.
- [18] «Дн. Пис.» 1877 г. Янв. II/4.12, 29. В другом месте «Дневника Писателя» имеется более неопределенное упоминание о начале работы над первым романом: «Первая повесть моя «Бедные Люди» была начата мною в 1844 году, была окончена, стала О
- [19] Зизвестна Белинскому и была принята Некрасовым для его альманаха «Петербургскийсборник» в 1845 году» (Дн. Пис. 1877. Ноябрь, ½.12, 297).
- [20] Полное заглавие этой, к сожалению, недостаточно оцененной — вследствиеизлишнего и затемняющего ее историко-литературный смысл психологизма—статьи К. К. Истомина: «Из жизни и творчества Достоевского в молодости.
Введение
в изучение Достоевского. Первая глава. Три озарения молодости" (Сборник «Творческий путьДостоевского» под ред. Н. Л. Бродского. М., 1924. С. 3—48). А. С. Долинин. Примечанияк письмам. 1, 478.
- [21] Упом. раб. С. 13—14.
- [22] Там же. С. 14.
- [23] Этой темы, в применении к роману «Бесы», касается моя работа: Эволюцияобраза Ставрогина в романе «Бесы», печатаемая ниже.
- [24] В. Комарович. «Достоевский. Современные проблемы историко-литературногоизучения». Лен., «Образование», 1925. С. 28.
- [25] См. отзыв А. Никитенко в «Библиотеке для чтения» 1846 г., кн. 75, отд. Крит.С. 34—35. Отрывок воспроизведен в «Поли. собр. худ. произв.» 1, 518—519.
- [26] Дневн. Пис. 1876, февр. 1/3: «Мужик Марей». XL С. 187—191.
- [27] В пользу этого предположения говорит и наличие в «Бедных Людях» отраженийличных переживаний Достоевского в связи с женитьбой в 1840 г. сестры его Варварына П. А. Карепине. Естественно, что в таком случае «дневник Вареньки» выдвигалсяна первый план. См. В. Комарович. «Литературное наследство Достоевского за годыреволюции» в «Литер, наследстве», XV/1934. С. 272—273.
- [28] Упом. раб. С. 14.
- [29] См. об этом подробнее в моей книге «У истоков творчества Достоевского». Прага—Берлин, Петрополис. С. 33.
- [30] Поли. собр. соч. изд. «Просвещение», т. XXII, 179—180.
- [31] Поли. собр. худож. произв., т. 1. С. 407.
- [32] «Пиковая Дама» в творчестве Достоевского, упом. изд. С. 39—40.
- [33] Упом. изд. С. 183—184.
- [34] Упом. раб. С. 18.
- [35] В. Комарович. Достоевский. Современные проблемы… С. 28.
- [36] Там же. С. 29.
- [37] Упом. изд. С. 184.
- [38] «У истоков творч. Дост.» С. 127—138.
- [39] Элементы этого сюжета могут быть обнаружены разве только в романе «БелыеНочи».
- [40] «Бедные Люди», 1, 82.
- [41] Там же. С. 99.
- [42] О композиционном значении «чужой беды» в творчестве Достоевского см. нижев специальной статье.
- [43] «Бедные Люди», 1, 84.
- [44] «Бедные Люди», 1, 85.
- [45] Dr. Dragutin Prochaska, F. M. Dostojevski. Zagreb, 1921. C. 43—46.
- [46] См. в моей работе ««Скупой рыцарь11 в творчестве Достоевского» — в кн. «У исто
- [47] ков творчества Достоевского», С. 83—84. Отмечает бунт Девушкина во имя достоинства
- [48] личности и Г. Прохоров в статье «Социальная проблема у Достоевского» (см. «Das soziale
- [49] Problem bei Dostojevskij». Zeitschr.f.sl.Phil. 1930. VI/3—4). Стр. 381.
- [50] Упом. раб. Берлин, 1922. С. 21.
- [51] «Миросозерцание Достоевского». Прага, 1923. С. 23—24.
- [52] «Миросозерцание Достоевского». Прага, 1923. С. 24.
- [53] «Эволюция русского натурализма». М., 1928. С. 365. На сходной точке зрениястоит и Георгий Чулков. Для него «Бедные Люди» — «социальный роман, на каждойстранице которого слышен крик о социальной несправедливости» («Последнее словоДостоевского о Белинском» в сб. «Достоевский», изд. ГАХН, 1928. С. 76).
- [54] «Бедные Люди», 1, 78.
- [55] Там же. 1, 77.
- [56] См. статью «Проблема вины» в книге «Достоевский. Психоаналитические этюды». Прага—Берлин, Петрополис. 1938. С. 172—173.