Толкование сновидений.
Психоанализ.
Истоки и первые этапы развития
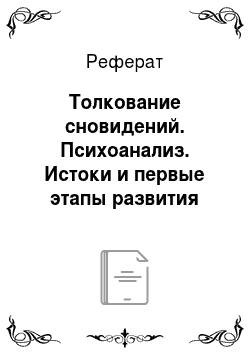
Тем самым «бессознательное мышление» оказывается практически равным по своему объему нашему дневному мышлению и даже превосходит его, поскольку содержит в себе и вытесненные запретные мысли, память о раннем детстве и вообще все нами забытое. Какими бы ни были причины такого воззрения, «бессознательное мышление» у него основательно «логизировано»: ему принадлежат суждения и умозаключения, критика… Читать ещё >
Толкование сновидений. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
«Истоком и тайной» психоанализа можно считать «Толкование сновидений». Эта книга доныне остается своего рода Библией всех аналитиков. Фрейд всегда считал ее важнейшим своим трудом и в предисловии к третьему английскому изданию (1931) писал: «Эта книга, вклад которой в психологию удивил мир в момент ее публикации (1900), остается без существенных изменений. Даже, по моему нынешнему суждению, она содержит самое ценное из всех тех открытий, каковые мне довелось совершить. Прозрения такого рода случаются лишь раз в жизни».
Книга вышла в ноябре 1899 года, но на титульном листе стоял 1900 год. Она как бы открывала то столетие, коему было суждено стать веком психоанализа. Из писем Флиссу известно, что работа над книгой шла с 1897 по 1899 год, хотя некоторые теоретические положения имеют предысторию. Кое-какие замечания по поводу собственных сновидений обнаруживаются еще в письмах 1882 года невесте. В 1895 году выходит том «Исследований истерии», где уже присутствуют толкования сновидений пациентов. В том же году Фрейд работает над своим «Проектом». Последняя глава «Толкования сновидений» стала по-настоящему понятна только после обнаружения этой рукописи — к основным идеям Фрейд пришел еще до того, как изучил обширную литературу по поводу сновидений. Конечно, нет ни одного тезиса «Толкования сновидений», который не встречался бы у предшественников (Гризингера, Шернера и многих других), но их синтез принадлежит Фрейду.
В предисловии к первому изданию Фрейд делает ряд характерных замечаний: сон есть первое звено ряда анормальных психических образований, он является парадигмой (именно это слово употребляет Фрейд) для теории, способной дать картину фобий, навязчивых состояний и т. д. Иначе говоря, сновидения сравниваются не столько с «нормальной» психической жизнью, сколько со всевозможными отклонениями; а так как сны снятся всем без исключения, то сама «норма» оказывается под вопросом. Уже в этом первом крупном произведении Фрейд ставит под сомнение всю традицию психиатрического обособления психических «здоровья» и «болезни».
Значительная часть приводимых сновидений принадлежит самому Фрейду — по совету Флисса он исключил несколько наиболее откровенных. В предисловии к первому изданию он отмечал, что ему вовсе не хочется выносить на обсуждение свою собственную интимную жизнь, но это было «болезненно, однако неизбежно» (Das war peinlich, aber unvermeidlich). Иначе бы вообще ничего не получилось, поскольку сновидения пациентов всегда имеют добавочный невротический материал, а в «естественном» виде ему были даны только собственные сновидения. Так как автор является не поэтом, а естествоиспытателем, то он сталкивается с трудной задачей научного анализа собственной душевной жизни. Поэту в сновидениях приходят вдохновляющие его творчество темы, тогда как ученый должен находить в них механизмы, обладающие универсальной значимостью. В предисловии ко второму изданию Фрейд дает знать читателю, что его сновидения в период, когда писалась книга, имели особый характер: «А именно, для меня эта книга имела еще одно субъективное значение, которое я сумел понять лишь по ее завершении. Она оказалась для меня частью моего самоанализа, как реакция на смерть моего отца, иначе говоря, на важнейшее событие, самую радикальную утрату в жизни мужчины. После того, как я распознал это, я почувствовал себя неспособным затушевать следы этой утраты. Но читателю все равно, на каком материале он учится оценивать и толковать сновидения»[1]. Вряд ли это обстоятельство следует исключать с такой легкостью — читатель, если он знает, чем были мотивированы эти сновидения, может задаться вопросом: не является ли вся эта теория следствием того состояния, в котором находился Фрейд? Ведь если бы ему снились таинственные ландшафты или полные религиозной символикой сновидения, то и теория сновидений могла бы оказаться иной — напоминать, скажем, возникшую позже юнгианскую трактовку сновидений, как языка коллективного бессознательного.
Собственно говоря, исправления и добавления, которые появляются начиная с третьего издания, все в большей мере ориентированы на поэтическое творчество, мифы, фольклор (и только отчасти на накапливающийся опыт толкования неврозов). В четвертом издании имелись два раздела, написанных О. Ранком, в которых развивались именно эти стороны «прикладного психоанализа». Мифы — сновидения человечества, а индивидуальные сны подобны мифам. Учение о сновидениях действительно стало парадигмой — не только неврозов, но также всей фрейдистской культурологии.
Сновидения всегда вызывали интерес у людей: вероятно, их толкованию предавались в пещерах наши весьма отдаленные предки. Толкование сновидений было одним из высших жреческих искусств. Научные теории сновидений возникли много позже, причем они базировались на картезианском разделении res extensa и res cogitans[2]. Наука XIX века стремилась понять физиологические механизмы сна и отбросила все эти толкования как древние предрассудки. Познакомившись с научными теориями своего времени (вся 1-я глава представляет собой изложение основных точек зрения на сны), Фрейд приходит к выводу, что в древних верованиях больше истины, чем во всех этих теориях. Сновидения обладают смыслом, значением, а оно не укладывается в каузальные объяснения, но требует истолкования. Сновидения символичны, и мы способны их понять путем открытия скрытого смысла за явным.
Фрейд оспаривает теории физиологов и медиков, считавших сновидения бессмысленными или сводивших сны к реакциям на внешние раздражения. Физиологически, сновидение есть промежуточное состояние между бодрствованием и сном без сновидений. Последний представляет собой состояние абсолютного покоя, когда мы «отключаемся» от внешнего мира. Фрейд сравнивает сновидения со «снами наяву», психотическими галлюцинациями, гипнотическим «сном» — действия во время гипноза сравниваются с сомнамбулическими действиями лунатиков. Биологическую функцию сновидений он видел в том, что они сохраняют наш ночной отдых. Фрейд ссылается на то, как внешние раздражения преобразуются в образы сновидения (звонок будильника в звон колоколов или нечто подобное), равно как телесные потребности становятся поводом для сцен сновидения (полный мочевой пузырь вызывает наши поиски туалета во сне). Кроме физических раздражений имеются психические — иногда из-за них возникает бессонница. В лекциях 1915/16 годов Фрейд говорил так: «Сновидение, будучи реакцией на психическое раздражение, должно быть равнозначно освобождению от этого раздражения, так что оно устраняется, а сон может продолжаться… сновидение является не нарушителем сна… а оберегает его, устраняет нарушения сна. Правда, нам кажется, что мы лучше спали бы, если бы не было сновидения, но мы не правы; в действительности без помощи сновидения мы вообще бы не спали. Ему мы обязаны, что проспали хотя бы и так. Оно не могло немного не помешать нам, подобно ночному сторожу, который не может совсем не шуметь, прогоняя нарушителей покоя, которые хотят разбудить нас шумом»[3]. Таким образом, сновидение полезно организму как «защитник сна», «ночной сторож», устраняющий нарушающие покой психические раздражения путем удовлетворения влечений, проникающих в психику изнутри. В бодрствовании мы стремимся реализовывать их действиями, но в состоянии сна моторные центры отдыхают, путь действия закрыт, а потому психика довольствуется «галлюцинаторным удовлетворением».
Следует отметить, что современные нейрофизиологические исследования хотя бы отчасти опровергают эти положения Фрейда. Прежде всего это относится к его тезису о том, что сновидение есть «охранитель» сна от внешних возбуждений. Физиологи установили, что сомнамбулические действия, на которые Фрейд нередко ссылался в связи с гипнозом, происходят в период так называемых «длинных волн», то есть когда нам ничего не снится. Сновидения приходят после 90 минут сна.
«длинных волн» во время «парадоксального сна». В этот период — примерно 20 минут — энцефалограммы сходны с состояниями бодрствования, присутствуют быстрые движения глаз (отсюда название REM Sleep — от Rapid Eye Movement). Всего за ночь нам 4—5 раз снятся сны, то есть в среднем до 20% ночного времени. По своим физиологическим параметрам эти состояния сравнимы с состояниями галлюцинаций в дневной жизни. Филогенетически «быстрые» сны появляются вместе с теплокровными животными. У птиц они очень коротки (несколько секунд), у млекопитающих они длятся, как и у людей, примерно четверть ночного времени. Нам не известно, что снится сороке, жирафу или кошке. Вряд ли их сновидения являются исполнениями желаний — вытесненных в бессознательное влечений у них, кажется, не находят и психоаналитики. Специалисты, наблюдая за поведением животных во время сна и после него, говорят о том, что во сне происходит как бы «перепрограммирование»: между генетически заложенными программами и реакциями на среду у животных всегда существует некоторый «зазор», и сновидения способствуют адаптации. В принципе такая трактовка не противоречит некоторым версиям психоанализа, в частности юнгианской аналитической психологии. Но диалог между нейробиологами и психоаналитиками на сегодняшний день затруднен совершенно различным подходом к сновидениям. Нейробиологи утверждают, что «сны наяву», галлюцинации, имеют мало общего со сновидениями. «Подобный диалог не представляет большого интереса, поскольку немного фрейдовских гипотез нашло подтверждение в нейропсихологии»[4], — таков вывод большинства физиологов.
Однако, физиология и нейропсихология мало что говорят нам о значимости сновидений для человеческой жизни. С точки зрения физиологии, это остается тайной, да она и не призвана разгадывать такие тайны. Независимо от генезиса сновидений и их роли в эволюции, они образуют целый мир практически для каждого человека. Сны снятся людям ежедневно в течение двух часов, нередко они повторяются, показывая нам некую альтернативную реальность, в которой мы всегда участвуем. Это не картинки, не «фильм», который мы наблюдаем со стороны. Когда мы просыпаемся, то отличаем сны от действительности — «это был лишь сон». Но пока он снится, именно в этой иной реальности мы живем и действуем (лишь крайне редко случаются так называемые rives lucides, когда мы во сне знаем, что это «лишь сон»). Сон переживается как действительность, в которой мы путешествуем, действуем, наслаждаемся или чего-то страшимся. Проснувшись, мы вспоминаем, что многое во сне принадлежит нашей дневной действительности: это синтез бытия и небытия, реальности и ирреальности. Но этот мир небытия вступает во взаимодействие с моим дневным миром, даже если я этого не осознаю и не прислушиваюсь к «голосу» сновидений.
Запомнившееся сновидение входит в мой душевный мир, рассматривается в перспективе моего дневного сознания как одно из содержаний, наряду с моими фантазиями и даже самыми реальными проектами. Вряд ли бизнесмен, которому приснилось, что его надувает деловой партнер, оставит сон без внимания. Лицо иного пола, неожиданно оказавшееся эротически значимым в сновидении, будет несколько иначе восприниматься и в дневной жизни. Смыслы сновидений и дневной реальности переплетаются, ирреальное хотя бы отчасти становится реальным для нас. Перспектива моего видения реальности меняется, поскольку сновидение дает иную конфигурацию, а дневной мир утрачивает свой само собой разумеющийся характер. Видимо, именно с этим связана целебность толкования сновидений: нам как бы открывается дверь в иной возможный мир.
Не случайно во сне приходит решение дневных проблем; некоторые крупнейшие ученые приходили к выдающимся открытиям во сне, и никакая физиология не объясняет нам того, как это происходит. Мир сновидений является миром не одних причинно-следственных связей, а миром смыслов. Значение сновидения часто непонятно, однако толкование не приходит извне, из сонника или от психоаналитика: сам сновидец знает, что сон имел смысл и как-то связан с его жизнью, хотя не знает как именно. Пока психоаналитик навязывает свою интерпретацию, он ничего не добивается как психотерапевт — пациент должен сам прийти к толкованию, то есть перевести язык образов на язык сознания и соединить ускользающие смыслы сновидения со смыслами дневной жизни. Пересказать сон столь же трудно, как передать словами музыку: в чужой сон нам не проникнуть, он всегда индивидуален. Уже запоминание сна есть его интерпретация и трансформация.
Взгляд на сновидения, как на совершенно автономный, так сказать, «природный» процесс, является упрощенным. Уже то, как мы запоминаем и тем самым достраиваем сны (придавая им некую структуру), зависит от культуры. «Совершенно очевидно, — писал Ю. М. Лотман, — что архаический человек обладал гораздо большей культурой сна, то есть, вероятно, видел сны и запоминал их гораздо более связанными! Нельзя забывать и того, что шаманская культура, бесспорно, обладала техникой управления снами, не говоря уж о системах их связных пересказов и интерпретаций»[5]. Сновидение представляет собой пространство знаков с неопределенными значениями, которые уточняются и закрепляются путем интерпретации. И шаман, и гадалка, и жрец древнего храма, и психоаналитик выступают в роли переводчиков образного «языка» сновидений на язык словесной коммуникации. И если в одной культуре сон есть предсказание событий, то в другой он становится выражением подавленных влечений. Для того, чтобы возникла психоаналитическая трактовка сновидений, требовалось радикальное изменение культуры. «Сон-предсказание — окно в таинственное будущее — сменяется представлением о сне как пути внутрь самого себя. Чтобы изменилась функция сна, надо было переменить место таинственного пространства. Из внешнего оно стало внутренним»[6]. Но такое перемещение задается культурой, налагающей свои формы на, казалось бы, совершенно индивидуальные явления. Что может быть более неповторимого, чем сон, который никогда не приснится никому другому, но в то же самое время способы включения образов сна в дневную реальность заданы методом «перевода». Фрейд был создателем нового способа пересказа — на «кушетке» — и толкования сновидений, формы их сознательной организации, наивно полагая, будто сами сны говорят в духе его теории.
Вслед за несколькими предшественниками[7], оказавшими на него определенное влияние, Фрейд пришел к мысли о том, что содержание сновидений связано с жизненной ситуацией сновидца, что сновидения целесообразны и доступны для истолкования, которое отличается от символического толкования, обнаруживаемого нами в бесчисленных сонниках[8]. Последнее бесконечно далеко от любого научного подхода: оно «рассматривает содержание сновидения как целое и пытается заменить его другим, понятным и в известном смысле аналогичным содержанием»[9]. Такое толкование совершенно непригодно в случае запутанных сновидений. Второй традиционный метод (Chiffrenmethode) «рассматривает сновидения как род тайнописи, в которой каждый знак можно в соответствии с ключом перевести другим знаком»[10]. Этот метод существенно ближе Фрейду. Он обращается к незадолго до того переведенному античному соннику Артемидора, который уделял немалое внимание не только содержанию сна, но также личности сновидца. Но и такой метод ограничен — дешифровка идет по книгам, которые дают произвольный «ключ» к толкованию того или другого образа. Достаточно взять в руки несколько разных сонников, чтобы обнаружить множество расхождений в трактовке одного и того же образа.
Научное толкование должно опираться на теорию, объясняющую функции сновидений. Многие наблюдатели обращали внимание на то, что в сновидениях часто исполняются наши заветные желания. Фрейд ссылается на немалое число поговорок и высказываний предшественников по поводу этой особенности сновидений, чтобы заметить, что «ни одному из них не пришло в голову признать ее общей характерной чертой и считать это ключевым моментом в объяснении сновидения»[11]. Он делает смелое обобщение: все сновидения побуждаются желанием, а исполнение этого желания становится содержанием сновидения, определяемого поэтому как «галлюцинаторное переживание исполнения желания».
Правда, лишь небольшое число сновидений можно прямо признать исполнениями желаний — мы голодны и нам снится застолье, сексуальное влечение непосредственно удовлетворяется во сне и т. д. Фрейд полагает, что таковы все сновидения у маленьких детей: ребенку не дали мороженое, и ему снится, как он его поглощает. До определенного возраста у детей еще нет вытеснения, нет «цензуры», и им буквально снится исполнение дневного желания[12]. В «Толковании сновидений» Фрейд писал, что неприятное не находит себе выражения в сновидении, включаясь в него лишь в том случае, если во сне происходит неприкрытое исполнение запретного желания. Страх является признаком того, что вытесненное влечение смогло прорваться сквозь цензуру (или было к тому близко). Для нашего «Я» это мучительно, поскольку такие влечения постыдны и даже кошмарны для нашего бодрствующего сознания. Этой близостью к осуществлению запретного желания объясняются неприятные сновидения, а страх во сне — это страх перед силой прорывающихся влечений. Страшное сновидение часто ведет к пробуждению — сон прерывается, причем мы часто ничего не помним о содержании сновидения: остается лишь ощущение страха, тогда как содержание тут же вытесняется начинающей работать во всю силу цензурой. В дальнейшем, когда Фрейд произвел изменения в своей концепции «неврозов страха» (или «тревожности» —Angstneurose[13]), он изменил и трактовку страшных сновидений.
У взрослых сновидения, в которых буквально исполняется желание, сравнительно редки. По большей части сны непонятны, а иногда и абсурдны. Фрейд объясняет это именно деятельностью цензуры. С одной стороны, цензура сознания в состоянии сна ослаблена, а потому скрытые желания могут войти в сознание. Но в то же самое время и во сне цензор не пропускает запретные представления, и сновидение говорит эзоповским языком. Сновидение должно осуществлять желания, охраняя тем самым ночной отдых, но делать это не явно, а тайно, пока речь идет о запретных желаниях.
Образы сновидений у Фрейда всегда содержат как бы два слоя: «явное содержание» и «скрытые мысли сна» (latenten Traumgedanken). «Работа сна» заключается в зашифровке тайных мыслей. Шестая глава «Толкования сновидений» посвящена тому, как «латентные мысли» преобразуются в явное содержание. К механизмам такой трансформации относятся:
Сгущение. В сравнении с многообразием сновидческих «мыслей» явное содержание лаконично. Одни элементы вообще опускаются; элементы, имеющие нечто общее, сливаются в единое целое, возникает смешение различных вырванных из контекста элементов. Несколько различных лиц собирательно представляются одним человеком, сочетающем в себе их черты, причем какой-то маловажный персонаж может тайком представлять куда более важные фигуры. В сновидении сгущаются словесные ряды, возникают непонятные имена, словесные новообразования и т. п.
Смещение. В отличие от прочих механизмов, оно целиком относится к действию цензуры. Один из скрытых элементов замещается чем-то отдаленным, намеком; с важного содержания акцент переносится на незначительное. В отличие от намеков в состоянии бодрствования (например, в шутках, анекдотах), где намеки должны быть более или менее прозрачными — иначе их никто не поймет — в сновидении нет таких ограничений, а потому происходит замещение важных «мыслей сна» самыми отдаленными представлениями, затемняющими то, чего не хочет пропускать цензура. Чаще всего этот сдвиг осуществляется на сохранившиеся в нашей памяти остатки дневных впечатлений.
Образное представление (буквально Rucksicht auf Darstellung можно перевести как «учет образности»). Это механизм превращения мыслей в визуальные образы. Абстрактное представление заменяется текучими образами. Фрейд сравнивает эту работу с задачей подмены политической передовицы в газете рядом иллюстраций: легко заменить упоминаемые в статье лица и конкретные предметы, но при изображении абстрактных слов и частей речи, выражающих логические отношения, возникают трудности. Абстрактные слова можно сначала свести к конкретным (они от них происходят) — Фрейд приводит много примеров подобной «игры слов» в сновидениях. Содержание мыслей тонет в «сыром материале объектов и деятельностей». В отличие от Фрейда, мы живем в условиях «визуальной культуры» и постоянно сталкиваемся с потоком образов, который должен содержать скрытую мысль. Скажем, содержание рекламного ролика сводится к «несите ваши денежки», а изображается актерами, нанятыми каким-нибудь МММ, нечто совсем иное. Можно вспомнить и пропагандистские ролики предвыборных кампаний. Для Фрейда исходным материалом являются именно «мысли», а образная развертка «фильма» представляет собой один из механизмов утаивания содержания этих «мыслей».
Вторичная обработка. Работа сна способствует тому, что сновидение утрачивает бессвязность или абсурдность, оно приближается к нашим наглядным восприятиям. Фрейд сравнивает такую переработку со «снами наяву», с деятельностью нашей фантазии в бодрствовании. Сновидение предстает в виде более или менее связного сценария, оно делается понятным, фантазия заполняет пробелы.
Задача психоаналитического толкования заключается в работе, которая противоположна работе сна: за явным содержанием нужно открыть латентное. Это осуществляется путем привлечения ассоциаций сновидца по поводу собственного сна. Он должен рассказать аналитику мельчайшие детали сновидения, привести все свои ассоциации, какие только приходят в голову, не думая о том, являются ли они важными, осмысленными, либо совершенно абсурдными. Он не должен смотреть на них критически, отбирать ассоциации и образы — критическая рефлексия уже играла бы роль цензуры, препятствующей толкованию. Аналитик помогает анализируемому лишь тем, что обращает внимание на непроговоренные детали, способствует снятию сопротивления.
Для Фрейда в сновидениях мы имеем дело с удовлетворением — или попыткой удовлетворения — вытесненных влечений. Они вытесняются, поскольку вступают в противоречие с нашими этическими или эстетическими представлениями, социальными нормами. Запретное желание является самым настоятельным, а таковыми оказываются инцестуозные стремления раннего детства. Сновидения стремятся реализовать то, что немыслимо в дневной жизни.
Фрейдовское учение о символизме сновидений вызвало самые горячие споры не только потому, что символика сновидений является чуть ли не исключительно сексуальной. Он вывел символическое отношение между обозначающим элементом явного содержания сновидения и обозначаемым элементом скрытой мысли за пределы рассматривавшихся ранее отношений — части и целого, намека, образного представления. Символами он называет те образы, которые «имеют устоявшиеся переводы». С их помощью выражается не все содержание скрытых мыслей, но лишь определенные их элементы. Символическое толкование играет вспомогательную роль и является дополнением к ассоциативной технике. Психоаналитик заранее знает смысл встретившихся в сновидении образов, и это помогает ему в истолковании. Символ является неким иероглифом, даже пиктограммой с закрепленным значением.
Число предметов, символически изображаемых в сновидениях, по Фрейду, крайне невелико: рождение, смерть, человеческое тело, родители, браться и сестры. Он приводит некоторые примеры символов, с помощью которых сновидение изображает эти предметы: король и королева обозначают родителей, отъезд — смерть и т. д.[14] Зато чрезвычайно богата символика сексуальной жизни — небольшому числу обозначаемых содержаний соответствует огромное число обозначающих, причем каждое из них может быть выражено большим количеством символов.
Интерпретации их крайне однообразны — повсюду с их помощью представляются половые органы или половой акт. Символами мужского члена оказываются и дерево, и зонт, и сабля, и водопроводный кран, и аэроплан, и заводская труба, и змея, и шляпа, и гриб. Женские гениталии символизируют шахты, пещеры, дома, крепости, чемоданы, шкафы, печи, двери, раковины, церкви и т. д. Если мастурбация символизируется игрой на фортепиано, а половой акт выражается и танцами, и верховой ездой, и подъемоми по лестнице, и полетами во сне, и ремесленными работами, то оказывается, что и в жизни, и в сновидениях нас буквально окружают сексуальные символы.
Конечно, нельзя отрицать наличие сексуальной символики во многих далеких от половой жизни областях, да и сама эта область обширна в сознании любого человека. Но в теории Фрейда, которую все же не зря называют «пансексуализмом», эта сфера теснит все остальные. Хотя он признает, что в бодрствовании имеются иные поводы для употребления символов, в сновидениях они «используются почти исключительно для выражения сексуальных объектов». Так как сновидения передают архаичный опыт и в основном одинаковы у людей всех рас и культур, он делает вывод: «Сексуальные потребности принимали самое непосредственное участие в возникновении и развитии языка», а трудовая деятельность была «заменой половой деятельности»: «произносимое при общей работе слово имело два значения, обозначая как половой акт, так и приравненную к нему трудовую деятельность»[15]. Поэтому изначально сексуальная символика распространилась впоследствии на иные сферы. Во всех языках и у всех народов мы встречаем одинаковые символы, людям снятся сходные по скрытому содержанию сны — «перед нами древний, но утраченный способ выражения».
Таким образом, помимо бессознательных влечений имеются и «бессознательные знания», которые лишь отчасти объяснимы одинаковым словоупотреблением. Сюда входят «логические отношения, отношения сравнения между различными объектами, вследствие которых одно постоянно может замещаться другим»[16]. За важнейшими объектами — к ним относятся у Фрейда прежде всего сексуальные — закреплены постоянные значения. Вся сексуальная символика передается не на уровне языка и культуры вообще, но наследуется биологически (иначе имелись бы расхождения у представителей разных народов). Правда, в таком случае возникает вопрос относительно тех предметов, которые выступают как символы гениталий и полового акта, которые присущи только нашей культуре и которых явно не было в древности. Если для Фрейда «менять квартиру» в сновидении означает «менять (снимать) платье», а «в довольно невинной связи с атрибутами кухни, — как он пишет в „Толковании сновидений“, — мыслятся и грезятся самые интимные детали половой жизни», то возникает вопрос: откуда у нас такие символы? В принципе, ответ Фрейда чрезвычайно (быть может, даже слишком) прост: все продолговатое, активное, поднимающееся обозначает мужской член, всякое углубление, впадина означают женские гениталии, а практически любая деятельность может символически выражать половой акт. Но тогда полем психоаналитической интерпретации оказывается весь мир предметов и действий, и не одни кухонные принадлежности, но и все, что угодно может выражать «интимные детали».
В связи с языком символов как частью «бессознательного мышления» перед Фрейдом возникли две проблемы. Одна из них связана с тем, как символическое выражение соотносится с другими механизмами «работы сна», поскольку деятельность цензуры у него никак с символами не связана и он ясно отличает описанные выше механизмы «работы сна» от символической передачи. Удовлетворительного ответа Фрейд на этот вопрос не дает, ограничившись замечанием, что не одна цензура способствует трансформации мыслей в образы. В «Толковании сновидений» он пишет, что «сновидение не предполагает никакой особой символизирующей деятельности души, а пользуется символикой, имеющейся уже в готовом виде в бессознательном мышлении». Иначе говоря, символы уже даны нам в готовом виде, но тогда нужно признать, что-либо всякая совместная деятельность заранее обречена выражать половой акт, либо в бессознательном биологически закреплено такое значение, включая и те предметы и действия, которые явно принадлежат только нашей культуре и нашему опыту.
Трудности вызывает и другая проблема, связанная с самим «бессознательным мышлением». Явное содержание сновидения есть перевод латентных «мыслей сновидения» на другой язык, сравниваемый с иероглифами или ребусами. «Сновидение скудно, бедно и лаконично по сравнению с объемом и богатством мыслей». Фрейд не согласен с теми, кто считает, что большая часть этих мыслей привносится при анализе сновидений. Если при интерпретации и возникают некоторые мысли, то это — новые группировки тех мыслей, которые уже имелись в сновидении. О значительной части этих мыслей сам сновидец не имеет ни малейшего представления, они бессознательны.
Элементы сновидения образуются из «всей массы мыслей» по сложным ассоциативным цепочкам в силу «работы сна». Эти «мысли сна» подобны тем мыслям, которые имеются в бодрствовании — в сновидении они просто искажаются; образуют иные комбинации. «Мысли сна» содержат в себе суждения, умозаключения, критику, иронию и т. д. Скажем, сновидение становится абсурдным, когда в скрывающихся за ним мыслях в качестве элемента имеется суждение: «Это нелепо», когда, как пишет Фрейд, одна из этих мыслей «сопровождается критикой и иронией». Сами эти скрытые мысли у психически нормальных людей «никогда не носят абсурдного характера». Работа сна создает абсурдное сновидение лишь в том случае, «когда изображению в нем подлежит критика, ирония и насмешка, имеющаяся налицо в мыслях».
Тем самым «бессознательное мышление» оказывается практически равным по своему объему нашему дневному мышлению и даже превосходит его, поскольку содержит в себе и вытесненные запретные мысли, память о раннем детстве и вообще все нами забытое. Какими бы ни были причины такого воззрения[17], «бессознательное мышление» у него основательно «логизировано»: ему принадлежат суждения и умозаключения, критика и ирония. Но все это в дневной жизни имеется у мыслящего субъекта. Если бессознательное есть некий двойник нашего Я, то не совсем понятен его статус. Фрейд отрицательно относился к превращению бессознательного в потаенный «дух», воплощение мудрости (вроде «Самости» Юнга), но и биологически заданным влечениям трудно приписать иронические суждения и критические умозаключения. Если это то же самое Я, то во сне оно не знает того, что знает ночью. Цензор должен уже заранее знать, что именно он запрещает, а бессознательные влечения должны быть умнее и хитрее цензора, чтобы его время от времени обманывать. Чтобы объяснить вытеснение и деятельность цензуры, Фрейд в дальнейшем ввел инстанцию «Сверх-Я», но присущая бессознательному «хитрость разума» все равно остается необъясненной: «мысли сна» трудно одновременно считать репрезентациями инстинктивного влечения и критическими суждениями. В «Толковании сновидений» «бессознательное мышление» осуществляет довольно сложные математические подсчеты, умеет остроумно играть словами и т. д. Да и впоследствии Фрейд говорил нечто подобное: «Материал, которым располагает работа сновидения, состоит ведь из мыслей, некоторые из которых могут быть неприличными и неприемлемыми, но они правильно образованы и выражены»; либо: «Скрытые мысли — это не что иное, как известные нам сознательные мысли в состоянии бодрствования»[18]. В таком случае, исходным материалом являются именно мысли, а не влечения — некоторые из этих мыслей представляют влечения, будучи «неприличными»; бессознательное оказывается складом «мыслей», включая и некоторые запретные.
Это явно «не стыкуется» с целым рядом положений фрейдовской теории. Во-первых, бессознательные процессы архаичны, они ведут нас к раннему детству, а то и к животным предкам. В сновидении происходит регрессия к давнему и далеко не рациональному прошлому. Во-вторых, в сновидении падает интерес к внешнему миру, наша психика затворяется в самой себе и «свободное от всех этических уз Я идет навстречу всем притязаниям сексуального влечения», в том числе и таким, которые подлежат категорическому запрету. Инцестуозные влечения или исполненные ненависти к самым близким родственникам стремления, «проявления безграничного и беспощадного эгоизма», несовместимого с нашей сознательной жизнью — вот содержания бессознательного, которые относятся к раннему детству, когда суждений, умозаключений и критики еще просто не было.
Часть этих «скрытых мыслей» Фрейд относит к «дневным остаткам», то есть к тем размышлениям, которые происходили у нас в предшествующие сновидению дни и часы. Обычно, излагая учение Фрейда, его последователи так и говорят: связность и разумность «мыслей сна» восходит к «дневным остаткам», то есть мы имеем дело не с бессознательным как таковым, а с предсознательным. К этим остаткам добавляется бессознательное влечение, для исполнения которого и происходит преобразование в образы сновидений. Но Фрейд различал эти две группы: «…я различаю остатки дневных впечатлений и скрытые мысли сновидения… остатки дневных впечатлений — это лишь часть скрытых мыслей сновидений»[19]. Когда вытесненное влечение присоединяется к остаткам дневных впечатлений, то это «вызывает другую часть скрытых мыслей сновидения, ту, которая уже не кажется рациональной и понятной из жизни в бодрствовании»[20]. В «Лекциях» 1932 года вытесненное влечение называется «самым сильным элементом» скрытых мыслей, но тут же влечение называется «единственной отвергаемой мыслью»[21].
Таким образом, Фрейд постепенно уменьшает объем «скрытых мыслей», которые в «Толковании сновидений» были чуть ли не всезнающим двойником нашего Я, а в 30-е годы собственно «скрытой» становится лишь одна мысль, представляющая влечение. Но если принять такой взгляд, то Фрейду нужно было бы пересмотреть все свои ранние работы, так как и сновидения, и ошибочные действия, и остроумные шутки, и даже многие невротические симптомы связаны в них с «бессознательным мышлением». Сегодня психоаналитики редко употребляют фрейдовское выражение «мысли сна» (Traumgedanke), предпочитая говорить о «представлениях», «образах», а не об умозаключениях. В переводе на английский это различие часто стирается за счет употребления традиционного для эмпиристской традиции — Локка и Юма — термина «идеи», которые включают в себя и восприятия, и абстрактные понятия. Тем не менее, если мы исключим из «Толкования сновидений» предпосылку, согласно которой существуют «скрытые мысли», то вся конструкция Фрейда рассыпается: истолкование, как переход от явного содержания к скрытому, предполагает наличие латентного идеального значения за иероглифами сновидений. Если в сновидении имеется лишь одна вытесненная и запретная «мысль», а именно, репрезентация запретного влечения, тогда все толкование сводится к обнаружению того, что и без всяких интерпретаций известно психоаналитику. Но в таком случае следует признать ложными чуть ли не половину приводимых в «Толковании сновидений» интерпретаций, поскольку они обходятся вообще без упоминания такого влечения.
В «Толковании сновидений», как и во многих других работах Фрейда, мы сталкиваемся с теми особенностями его мышления, о которых речь уже шла выше. Как ученый-эмпирик, он наблюдает множество сложных душевных явлений, тщательно их описывает и классифицирует. Часть этих феноменов несомненно указывает на существование вытесненных сексуальных влечений. Фрейд выдвигает гипотезу, согласно которой все эти явления могут описываться как производные от таких влечений, а затем начинает подгонять под нее и те феномены, которые первоначально не помещались в прокрустово ложе этой гипотезы. Предшественники Фрейда говорили о том, что сновидения суть исполнения желаний и напоминают психотический бред (Гризингер), либо обращали особое внимание на сексуальную символику (Шернер). Фрейд обобщает эти наблюдения таким образом, что все без исключения сновидения делаются галлюцинаторными исполнениями вытесненных сексуальных влечений. В немалом числе сновидений другие лица могут выступать как замещения нас самих; Фрейд утверждает, что «все сновидения без исключения изображают непременно самого спящего», а за любым другим лицом скрыто наше Я, хотя это вступает в противоречие со многими сновидениями, приводимыми самим Фрейдом.
Конечно, «Толкование сновидений» содержит в себе не только такие обобщения. В этой работе имеется много ценных технических советов, методов толкования — поэтому работа сохраняет свое значение для психологов. Скажем, Фрейд замечает, что в сновидениях часто происходит переворачивание, превращение в противоположность, что начало и конец действия меняются местами. Он пишет о происходящем во сне расколе между представлением и аффектом и т. п. Все это — эмпирические обобщения, и если бы к таковым Фрейд относил «исполнение желаний», «эгоизм сновидения», деятельность «цензуры» посредством сгущения и смещения, то это не вызывало бы возражений. Наличие скрытого сексуального подтекста во многих сновидениях тоже вполне очевидно. Но есть сколько угодно сновидений, в которых нет ни исполнения желаний, ни «эгоизма», заставляющего в любом другом видеть воплощение нашего Я, ни сексуальных мотивов.
Именно торопливые обобщения вызвали критику не только враждебных психоанализу кругов, но и многих аналитиков. Сомнения у них возникли не только в связи с теорией, но и с практикой толкования[22]. Анализируемый вспоминает детали сновидения, лежа на кушетке у аналитика. Он находится в совсем иной ситуации, нежели та, в которой он вспоминал свой сон после пробуждения — между этими событиями протекло от нескольких часов до нескольких дней. Иногда психоаналитики обращаются к толкованию сновидений, которые приснились несколько лет назад. Ткань сновидения такова, что к сохранившемуся рисунку могут быть добавлены самые различные образы: уже первое воспоминание является интерпретацией, а к ней добавляются последующие, если сон хорошо запомнился. Если пациент уже ориентирован на определенного рода теорию, то он незаметно для самого себя перетолковывает образы сновидения в духе этой теории. На кушетке у аналитика поток ассоциаций направляется аналитиком в нужное ему русло. Пациент в высшей степени внушаем, а потому вместо расшифровки скрытого содержания сновидения, открывается путь к произвольной подгонке содержания к уже имеющейся теории. Причем к теории, которая сначала утверждает, что в глубинах нашей психики лежит вечный источник творческой деятельности, но затем закрепляет за сновидениями статус компенсаторной деятельности, выводящей на поверхность сознания прежде всего вытесненные запретные влечения. При всех похвалах искусству, которые мы обнаруживаем у Фрейда, оно понимается по образу и подобию «работы сна», то есть мира иллюзий, помогающего нам хоть на время бежать от нестерпимой реальности.
Подлинным наблюдателем своих сновидений и симптомов является сам испытывающий их индивид. Своими наводящими вопросами аналитик должен помочь пациенту лучше понять себя самого. Здесь всегда есть риск того, что техника психотерапии задает определенный способ описания и даже переживания, толкает к классификации и интерпретации в соответствии с предсуществующей теорией. Чаще всего этого не замечают ни пациент, ни аналитик. Разумеется, аналитик не «внушает» пациенту того, что в детстве у него был неразрешенный конфликт с отцом или фиксация на оральной стадии развития либидо. Но если мы возьмем приводимые Фрейдом случаи, то обнаруживается, что своими вопросами он безусловно подталкивал пациентов к определенной трактовке своих воспоминаний и сновидений[23].
Это относится не только к ортодоксальному фрейдизму. При чтении работ последователей Юнга всякого критичного читателя поражает то, с какой легкостью они подменяют индивидуальное /содержание сновидения архетипическими образами мифологии и религии. Но в случае Фрейда и его учеников произвольность интерпретации особенно бросается в глаза. Пациент обнаруживает у себя именно те «мысли сна», которые наяву принадлежат его аналитику. Произвольность интерпретаций зависит от того, насколько редукционистской является сама теория. Это не означает, что у нас нет сновидений, в которых «запретным плодом» являются влечения раннего детства; здесь вполне пригодна фрейдовская расшифровка символов. Вытесненные влечения имеются у любого человека. Но сведение всех сновидений к одному их типу вступает в явное противоречие с многообразием представленного в сновидениях[24]. Во всяком случае, символика сновидений явно не сводится к половым органам или актам. Значительно большее значение имеет не узкий схематизм Фрейда, а поставленная им проблема толкования символов сновидений.
Невротик переживает свои симптомы как нечто непонятное, как с ним «происходящее» помимо его воли и желания. Труднопередаваемые субъективные впечатления постепенно обретают контуры в сознании пациента, когда они приходят к языку. Аналитик может узнать о них тоже только через речь анализируемого. Клиническая медицина всегда признавала роль психологического воздействия разговора с пациентом (нежелательность ятрогений, эффект плацебо и т. д.); правильный диагноз часто невозможен без ответов пациента на поставленные врачом вопросы. Но для психотерапевта язык представляет собой главное средство и диагноза, и лечения.
Развитие техники психоанализа опережало теоретическое осмысление. Фрейд шел от гипноза, где врач вводит пациента в: гипнотическое состояние и контролирует ситуацию, тогда как говорит практически все время пациент. Этот эмоциональный, драматичный поток слов не осознается пациентом. Катартический метод Брейера, названный первой пациенткой психоанализа («Анна О.») talking сиге уже в явной форме предполагал, что симптомы исчезают вместе с их вербализацией: приходя к слову, аффект как бы разряжается. Техника свободных ассоциаций отличает психоанализ от всех других направлений психотерапии и до сих пор является фундаментом психоаналитической практики. Здесь также говорит почти исключительно пациент, тогда как врач является молчаливым «зеркалом», медиумом коммуникации. Пациент осознает все с ним происходящее, он свободен в каждом отдельном своем высказывании, но направление потока речи, последовательность этих высказываний уже не произвольна. Фрейд обнаружил такие явления, как «перенос» («трансфер») и «контрперенос» бессознательных влечений и некоторые другие особенности психоаналитического диалога. Техника свободных ассоциаций применялась им уже в конце прошлого века, но осмыслялась в духе энергетической модели, нашедшей свое выражение в так называемом «Проекте» (1895), где язык определялся как «суррогат действия», с помощью которого происходит «абреагирование» аффектов. После устранения препятствий психическая энергия выходит на поверхность и разряжается, а вместе с тем исчезают невротические симптомы.
Языковые знаки рассматриваются здесь как физические события, символы выступают как своего рода «симптомы памяти», они не отсылают к мысленному содержанию, знак не имеет содержательной связи с означаемым. Знаки первоначально были для Фрейда простыми сигналами, которые не нуждались в интерпретации[25]. Символами они называются только потому, что одно физическое событие замещает другое.
В «Толковании сновидений» мы имеем дело уже с содержательной трактовкой символов, с так называемой «подлинной символикой» Сeigentliche Symbolik). Символы сновидений, оговорки и другие ошибочные действия нуждаются в толковании, за явным смыслом стоит скрытый. Фрейд сравнивает символы с иероглифами, и такое сравнение достаточно верно передает понимание Фрейдом символизации: иероглифы происходят от пиктограмм, которые чем-то напоминают обозначаемое. Иероглиф требует расшифровки, поскольку его значение непонятно тому, кто не знаком с тем, как трансформировалась в абстрактный знак конкретная пиктограмма. Значения тут неразрывно связаны со знаками, они не зависят от индивидуального опыта.
Тем самым происходит онтологизация символов, которые сводятся к «первичным процессам», к бессознательным влечениям, делаются некими передаваемыми по наследству образованиями. «Подлинной символикой» названы именно те знаки, которые отсылают к вытесненным влечениям. Психоаналитик открывает за явным смыслом вытесненный из сознания, принадлежащий «архаичному наследию», которое «охватывает не только предрасположенности, но также и содержания, следы памяти о переживаниях прежних поколений»[26]. Это наследие соответствует инстинктам животных как коллективная память, сохранившая древние пра-символы некоего палео-языка, предшествующего словесной коммуникации. Иначе говоря, постулируется знаковая система, обладающая собственным синтаксисом и логикой.
Хотя многие лингвисты говорили о плодотворности некоторых идей Фрейда[27], его учение явно расходится с современной философией языка, психологией и лингвистикой. В психоанализе и побудительным источником, и центром образования символов является бессознательное, «Оно», тогда как на долю «Я» остаются «вторичные» процессы переработки и ассимиляции. Фрейд понимал репрезентацию в духе британского эмпиризма и ассоцианизма своего времени. Знаки для него суть копии психических процессов, их зеркальные отображения. Символсимптом однозначно отображает вытесненное влечение (пусть зеркало нередко кривое). Совсем иные концепции развивались в философии, психологии и лингвистике XX века. Символы происходят не от впечатлений, вдавленных как бы в чистую восковую таблицу, но порождены символическими функциями. В основе многообразных человеческих творений лежат не копии внешнего или внутреннего мира — «теория отражения» сохранилась только в рамках догматического марксизма. «Миф и искусство, язык и наука являются конфигурациями по направлению к бытию: это не просто копии существующей реальности, но важнейшие направления движения духа, идеального процесса, конституирующего для нас реальность как единую и множественную — как многообразие форм, которые, в конечном счете, скрепляются единством смысла»[28]. Фрейд недооценивает активность сознания, которое перерабатывает «первичные» процессы. Хотя в сновидениях эта активность минимальна, уже самое первое воспоминание о сновидении есть его интерпретация.
Символ не является просто аббревиатурой уже известного, но открывает пути в незнаемое. Знаки не являются копиями какого-то мира «вещей» (влечений). Мы постигаем мир в формах собственной деятельности. Еще В. фон Гумбольдт писал, что многообразие языков представляет собой многообразие мировоззрений, а не просто звуков и знаков. Язык субъективен по отношению к познаваемому и объективен для человека как эмпирико-психологического субъекта. Фрейд придерживался позитивистской трактовки языка, для которой на область языка распространяются законы, открытые в природном мире. Но язык есть область творчества, духовных форм экспрессии. Если символ понимать как копию, то следует признать, что репродукция всегда хуже оригинала: «истина» влечений может только переживаться. Фрейд постулирует существование «бессознательных идей», представлений, которые еще не входили в сознание. Они суть истинные «отпечатки» влечений, хотя эти «идеи» еще не «переводились» на язык сознания, не артикулировались.
При этом Фрейд не затронул один действительно важный вопрос, который заслуживал внимания того, кто придавал столь большое значение ранним ступеням филои онтогенеза. Мимезис, язык жестов, сопровождающих слова, представляет собой единство физического и психического, внешнего и внутреннего. В детстве речь и жестикуляция еще неразрывно связаны; вполне вероятно, что и в прадревности слова в значительно большей мере привязывались к мимике. Психоаналитики много говорят о «забытом языке», о «палеосимволах», но подразумеваются символы сновидений, однозначно выражающие влечения. Между тем, языковая экспрессия не похожа на «язык» влечений и не является репродукцией: чтобы «обозначать» другое, язык должен быть чем-то иным, нежели простой копией.
Истолкование, предлагаемое психоаналитиком, — это не перевод с одного языка на другой. Повсюду, где мы имеем дело с переводом, встает вопрос об его эквивалентности и адекватности. Распространяется ли понятие эквивалентности на микроединицы текста или речь идет о коммуникативной эквивалентности (когда оба текста способны вызвать один коммуникативный эффект), при переводе всегда встает вопрос об отношении исходного текста и текста-рецептора[29]. И «язык» сновидений, и его «перевод» наделены смыслом и отсылают к внеязыковой реальности. Но интерпретация не является переводом, поскольку образы сновидений впервые обретают словесную форму по ходу толкования. Эти образы не более уподобляемы языку, чем образы живописи или музыки. Отнесенность элементов сновидения и текста интерпретации к одному и тому же предмету еще не есть свидетельство их эквивалентности.
Современные теории, разрабатываемые за пределами психоанализа, ясно указывают на то, что центром формирования символов может быть только «Я» — «Оно» безъязыко, и его роль может заключаться в побуждении определенных символических экспрессий. В некоторых ситуациях происходит высвобождение бессознательных содержаний психики, которые воспринимаются и перерабатываются «Я». Влечения сами по себе не имеют «языка», символической формы, да и не являются единственным источником порождения «внутренних» символов. Для многих современных психоаналитиков бессознательное оказывается резервуаром еще не или уже не символических образований, поскольку символическую форму дают лишь синтезы «Я»[30]. В эго-психологии и в «глубинной герменевтике» подчеркивается роль «Я» в образовании символов как заместителей влечений. Это не означает того, что фрейдовская теория бессознательного должна быть вообще отброшена: репрезентация не сводится к одной лишь символической форме — «сознательные представления имеют форму символов, бессознательные представления, напротив, не являются символическими структурами»[31]. Вытесненные из языковой коммуникации представления утрачивают символическую форму, но не утрачивают ни своей интенциональности, ни динамически-энергетических характеристик. Они могут вернуться в символический ряд, поскольку некогда ему принадлежали. Находясь в бессознательном, они действуют как «клише», вызывают принудительную реакцию. Такого рода вытесненные содержания не знают разграничения знака и объекта, но они способны вызывать навязчивые действия и симптомы, в которых ощутима строгая детерминация, стереотипность — один и тот же «неизнашиваемый» образец заявляет о себе в сновидениях, фантазиях, действиях пациента. Но для того, чтобы действовать подобным образом, эти «клише» должны были когда-то стать символами, а затем быть вытесненными, «экскоммуницированными». Именно в этом заключается главное открытие Фрейда, тогда как его теория символизма, порождаемых «первичными процессами» бессознательных идей может быть оставлена без всякого ущерба для практики психоанализа.
Наряду с онтологизацией символики бессознательного, несмотря на превращение психологии в метафизику, у Фрейда всегда присутствовал и совсем иной подход к бессознательному. Его можно назвать функциональным. Он заметен уже во многих трудах Фрейда, но так и не стал для него основополагающим. Поэтому в работах Фрейда имеется множество оговорок по поводу eigentliche Symbolik, а на практике он очень мало пользовался «иероглифами», за которыми в обязательном порядке обнаруживались гениталии. Символы сотканы из материала ассоциаций, они связаны с жизненной историей индивида. В ортодоксальном психоанализе произошла релятивизация двух тезисов Фрейда: о постоянстве значений символов и об их независимости от индивидуальных условий. Классической для психоанализа стала работа Э. Джонса «Теория символизма» (1918), в которой была предложена целостная концепция, отвергающая две крайности: во-первых, упомянутую выше онтологизацию символов (критикуя Юнга автор отчасти задевает и Фрейда); во-вторых, противоположную тенденцию — размывание границы между сознанием и бессознательным, между «первичными» и «вторичными» процессами. Джонс в известной мере считается с тем, что все разрабатываемые вне психоанализа теории символа, связывают символическую функцию с деятельностью сознания. Он не отрицает роли апперцепции в образовании символов: они являются компромиссными формами, состоят из сознательных и бессознательных элементов. Общими для всех символов он полагает следующие черты: сходство знака и обозначаемого, сгущенность знака в сравнении с денотатом, сокрытость означаемого, красочность символического мышления в сравнении с научным и предшествование первого второму (с указанием на символичность детского и первобытного мышления).
Но главным для Джонса и для всех фрейдистов является вытеснение, как главный источник образования символов. Критикуя Юнга, ближайший в то время ученик Фрейда, С. Ференци писал: «Не все то, что стоит на месте другого, является символом… Символом в психоаналитическом смысле такое уравнение становится лишь в тот момент, когда цензура вытесняет первоначальное значение уравнения в бессознательное»[32]. Только там, где исходное значение вытесняется в бессознательное, где оно недоступно прямому постижению из-за сопротивления, в сознании появляется тот иероглиф, который одновременно говорит и умалчивает, открывает и скрывает. Иначе говоря, лишь то, что было вытеснено и не может вернуться по причине «цензуры», нуждается в символической репрезентации. Психоаналитик занят расшифровкой не просто сложного «текста», где есть пропуски и искажения; эти пропуски имеют собственную логику, связаны с «работой» той инстанции, которая систематически искажает «текст» мыслей и переживаний человека, что сам он не отдает себе отчета, не замечает искажений. Более того, явный смысл часто является результатом рационализаций, то есть идеализированных мотивов, скрывающих подлинную мотивацию. Желаемое принимается за действительное (Wunschdenken, wishful thinking'), но иллюзии имеют значение как замещения подлинных устремлений.
Именно эти идеи Фрейда представляют собой сущность психоаналитического подхода, а потому можно отказаться от фрейдовского пансексуализма и натурализма, даже от специфической для Фрейда трактовки влечений (по схеме возбуждение — удовлетворение) — главное, что сохраняется, это динамическая картина взаимодействия различных инстанций психики, вытеснение одних содержаний другими и символизация одних другими.
Теория символа непосредственно связана с методом интерпретации. Пока символы являются просто сигналами, как симптомы в соматической медицине, то никакое истолкование в строгом смысле слова не требуется. Конечно, всякий опытный терапевт по внешним признакам диагностирует болезнь, но боль в боку, слезящиеся глаза или покраснение кожи в «толковании» не нуждаются, будучи такими же соматическими явлениями, как внутренние процессы. Даже в клинической психиатрии те или иные симптомы и синдромы — психические по форме и содержанию — указывают на какие-то реальные или гипотетические нарушения соматического порядка. Физическое явление «а» здесь относит к процессу «А», который объясняется теоретической моделью, а не истолковывается. Если же символы представляют собой знаки особого рода, если они указывают одновременно на явный и скрытый смысл, то возможным и необходимым оказывается их истолкование, расшифровка скрытых значений за явными.
В «Толковании сновидений» Фрейд самым недвусмысленным образом отказывается не только от религиозно-мифологического истолкования, но и от наследия немецкого романтизма. Фрейд пренебрежительно говорит о «символическом толковании», которое на место одного целостного образа ставит другой. Символы мифологии или поэзии могут целостно выражать соответствующее переживание или божественный образ, особенное и всеобщее тут даже неразличимы, значение просвечивает сквозь мифологический образ. В романтизме «осмысленный образ» (Sinnbild) представляет собой единство явления и значения, чувственного и сверхчувственного, где «чувственное — это не просто ничтожество и мрак, но истечение и отблеск истинного»[33]. К такому «символическому толкованию» склонялся Юнг: символ сновидения у него целостно передает «пра-образ», архетипическое представление, чуть ли не платоновский эйдос, поднимающийся из бессознательных глубин. Для Фрейда и большинства его последователей подобное толкование означает подмену науки мифологией или даже оккультизмом. Невротический симптом не является ни мифологическим образом, ни каким-то единством смысла, которое могло бы вести самостоятельное существование и целостно выражать невротический конфликт. Образ сновидения искажает скрытый смысл. Правда, чтобы истолковать «текст» конкретного симптома, Фрейд переходит ко все более общим контекстам, которые также оказываются «текстами»: эдипов комплекс у нашего современника отсылает к первобытной орде, к «архаичному наследию» коллективной памяти. Метафорическое теоретизирование по поводу культуры дает расшифровку конкретному случаю, который, в свою очередь, делается небольшим отрывком универсальной книги человеческого бытия.
Поэтому элементы «символического толкования» были и остаются важной стороной психоанализа, в особенности в культурологии, эстетике и социологии. Символическое толкование идет рука об руку с телеологическим, поскольку «первичные влечения» задают финальную цель всех психических процессов. Юнг прямо признавал, что его толкование является телеологическим. Фрейд считал себя сторонником детерминизма, но и у него нередко смешиваются заранее постулированная устремленность всех психических процессов и результат истолкования данного конкретного случая.
Тем не менее наивная телеология в духе Аристотеля никогда не преобладала в психоанализе. Всякое функциональное истолкование предполагает телеологию, поскольку часть выступает как функция целого. Качественные функциональные отношения вообще выразимы лишь в телеологических, вернее, квазителеологических суждениях. Их можно сформулировать в телеологических терминах, «истинность которых, тем не менее, зависит от истинности номических связей. Объяснения этого вида гораздо чаще отвечают на вопросы о том, как нечто произошло или стало возможным, …чем на вопросы о том, почему нечто произошло с необходимостью»[34]. Понятны трудности, стоящие на пути превращения психологии в естественную науку, ставящую на место качественных зависимостей количественные. Психоанализ, в отличие от академической психологии, имеет дело со сложными психическими феноменами, которые не поддаются квантификации. Попытки Фрейда измерять эти явления квантами энергии не шли дальше метафор. Однако, наличие квазителеологических объяснений не делает психоанализ «антинаучным», поскольку к ним прибегают многие научные дисциплины, имеющие дело с качественными переменными. Такие суждения не служат для предсказания будущих событий, но по наличному событию или процессу находят предшествующие необходимые условия, отвечая не на вопрос «почему?», а на вопрос «как возможно?». Г. X. фон Вригт удачно назвал их «ретросказаниями». В психоанализе, как и в медицине в целом, значительную роль играют индуктивновероятностные модели, объясняющие не «почему» события произошли, но вероятность их ожидания. Невротические нарушения более вероятны у пациента с таким детством и с такими конфликтами. Там, где у Фрейда речь идет о психической причинности, М. Шелер (в «Сущности и формах симпатии») предлагал говорить о судьбе. Сознательно судьбу не выбирают, ее линии в значительной мере определяются впечатлениями раннего детства, периодом формирования характера. Настоящее и будущее зависят от прошлого, но это не жесткая детерминация, а ограничение круга возможностей. Каждое переживание имеется лишь единожды, оно уникально, занимая свое место в жизни индивида. Но они кристаллизируются в черты характера, склад ума, преобладание определенных аффектов; что-то получает перевес, что-то блокируется. Одни события становятся более вероятными, чем другие.
В психоанализе доминируют такого рода «ретросказания» и индуктивно-вероятностные модели, хотя Фрейд придавал им черты универсальных каузальных закономерностей. В действительности они не объясняют, но оправдывают определенные ожидания и предсказания на основе имеющегося эмпирического опыта. Психоанализ вполне может оставаться научной дисциплиной, даже если мы отбросим его формулировки универсальных законов. Но не удивительно то, что последователи Фрейда держатся этих обобщений метапсихологии: если постулированные общие законы таковыми не являются, то психоанализ из многообещающей общей психологии (и тем более философской доктрины и даже рода обмирщенной религии) становится прикладной наукой — эвристически ценной, но ограниченной пределами медицинской практики и требующей иной теории, устанавливающей номические связи.
Многие психотерапевты психоаналитической ориентации фактически вообще отказались от поиска причин даже применительно к неврозам. Произошло смещение от установления «почему» тот или иной аффект возникает у пациента, к тому «что» и «как» он переживает. Лечебное действие вызывает не установление причин: «интерпретация отныне — это встреча пациента со своим опытом»[35]. Исторические реконструкции раннего детства уступают место анализу актуальных переживаний. Пациент сам придет к тому или иному «почему» после того, как сумеет постичь «что» — содержание своих переживаний и конфликтов. Подобная реформа психоанализа угрожает ему тем, что название «глубинная психология» станет излишним, да и все притязания на оригинальную теорию оставляются во имя эффективности терапии. Исчезает и символическая репрезентация латентного содержания явным.
Преобладание символического и финального толкования делает психоанализ родом мифологии. Признание господства квазителеологических «ретросказаний» и индуктивно-вероятностных моделей сохраняет звание науки, но прикладной и лишенной всех притязаний. Редукция бессознательного символизма к актуальным переживаниям делает психоанализ прагматически эффективной терапией, вообще лишенной теоретического основания. Таковы последствия принятия методов толкования, которые часто встречаются в психоаналитической литературе.
Но психоанализ не исчерпывается этими методами интерпретации. Толкование отдельных симптомов или сновидений связано с дескриптивным понятием бессознательного; здесь фиксируются ошибки, пробелы, несообразности, умолчания. С систематическим понятием бессознательного, которое должно объяснять эти разрывы, связаны так называемые «реконструкции» индивидуальных случаев. Симптомы или сновидения входят в целостность биографии пациента. То, что внешне кажется лишенным смысла, на самом деле им наделено, только это смещенный и деформированный смысл. Сознание, вопреки всей философии cogito, недостоверно, оно не может служить основанием себе самому и всему другому. Психоанализ является «археологией субъекта», и метод истолкования, наиболее характерный для Фрейда, — это генетическое истолкование, роднящее психоанализ не с естествознанием, а с герменевтикой.
По следам, оставленным каким-то психическим процессом, нужно определить сам этот процесс, подобно тому, как археолог восстанавливает образ древней колонны по одной оставшейся ее части, либо подобно детективу, находящему преступника по оставленным им следам и приметам. 3. Бернфельд, кажется, первым определил психоанализ как «следопытство» (Spurenwissenschaft). «Преступление» здесь совершено тем процессом, который вызвал нарушения. Конечно, предпосылкой генетического толкования является некая общая модель психики, в которой утверждается, во-первых, что психические процессы оставляют следы, а во-вторых, между этими следами и процессами должна существовать такая содержательная связь, что следы символизируют процессы, замещают их. Наконец, требуется знание механизма преобразования прошлого явления в символ. Конечно, след мог остаться и от совсем другого процесса, нам неизвестного (либо вообще не осталось никакого следа). Как это нередко случалось с Фрейдом, он облегчил себе и своим последователям жизнь, приняв в качестве постулата, что все события психической жизни сохраняются в памяти[36]; более того, они передаются по наследству. Это допущение сделало возможным сомнительные аналогии между явлениями индивидуальной жизни и социальными феноменами.
Однако реконструкция прошлого по оставленным следам совсем не обязательно требует столь широких обобщений. Достаточным условием генетического толкования является тезис, согласно которому отдельные психические процессы поддаются реконструкции по их замещениям. Таким методом реконструкции пользуются многие гуманитарные науки. Генетическое толкование не сводится к квазителеологическим объяснениям, и даже Шерлок Холмс не ограничивался индукцией, хотя обосновывал каждый шаг индуктивными выводами. «Науки о духе» постигают конкретное явление на базе общих знаний, имеющегося опыта, но здесь интерес представляет само индивидуальное, не сводимое к общему закону. Генетическое толкование, «реконструкция» каждого явления в контексте истории жизни являются наиболее плодотворными сторонами психоаналитической интерпретации.
Какой бы ни была техника толкования сновидений в различных вариантах «глубинной психологии», несомненным является терапевтический эффект. Интерпретация может быть ложной, а пациенту все равно становится лучше. Сами по себе сновидения не дают улучшения, поскольку они не ведут к изменению личности. Лишь там, где пациент включает содержание сновидений в дневную жизнь, оно способствует трансформации его установок и стремлений. Врач помогает пациенту не столько тем, что предлагает некую технику интерпретации, связанную с его теоретическими постулатами, сколько тем, что помогает пациенту обратиться к собственным душевным конфликтам, прояснить детали, связать содержание сновидений с другими представлениями, с ситуацией невротика. Многое здесь зависит от установившихся доверительных отношений врача и пациента, а не от техники толкования или теории сновидений.
- [1] Freud S. Traumdeutung. Studienausgabe. Fischer; F. a. M., 1971. Bd. 1. S. 24.
- [2] Правда, уже Ральф Кудворт, кембриджский богослов XVII века возражал Декартуименно ссылками на мир сновидений: душа не исчезает и в глубоком сне, в летаргииили апоплексии; наша душа не все время осознает, что в ней имеется. Спящий геометр сохраняет во сне все свои теоремы, а музыкант — свои музыкальные способностии мелодии.
- [3] Фрейд 3.
Введение
в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1988. С. 79.
- [4] Morin Е., Piatelli-Palmarini М. L’Unite de Phomme. 2. Le cerveau humain. Paris; Seuil, 1974. P. 103.
- [5] Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. С. 220.
- [6] Лотман Ю. М. Культура и взрыв. С. 223.
- [7] Фрейд излагает теории Мори, Шернера, Штрюмпеля, Фолькельта, Делажа.Г. Ф. Элленбергер дает подробное изложение этих (а также некоторых других — Эрве деСен-Дени, например) дофрейдовских теорий и показывает их влияние на Фрейда. См.:Ellenberger Н. F. The Discovery of the Unconcious. P. 303—311.
- [8] Сегодняшние сонники значительно хуже античных образцов, поскольку почти длякаждого приснившегося бытового предмета в них обнаруживается скрытый смысл. Древние авторы отличали загадочные сны и пророческие видения, сны-оракулы, требующиесимволического толкования, от снов-грез, которые «всегда навязывают спящему те жедушевные, телесные и житейские заботы, какие обременяют его, пока он бодрствует"(Амвросий Феодосий Макробий. Комментарий на «Сон Сципиона», «Знание за пределаминауки». М.: Республика, 1996. С. 276). Сны-грезы и сны с фантастическими видениями, напоминающие дневные «сны наяву», не интересовали древних толкователей.
- [9] Freud S. Traumdeutung. Studienausgabe. Fischer, F. a. M., 1971. Bd. I. S. 117.
- [10] Ibid. S. 118.
- [11] Фрейд 3.
Введение
в психоанализ. Лекции. 1988. С. 81.
- [12] Из этого следует, что детям не должны сниться страшные или неприятные сны. Любой внимательный родитель или воспитатель яслей и детского сада знает, что этоне так. Животные лишены «цензуры», а потому им тоже не должны сниться неприятныеили страшные сновидения, с чем вряд ли согласятся не только биологи, но и владельцыкошек или собак.
- [13] Первоначально Фрейд относил Angstneurose к «актуальным неврозам» и считал страх трансформацией либидо. В соответствии с «принципом постоянства», нервная система имеет тенденцию к сохранению количества возбуждения. Когда психикане в состоянии переработать растущее сексуальное напряжение или если оно не разряжается, то возникает состояние страха. Накопленное возбуждение тут превращаетсяв страх (страх относится к либидо, как уксус к вину, писал Фрейд). В дальнейшем онсвязывал неврозы страха (тревожности) с беспомощностью «Я» перед лицом внутренней или внешней угрозы (не обязательно реальной), тогда как к психоневрозам у негоотносились фобии.
- [14] Кстати, уже эти примеры можно оспорить. Речь идет о символах с фиксированными значениями, то есть всякий раз, когда в сновидении присутствуют царственныеособы, они обозначают наших родителей. Фрейд прожил половину жизни в монархии, где многим придворным снились сны, содержащие императора с императрицей, которые вряд ли обозначали их родителей. Если путешественнику снится отъезд, то он врядли обозначает смерть, хотя уезжающий на долгое время и прощающийся с близкимизнает, что какое-то прошлое «умерло» (как говорится во французской пословице: partir, c'est mourir un peu).
- [15] Фрейд 3.
Введение
в психоанализ. Лекции. С. 104.
- [16] Фрейд 3.
Введение
в психоанализ. Лекции. С. 103.
- [17] В третьем издании «Толкования сновидений» Фрейд делает интересную оговоркув примечании: он преуменьшал значение «снов наяву», «дневных фантазий», пока анализировал свои собственные сновидения, в основе которых лежали главным образом"споры и конфликты мыслей". Кстати, он не объясняет того, как эти споры и конфликтывмещаются в его трактовку сновидения, как галлюцинаторного исполнения желаний, да еще не каких-нибудь, а детских инцестуозных влечений. Немалое число приводимыхФрейдом собственных сновидений вступают в противоречие с его теорией.
- [18] Фрейд 3.
Введение
в психоанализ. Лекции. С. 107, 125.
- [19] Там же. С. 143. В связи с превращением мыслей в зрительные образы он писалеще яснее: «Запомним, что не все в мыслях сновидения подлежит этому превращению, кое-что сохраняет свою форму и появляется в явном сновидении как мысль или знание"(с. 109).
- [20] Там же.
- [21] Там же. С. 309.
- [22] См., например: Condrau G. Einfuhrung in die Psychotherapie. Geschichte, Shulen, Methoden, Praxis. Fischer; F. a. M., 1989.
- [23] В качестве примера можно взять знаменитый случай «маленького Ганса», который был явной подгонкой наблюдений под теорию. Но и в других «историях болезни"мы находим нечто сходное. Скажем, в случае «Люси Р.» за вытесненным конфликтомс хозяином Фрейд упорно желал обнаружить либидонозное влечение к хозяину, а заним, вероятно, влечение раннего детства к собственному отцу.
- [24] Полный отказ от фрейдовского редукционизма в толковании сновидений ничутьне препятствует психоаналитической практике. Это особенно хорошо видно по трудаманалитиков, прошедших школу феноменологии и Daseinsanalyse Хайдеггера (Бинсван-гер, Босс).
- [25] В качестве примера того, как в ранний период развития психоанализа Фрейдпредставлял себе соотношение знака-симптома и его причины, можно привести комментарий Фрейда к его переводу на немецкий работ Шарко: «Ядром истерическогоприпадка, в какой бы форме он не проявлялся, будет воспоминание, галлюцинаторноепереживание значимой для заболевания сцены… Содержанием воспоминания, как правило, является психическая травма, в зависимости от интенсивности которой либо сразупровоцируется истерический приступ у больного, либо необходимо событие, котороесвоим вмешательством в какой-то момент пробудит эту травму… Травму можно было быопределить, как рост возбуждения в нервной системе, с которым последняя не способнадостаточным образом справиться посредством двигательных реакций. Истерическийприпадок, видимо, следует представлять как попытку завершения реакции на травму"(цит. по: Lorenzer A. Intimitat und soziales Leid. Archaologie der Psychoanalyse. F. a. M., 1984. S. 157). Здесь хорошо видно то, что Фрейд исходил из физиологической и дажефизикалистской трактовки травмы, которая действует наподобие физической силы, а воспоминание о травме есть просто оставленный этим процессом след.
- [26] Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1992. С. 223.
- [27] См., например: Benveniste Е. Problemes de linguistique generale. Paris, 1966;Kristeva J. Le langage, cet inconnu. Paris; Seuil, 1981.
- [28] Cassirer E. The Philosophy of Symbolic Forms, v. 1: Language. New Haven & London, Yale, 1955. P. 107.
- [29] См.: Швейцер А. Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988.
- [30] См.: LorenzerA. Kritik des psychoanalytischen Symbolbegriffs. F. a. M., 1970.
- [31] Lorenzer A. Sprachzerstorung und Rekonstruktion. F. a. M, 1969. S. 113.
- [32] Ferertczi S. Bausteine zur Psychoanalyse. Leipzig, 1927. Nachdruck Bern u. Stuttgart, 1964. В. 1. S. 247.
- [33] Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 118.
- [34] Фон Вригт Г. X. Логико-философские исследования. Избранные труды. М.: Прогресс, 1986. С. 117.
- [35] Singer Е. Key Concepts in Psychotherapy. N. Y.: Random, 1965. P. 203.
- [36] С известными оговорками: «Нам следует твердо держаться того, что сохранениепрошлого в душевной жизни есть, скорее, правило, нежели исключение». Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. 1992. С. 73.