Лекция 5 Проблема соотношения предопределения и свободы.
Понятие целевой причинности
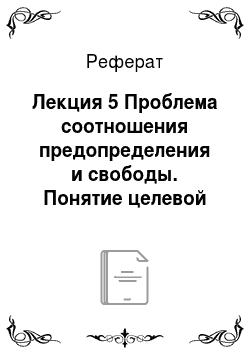
Собственно, последнее утверждение можно отнести ко всему, что существует в сотворенном мире: все, что есть или случается, «предрекает истинную мудрость», т. е. имеет абсолютный смысл именно потому, что является порождением абсолютной причины. В силу того что действие этой причины нс может быть во всей полноте постигнуто человеческим умом, а следовательно, подлинный смысл каждого явления или вещи… Читать ещё >
Лекция 5 Проблема соотношения предопределения и свободы. Понятие целевой причинности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Понятия необходимости и случайности, возможности и действительности, причины и следствия также приобретают в контексте идеи сотворенного мира принципиально иную смысловую окраску по сравнению с представлениями о законосообразности античного космоса. Основным моментом, определяющим эту инаковость, становится положение о неприменимости к Богу-Творцу каких-либо ограничивающих его законов. Мир сотворен по Слову, которое есть не что иное, как проявление свободной воли Творца. Таким образом, именно эта воля и становится в рамках онтологии творения основанием того порядка, который определяет как устройство мира, так и все происходящие в этом мире события.
Именно потому, что Творец трансцендентен миру, его воля и его разум сливаются в абсолютном единстве, непостижимом для человеческого ума. Поэтому-то и требуется «прыжок веры», с которого начинается путь осмысления сотворенного мира: будучи продуктом свободного творящего действия, мир не может быть «выведен» из некоей закономерности, поэтому он прежде всего должен быть принят человеком как данность и уже потом — осмыслен, в меру ограниченных человеческих возможностей. Свободная воля Творца как источник всего существующего есть то, что в принципе не подлежит познанию, ведь познание всегда связано с установлением некоей определенности.
С этим парадоксальным моментом связаны и те положения о непознаваемости божественного замысла относительно мира, которые столь часто встречаются у средневековых христианских мыслителей. Так, Иоанн Скот Эриугена, шотландский мыслитель IX в., формулирует этот парадокс («Бог не знает и знает себя одновременно») в точном соответствии с традицией апофатического богословия: «Как же беспредельное может быть в чем-то определено самим собою или в чем-то постигнуто, если оно познает себя сущим превыше всего предельного и беспредельного, предельности и беспредельности? Следовательно, Бог не знает о себе, что он есть, ибо он не есть никакое „что“; ведь он ни в чем непостижим ни для самого себя, ни для какого бы то ни было разумения. И насколько он не постигает себя как нечто существующее в вещах, им сотворенных, настолько же он постигает себя как сущее превыше всего, и потому неведение его есть истинное постижение. И насколько он не знает себя в сущих вещах, настолько же он знает, что возвышается надо всем; и потому через незнание себя самого лучше знает себя самого. Ибо лучше знать себя удаленным от всех вещей, нежели если бы Бог знал себя включенным в число всех вещей»[1].
То, что по отношению к Богу выступает как два вида постижения — «незнание себя существующим в вещах» и «знание себя сущим превыше всего», — по отношению к человеку оборачивается соотношением непостижимости Творца и знания (ограниченного, неполного) о сотворенном мире. Таким образом, любая упорядоченность, закономерность, обнаруживаемая человеком в мире, имеет только условный статус, коль скоро «за» этой закономерностью скрывается непостижимая свободная воля Творца. Вместе с тем эта закономерность должна приниматься человеком как нечто незыблемое: в отличие от античного космоса, в котором все происходящее «управляется» безличной судьбой, все события и закономерности сотворенного мира в конечном счете имеют одно объяснение и оправдание: «Так захотел Бог», т. е. восходят к божественной личности. Поэтому принятие сотворенного мира в его упорядоченности также осуществляется не разумом, но верой, иными словами, это акт доверия одной личности (сотворенной) другой Личности — творящей.
Разум здесь оказывается вторичным именно потому, что действие Творца, так же как и действие сотворенного человека, имеет своим истоком непостижимое свободное ядро личности. Таким образом, принять следует именно видимый, «вещный» порядок сотворенного мира, который может быть непосредственно воспринят чувствами, коль скоро замысел мира, его, так сказать, идеальный план, человеку недоступен. О том, какой должна быть связь между вещами, знает только Бог. Человек же видит эту связь такой, какова она в самом сотворенном мире, со всеми ее погрешностями и несообразностями. Именно поэтому человеческое знание о закономерностях мироустройства может быть только следствием наблюдения за происходящим и обобщением частных случаев в некое общее правило — обобщением всегда приблизительным и неточным. Такое знание общих закономерностей не может объяснить и тем более предсказать все происходящие события, в особенности же те из них, которые не укладываются в эту, всегда приблизительную, схему.
Однако эти события, которые для конечного человеческого ума предстают как случайные, должны быть признаны восходящими к божественному замыслу, а следовательно, столь же необходимыми в сотворенном мире, как и закономерные события. Божественное всеведение в одинаковой степени распространяется на то, что кажется человеку относящимся к мировому порядку, и на то, что кажется выпадающим из этого порядка, как об этом говорит Фома Аквинский: «…можно, при известном [старании], понять, что Бог от века обладал непогрешимым знанием случайных единичных [вещей], которые от этого не перестают быть случайными. Божье знание не было бы истинным и совершенным, если бы вещи происходили не так, как Он знает, что они произойдут. Будучи знатоком всего бытия, которого Он есть начало, Он знает каждое следствие не только само в себе, но и в его соотношении с любыми его причинами. А отношение случайных [вещей] к их ближайшим причинам состоит в том, что они происходят из этих вещей случайно [т. е. могут быть, а могут и не быть]. Значит, Бог знает о некоторых [вещах] и то, что они произойдут, и то, что они произойдут случайно. Таким образом, достоверность и истинность Божьего знания не уничтожает случайного характера вещей»[2][3].
Это рассуждение Аквинского проливает свет на различие между случайным и необходимым в контексте онтологии творения: речь идет о различном отношении событий к своим «ближайшим причинам», т. е. к другим событиям, происходящим в сотворенном мире. Это отношение может выглядеть — для человека — устойчивым, повторяющимся, и тогда оно будет рассматриваться как необходимое в смысле закономерности. Если же это отношение выглядит как «частный случай», то человеческий ум воспринимает его в качестве случайного, так же как и сами события, связанные этим отношением. Иными словами, различие между необходимым и случайным — это различие для человека, а не для Бога, что Фома и подчеркивает со всей определенностью: «Причина нашего знания — вещи; поэтому мы нередко познаем вещи необходимые не как необходимые, но как всего лишь вероятные (т. к. необходимое совершеннее вероятного). Но как для нашего познания причина — вещи, так Божье познание — причина познанных им вещей. Следовательно, вещи, о которых Бог имеет знание необходимое, сами по себе могут быть случайными"'99.
Отсюда становится понятным тот консерватизм, с которым средневековый европеец относился к установленному порядку вещей — будь то порядок мира в целом, порядок в обществе или в отдельных его «сегментах». По свидетельству историка,". .доказательством истины в феодальную эпоху было «извечное» существование. Вот, например, конфликт, в котором в 1252 г. выступали друг против друга сервы собора Парижской богоматери в Орли и каноники. Каким образом стороны доказывали свою правоту? Крестьяне утверждали, что они не должны платить капитулу подать, а каноники возражали, опираясь на опрос осведомленных людей, которых спрашивали, что говорит на этот счет традиция («молва» — fama). Даже в том, что касается знати, гарантией почтенности была прежде всего древность рода. Именно это, скорее, чем отбор высшего духовенства по социальному признаку, в большей степени объясняет значительное количество знатных среди святых и тот факт, что благородное происхождение приписывалось многим святым, на самом деле его не имевшим"[4].
В самом деле, в ситуации, когда основания существующего порядка не могут быть предметом знания, но должны приниматься на веру, не остается ничего другого, кроме стратегии сохранения самого порядка — во что бы то ни стало. Именно поэтому и стремление изменить свое социальное положение подвергается в средневековом европейском обществе безоговорочному осуждению: «Круг мышления, как и круг деятельности, был равно замкнут писанием и традицией. Ничего нового, только восстановление пришедшего в упадок былого, неизменен сам человек, он не меняет от рождения заданные ему условия и, следовательно, свое положение, он приспосабливается к унаследованным условиям»[5].
Таким образом, за различением необходимости (как некоей закономерности) и случайности (как «того, чего могло бы и не быть») скрывается в конечном счете свободная воля Творца, которая применительно к сотворенному миру оказывается в равной степени необходимой, т. е. требующей безоговорочного принятия. Здесь оппозиция «необходимость — случайность» трансформируется в проблему отношения необходимости и свободы. Так же как и по отношению к судьбе, управляющей круговращением античного космоса, свобода человека по отношению к воле всемогущего Творца кажется на первый взгляд химерой. Однако, подобно тому как античный герой обретает свободу в сознательном принятии своей судьбы, в сотворенном мире человек (который, вспомним, мыслится прежде всего как духовное существо) становится свободным там и тогда, где и когда сознательно подчиняется воле Бога.
Гордыня — один из самых тяжких грехов, а смирение — одна из величайших христианских добродетелей именно потому, что гордыня ведет к рабству, а смирение освобождает. В отношении сотворенного мира можно говорить лишь о двух онтологических возможностях: соответствие замыслу творения (творящей воле) и отступление от этого замысла. Первое ведет к свободе, второе — к рабству, и эта мысль постоянно проговаривается христианскими средневековыми мыслителями. Одна из самых отчетливых формулировок этого положения принадлежит Августину: «…грех — первая причина рабства, по которому человек подчиняется человеку в силу состояния своего, и это бывает не иначе, как по суду Божию, у которого нет неправды и который умеет распределять различные наказания соответственно винам согрешающих. А так как верховный Господь говорит, что „всякий, делающий грех, есть раб греха“ (Иоанн. 8; 34) и потому многие благочестивые служат господам неправедным, которые сами, однако, не свободны, „ибо, кто кем побежден, тот тому и раб“ (2 Пет. 2, 19), — то во всяком случае лучше быть рабом у человека, чем у похоти, ибо самая похоть господствования, чтобы о других не говорить, со страшною жестокостью опустошает души смертных своим господствованием. В порядке же мира, по которому одни люди подчинены другим, как уничижение приносит пользу служащим, так гордость вредит господствующим. Но по природе, с которой Бог изначала сотворил человека, нет раба человеку или греху»[6].
Итак, человек, признавая себя существом сотворенным (т. е. имеющим начало своего бытия в Боге), состояние свободы обретает ровно в той степени, в которой приобщается к этому божественному началу, — становится духовным существом. Приобщение к Творцу, как принятие в себя духа, осуществляется, таким образом, посредством преодоления в себе тварного (природного, телесного и душевного, психического) начала. По сути дела, свобода здесь означает подчинение онтологически высшему в противоположность рабству как подчинению онтологически низшему, вторичному. Идя на поводу у телесных желаний и душевных страстей, человек тем самым искажает порядок бытия, онтологическую иерархию, согласно которой дух должен первенствовать по отношению к телу и душе. Свобода, иначе говоря, обретается в том «пространстве», которое создается движением человеческого духа (который одновременно является божественным, т. е. — Святым Духом), и смыслом этого движения выступает отказ человека от своей тварной природы, ее преодоление. С исключительной тонкостью это парадоксальное «место свободы» описывается в трактате Пьера Абеляра «Этика, или Познай самого себя»: «Бог не может пострадать ни от какого ущерба, кроме презрения. Ибо сам Он — высшее Могущество, которое не умалится никаким ущемлением, но Он мстит за презрение к себе. Итак, грех — это презрение нашего Творца, и грешить — значит презирать Творца, то есть не совершать ради Него того, что, мы верим, нам надлежит делать ради Него, или же нс отрекаться ради Него от того, от чего, мы верим, нам надлежит отречься ради Него. Определяя таким образом грех чисто отрицательно, говоря: не делать либо не отрекаться от того, от чего следует отречься, — мы ясно показываем, что нет никакой субстанции греха, потому что он заключается скорее в небытии (non esse), нежели в бытии (esse), подобно тому как мы сказали бы, определяя тень: это — отсутствие света там, где должен быть свет»[7].
«Отрицательное определение» греха оборачивается здесь положительным определением свободы — как синонима бытия и действия, точнее — бытия-действия, имеющего божественную природу. Открывая и производя в себе божественное начало (дух), человек в опоре на это начало преодолевает то, «от чего следует отречься», — телесные и душевные аспекты своего существования.
Однако это преодоление связано не с отказом от своей тварной природы, но с ее принятием и соответственно с выходом за ее пределы. Парадоксальное понимание свободы как смирения требует, следовательно, принятия человеком своей двойственной, «промежуточной» природы. Именно эта двойственность, как подчеркивает Абеляр, выступает источником страданий и одновременно условием главной онтологической задачи человека как сотворенного существа: свободно исполнить замысел Творца о себе: «Где же битва, если нет источника для сражения? И откуда бы взяться награде, если бы не было того, за что мы тяжко претерпели? Когда сражение завершилось, не с чем уже бороться, остается только получить награду; в этом мире мы непрестанно сражаемся, чтобы в том получить венец победителя. Но, чтобы битва состоялась, нужно существование врага, который бы сопротивлялся и совершенно не ослабевал. Этот враг — наша злая воля, над которой мы одерживаем победу, подчиняя ее Божьей воле, [но] подчиняя не полностью, так что всегда у нас остается то, против чего мы могли бы упорно бороться»294.
Это свободное принятие своей ограниченности, неполноты, выражающейся в присутствии «злой воли», становится условием обретения полноты, т. е. приобщения к источнику бытия. В силу того что это принятие осуществляется духом, оно должно быть понято как действие в человеке божественного начала, подчиняющего себе все вторичные, «тварные» моменты человеческого бытия. Здесь вопрос о свободе оказывается неразрывно связанным с той гранью проблематики детерминизма, которая осмысляется посредством категорий возможности и действительности. Соотношение этих понятий в контексте онтологии творения можно определить евангельским положением «Человекам это невозможно — Богу же все возможно»[8][9]. Речь здесь идет отнюдь не об архаической вере в некое всемогущее существо, но вес о том же действии выхода за (на) предел сотворенного мира, об «отрицательном» определении Бога как того, кто не связан никакими «посюсторонними» (т. е.
доступными для человеческого ума) ограничениями. Всемогущество Бога-Творца — еще одна грань его свободы по отношению к сотворенному им миру. В этом смысле возможность означает именно мощь, способность Бога, совпадающую (в силу своего абсолютного характера) с действительностью: эго возможность в действии.
Именно об этой возможности говорит Фома Аквинский в рассуждении, которое, на первый взгляд, просто воспроизводит положение Аристотеля об уме-перводвигателе: «Мы видим, что все, что есть в мире, переходит из потенции в акт. Но оно не само переводит себя из потенции в акт, ибо того, что есть в потенции, еще нет, а потому оно и не может действовать. Потому следует, чтобы сначала было нечто другое, при помощи чего потенциально сущее было бы переведено из потенции в акт. И затем снова, если и та первая вещь переходит из потенции в акт, необходимо прежде нее предположить еще нечто, что перевело бы ее в акт. Но так не может продолжаться до бесконечности. Потому необходимо дойти до некоторой вещи, которая только актуальна и никоим образом не потенциальна, а ее мы именуем Богом»[10].
Необходимость дойти до «чистой актуальности» имеет здесь логический характер, в силу чего различие между учениями Аристотеля и Фомы стирается. Между тем это различие есть, и при всей его тонкости оно является принципиальным: в учении христианского мыслителя Бог — опорный пункт рассуждения, причем такой пункт, который устанавливается догматически: Бог трансцендентен, а значит — есть «нипочему», он, как выражается Аквинский, «необходим сам по себе» и именно поэтому есть «чистая актуальность»: «Бытие, необходимое само по себе, ни в каком отношении не есть — бытие возможное: потому что бытие, само по себе необходимое, не имеет причины; а всякое возможное бытие имеет причину, как показано выше. Бог же есть бытие, необходимое само по себе. Следовательно, он ни в каком отношении не есть возможное бытие. Значит, в его субстанции не находится ничего потенциального»[11].
Подобно тому как «необходимость сама по себе», относящаяся к Богу, есть не что иное, как абсолютная свобода божественной воли, его актуальность или действительность есть абсолютная полнота (бесконечность) возможностей. И свобода, и всемогущество (полнота возможностей) Творца могут быть постигнуты только верой, и в этом случае все, что человеку открывается в сотворенном мире, как раз и должно быть воспринято как необходимое и действительное, т. е. данное актом божественной воли. Именно поэтому действительное (так же как и необходимое) человеком не столько мыслится (здесь человек всегда остается в сфере предположений), сколько обнаруживается в своей вещественной данности. Здесь кроется основание того обстоятельства, что для человека европейского Средневековья чудо — как некое невероятное событие — выступает чем-то не просто возможным, но и ожидаемым, в какой-то степени привычным. Здесь работает все то же, зачастую неосознаваемое, убеждение во всемогуществе Творца, способного отменить те законы, которые управляют сотворенным миром.
В этом контексте становится понятным такое немыслимое для современного человека явление, как «доказательство чудом», выступающее одним из моментов юридической практики в средневековой Европе: «К доказательству авторитетом, то есть доказанной древностью, прибавлялось доказательство чудом. Средневековые умы привлекало совсем не то, что можно было наблюдать и подтвердить естественным законом, регулярно происходящим повторением, а как раз наоборот, то, что было необычно, сверхъестественно или, уж во всяком случае, ненормально. По всей вероятности, доказательство чудом стало сначала употребляться для определения святости, которая сама по себе исключительна. Когда в начале XIV в. регламентировалась процедура канонизации, в нее включили обязательные требования наличия специальных записей о чудесах, совершенных кандидатом: capitula miraculorum. Но Бог ведь творит чудеса не только посредством святых. Чудеса могли случаться в жизни каждого, вернее, в критические моменты жизни всякого, кто в силу той или иной причины сподобился вмешательства сверхъестественных сил»[12].
Эта удивительная готовность увидеть и признать чудо неразрывно связана с характером осмысления причинности в контексте онтологии творения. Оппозиция причины и следствия, подобно категориальным парам «необходимость — случайность» и «возможность — действительность», также мыслится здесь двойственным образом. «Свободная необходимость» и «действительная возможность (мощь)» Бога-Творца могут быть дополнены еще одной парадоксальной характеристикой: Бог есть абсолютная причина (причина себя самого) и соответственно следствие себя самого. Этот парадокс, в свою очередь, определяет и понимание причинно-следственых связей в сотворенном мире. Наиболее показательным в этом отношении выступает учение Фомы Аквинского. Бог как абсолютная причина всего происходящего, согласно Аквинскому, своим творящим действием и создает вещи, и связывает их в единое, упорядоченное целое, оставаясь трансцендентным этому порядку: «Причина хотения для воли — цель. Но цель Божьей воли — Божья благость. Следовательно, она для Бога — причина хотения, но ведь она тождественна самому его хотению. Что же касается других [вещей], которых хочет Бог, то ни одна из них не служит причиной для его воли. Одна из них служит причиной другой сообразно порядку, в котором они подчинены Божьей благости. Таким образом, понятно, что Бог хочет одних [вещей] ради других. Однако не следует полагать, что в Божьей воле присутствует некое рассуждение. Там, где есть один акт, не бывает дискурса, как было показано выше применительно к уму. Бог хочет и себя, и все прочие [вещи] одним актом: ибо его деятельность есть его сущность [а она проста]»[13].
В этом рассуждении отчетливо вырисовывается отмеченная выше двойственность осмысления причинности: Бог «хочет одних вещей ради других» именно потому, что подлинной его целью является он сам. Таким образом, причинно-следственные связи между вещами в сотворенном мире сами, в свою очередь, восходят к одной-единственной абсолютной причине — Богу-Творцу. Здесь обнаруживается все то же перекрестье, которое неминуемо возникает в рамках любой попытки помыслить бытие как творящий акт: «горизонтальные» связи и отношения, характеризующие все существующее, могут быть поняты в контексте онтологии творения, только будучи включенными в «вертикальное» отношение с Богом. В учении Фомы эти «горизонтальные» связи определяются как вторичные причины: «Тем, что бог непосредственно печется о всех вещах, отнюдь не исключаются вторичные причины, каковые суть исполнительницы этого миропорядка…»[14].
Таким образом, осмысляя каждое событие и каждую вещь как «точку пересечения» мирской «горизонтали» и божественной «вертикали», человек движется одновременно в горизонте двух вопросов: «как (в рамках какой закономерности) происходит то или иное событие?» и «для чего оно происходит?». При этом ответ на второй из этих вопросов предположен заранее: все, что происходит, имеет одну абсолютную причину, совпадающую с абсолютной целью, как утверждается, например, Фомой Аквинским: «…цель — вот основание для того, чтобы хотеть тех [вещей], которые служат [достижению] цели. Бог хочет своей благости как цели, а всего прочего — как [средств] для [достижения] цели. Следовательно, его благость есть основание, в силу которого он хочет других, отличных от него самого [вещей]. Далее. Частное благо подчинено благу целого как цели, как несовершенное — совершенному. [Вещи] становятся предметом Божьей воли постольку, поскольку включены в иерархию блага. Следовательно, благо целого — вот основание, в силу которого Бог хочет каждого частного блага во вселенной. Таким образом, в поисках основания для Божьей воли мы можем рассуждать в такой последовательности: Бог хочет, чтобы у человека был разум, для того, чтобы был человек; а чтобы был человек, Бог хочет для того, чтобы во вселенной была полнота; вселенского же блага Бог хочет потому, что оно подобает его собственной благости»2" .
Приведенный Аквинским пример как нельзя лучше демонстрирует отличие того способа осмысления причинности, который предполагается пониманием бытия как творящего действия, от так называемой «эйдетической» причинности в рамках онтологии Единого. Последняя требует прямого обращения к идее (эйдосу) человека, не требуя дальнейшего обоснования и выводя из этой идеи все то, что с человеком (как таковым) может произойти. Сама же идея «ухватывается» интуитивно посредством сосредоточения ума, «всматривания» или «вслушивания» мыслящего в то, что есть человек сам по себе. В гаком случае разумность, например, выступает как свойство, которое непосредственно открывается в этом всматривании и не нуждается в дальнейшем объяснении (вспомним еще раз «точечность» мышления, характеризующую онтологию Единого). Задача понимания мира как сотворенного Богом исключает подобную «точечность», требуя любую вещь, явление, событие, встречающиеся человеку в сотворенном мире, рассматривать в свете замысла Творца.
Таким образом, все сущее рассматривается здесь как часть этого замысла, как-то, что служит совершенству целого и в конечном счете «благости Творца». Поэтому разумность человека постигается прежде всего в отношении к Богу, соответственно — как-то, что не имеет смысла само по себе, отличается онтологической неполнотой. Такое постижение осуществляется только посредством выхода за пределы этой разумности, путем ее преодоления верой. То же самое, разумеется, относится и к любой другой вещи или явлению: попытка выявления причины происходящего в сотворенном мире предполагает, во-первых, «прыжок веры» как выход к абсолютной причине всего, и, во-вторых, «встраивание» этой вещи или явления в мировую иерархию. Каждый слой этой иерархии (так же как и каждая отдельная вещь) выступает[15]
следствием одновременно и абсолютной причины, и тех вещей и явлений, которые относятся к более высокому уровню, т. е. обладают большей степенью совершенства.
Так, животные могут выступать причиной существования растений, которыми они питаются, однако сами животные (так же как и все менее совершенные сущие) восходят как к своей причине к человеку, для которого они сотворены. Сама по себе эта всеобщая иерархическая связь, однако, держится именно на том, что каждая из этих «встроенных» в мировую иерархию вещей связана с Богом как с абсолютной причиной. Подобный способ осмысления причинности принято называть телеологическим (от греч. telos — цель) в силу того, что причина здесь выступает как цель своих собственных следствий. Телеологическая причинность, в отличие от «эйдетической», требует принятия даже тех вещей и явлений, которые представляются несовершенными или несущими зло, коль скоро наличие абсолютной причины всего происходящего не подвергается сомнению.
В этом контексте интересно сравнить отношение античных и средневековых христианских мыслителей к различным видам человеческой деятельности. Земледелие как наиболее совершенный вид физического труда в древнегреческой культуре признается таковым потому, что в наибольшей степени способствует обретению гармонии как основы самодостаточности человека. Эта самодостаточность, как говорилось выше, и есть главный критерий причастности отдельного человеческого существа идее человека, реализации этой идеи. Различные же виды ремесленного труда (не говоря уже о торговле) неизбежно связаны с нарушением этой гармонии, и хотя практическая полезность их не отрицается, их «высший смысл» остается под вопросом.
Совершенно иное отношение к подобным занятиям демонстрирует христианский мыслитель XIII в. Джованни Бонавентура, утверждающий в одном из своих трактатов относительно занятия различными ремеслами: «Если рассмотрим результат, то обнаружим единение Бога и души. Ведь всякий мастер, сделавший какоелибо изделие, делал его, чтобы либо прославиться, либо получить себе какую-нибудь выгоду или прибыль, либо какое-нибудь удовольствие, в соответствии с триадой желаемого, т. е. доброй славы, наиболее выгодного и доставляющего особое удовольствие. Вот таким образом озарение технических умений является путем к озарению Святым Писанием, и в нем нет ничего, что не предрекало бы истинную мудрость»[16].
Собственно, последнее утверждение можно отнести ко всему, что существует в сотворенном мире: все, что есть или случается, «предрекает истинную мудрость», т. е. имеет абсолютный смысл именно потому, что является порождением абсолютной причины. В силу того что действие этой причины нс может быть во всей полноте постигнуто человеческим умом, а следовательно, подлинный смысл каждого явления или вещи есть предмет не знания, но веры, ценность познания так называемых вторичных причин, иными словами ответ на вопрос «как?», не очень высока. Отсюда и вытекает подозрительное и неприязненное отношение к тем, кто пытался проникнуть в тайны природы и кого в эту эпоху называли «натуральными магами». Благочестивый человек должен довольствоваться тем порядком вещей, который доступен восприятию чувствами, дан человеку, гак сказать, в виде продукта разумной деятельности Бога-Творца. Природное явление выступает в рамках такой установки прежде всего как Слово, скрывающее за телесной оболочкой некий духовный смысл. Именно поэтому важно не столько выявить закономерности, управляющие природой (такое знание — прерогатива Бога), сколько обнаружить этот высший смысл, ведущий человека к спасению: «Не поддаваться соблазнам суетного мира — таково было стремление всего средневекового общества снизу доверху. Поиски за пределами обманчивой земной реальности того, что за ней скрывалось (integumenta), переполняли литературу и искусство Средних веков. Суть интеллектуальных и эстетических исканий Средних веков составляло прежде всего раскрытие потаенной истины… Это было главное занятие средневековых людей»[17].
Поиски, предполагающие выход от любого конкретного явления непосредственно к абсолютной причине, с необходимостью обращают человека к своему внутреннему, духовному «я», к тому ядру личности, которое открывается в акте преодоления человеком своей тварной природы. Пытаясь увидеть «за» каждой вещью абсолютную причину (волю Бога), человек тем самым открывает эту свободную причинность внутри себя. Эго открытие, в свою очередь, становится фундаментом принципиально новой этики, в центре которой находится не идея, постижимая разумом (вспомним этический рационализм, характеризующий онтологию Единого), но свободная воля человека, направляемая духом и именно поэтому непостижимая в своих истоках. Данная непостижимость с исключительной глубиной осмысляется Пьером Абеляром, выступающим в этом отношении последователем Августина с его концепцией относительности внешней стороны поступка: «…Бог мерит не тем, что люди делают, а тем, с какой душой они могут делать [нечто]; и не в поступке, а в намерении (intentio) поступающего состоит заслуга или подвиг. Часто, однако, одно и то же совершается по-разному: благодаря праведности одного и неправедности другого. Кто… не знает, что подчас праведно совершается то, что Бог запрещает делать, как и наоборот: начинают иногда [совершать] то, что, однако, менее всего следует делать. Так, мы в самом деле знаем, что Он запретил распространять слухи о некоторых чудесах, с помощью которых исцеляются больные ради примера смирения, дабы никто случайно не возжелал бы себе славы от подобного претерпевания. Но тем не менее получившие эту милость не прекращали разглашать о ней из почтения к Тому, Кто это сделал и Кто запретил это открывать, о чем написано: „Но сколько он ни запрещал им, они еще более разглашали и т. д.“ (Евангелие от Марка, VII, 36). Разве осудишь за преступление таких виновников, которые совершили [его] и притом сознательно вопреки завету, ими полученному?»[18].
В этом отрывке из трактата «Этика, или Познай самого себя» Абеляр с поразительной смелостью утверждает право человека опираться на свидетельство духа, которое он находит внутри себя, в противовес даже высказанному требованию Бога. Дух здесь противопоставляется букве, внутреннее — внешнему. Та внутренняя инстанция, которая впоследствии получает название совести, утверждается Абеляром в качестве первичной как по отношению к внешним, всеобщим, этическим нормам, так и по отношению к человеческому разуму вообще. Воля человека управляется верой, а не рассуждением, она действует в «зазоре», который сам Абеляр обозначает следующим образом: «Благом было повелеть то, что не было благом выполнить»[19].
С открытием и утверждением этой внутренней инстанции связана и этическая ценность покаяния, отличающая христианское учение о человеке. Онтологический смысл покаяния как раз и заключается в выходе человека к собственному трансцендентному истоку, в том, чтобы «расчистить место» в самом себе для обновляющего и воссоздающего человека действия Бога.
- [1] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. С. 793−794.
- [2] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 293−297.
- [3] '" Там же. С. 297.
- [4] Не Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 305−306.
- [5] Барг М. А. Эпохи и идеи. М., 1987. С. 149.
- [6] Цит. по: Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т. 2. С. 196.
- [7] Абеляр /7. Этика, или Познай самого себя // Абеляр 11. Тео-логические трактаты. С. 249.
- [8] 2 М Абеляр /7. Этика, или Познай самого себя. С. 252.
- [9] Евангелие от Матфея, 19: 26.
- [10] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. С. 859.
- [11] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 97−99.
- [12] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 306.
- [13] т Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 375.
- [14] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. С. 838.
- [15] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 371−373.
- [16] Бонавентура Д. О возвращении наук к теологии // Вопр. философии. 1993.№ 8. С. 137.
- [17] тЛе Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 319.
- [18] Абеляр /7. Этика, или Познай самого себя. С. 261.
- [19] 2,5 Там же. С. 262.