Внешняя история карамзинского труда
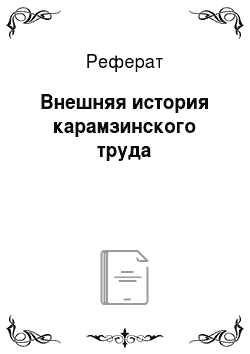
По примеру Щербатова Карамзин начинал свой труд историей страны до славян: историей скифов и сарматов, не пытаясь — точно так же, как его предшественник — приурочить эти древние племена ни к какой этнографической классификации и принимая мнения Байера и его последователей, что термины эти суть чисто географические. «Древняя география» Маннерта, «Nordische Geschichte» Шлецера, выписки… Читать ещё >
Внешняя история карамзинского труда (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Личность Карамзина и положение его в русской литературе слишком известны, чтобы останавливаться на них здесь. Мы не будем следить за постепенным развитием нравственного и умственного облика писателя. Мы возьмем его уже готовым, сформировавшимся, в той поре его жизни, когда на исходе четвертого десятка (1803 г. — 37 лет), с репутацией знаменитого писателя и популярного журналиста, он останавливается окончательно на мысли посвятить остаток жизни русской истории и обращается к правительству с просьбой обеспечить ему казенное содержание на это время сочинения «Истории» (28 сентября 1803).
Но легенда преследует нас и в этом моменте биографии Карамзина. Приступивши в начале (февраль) 1804 г. к занятиям, Карамзин в год дошел до Рюрика (март 1805), а в два года — до смерти Владимира (март 1806), и с такой же быстротой продолжал работу до 1816 г., когда были изданы первые восемь томов его истории. Конечно, быстрота чудесная, если забыть, чем Карамзин был обязан своим предшественникам; и вот, «чтобы сколько-нибудь объяснить уразумение чуда — сотворения осьми томов истории в 12 лет»[1], легенда вводит десятилетний подготовительный период (1793—1803). Дело в том, что в 1793 г. Карамзин напечатал, заканчивая издание своего «Московского журнала»: «В тишине уединения я стану разбирать архивы древних литератур, которые (в чем признаюсь охотно) не так мне известны, как новые; буду учиться, буду пользоваться сокровищами древности, чтобы после приняться за такой труд, который бы мог остаться памятником души и сердца моего, если не для потомства (о чем и думать не смею), то, по крайней мере, для малочисленных друзей моих и приятелей». По мнению Погодина, «место, напечатанное курсивом, показывает ясно, что Карамзин задумывал уже тогда русскую историю… В эти десять лет… Карамзин, верно, занимался приготовлением к будущему труду, то есть читал летописи и прочие сочинения, сюда относящиеся»[2]. Трудно, однако же, видеть в цитированной фразе Карамзина то, что хотел вывести из нее Погодин. По прямому смыслу этой фразы, Карамзин погрузился в сокровища древних литератур, чтобы извлечь из них «памятник души и сердца своего», и по его письмам того времени очень хорошо видно, что это были за сокровища и какой труд хотел он из них извлечь. «Перевожу лучшие места из лучших иностранных авторов древних и новых, — пишет Карамзин в одном из этих писем, — греки, римляне, французы, немцы, англичане, итальянцы, — вот мой магазин, в котором роюсь каждое утро часа по три! Мне надобно переводить для кошелька моего»[3]. Плодом этих занятий и явился в 1798 г. «Пантеон иностранной словесности». Что же касается русской истории, за все это время Карамзин написал по просьбе редактора «Spectateur du Nord» очень плохую статью о русской литературе, невежественные места которой подчеркнул Шлецер в своем «Несторе», не зная имени автора[4], да еще мечтал написать похвальное слово Петру Великому и набросал даже несколько «мыслей» для него. Здесь на первом месте стоит риторическое введение: «Чтобы искусство Фидиаса тем более поразило нас, взглянем на безобразный кусок мрамора: вот из чего сотворил он Юпитера Олимпийского! Что была Россия?» В конце отрывка набросано предполагавшееся заключение: «Могу ли не воспламеняться любовью к отечеству, представляя себе Петра? — места, где он ходил; рощи, им насажденные…». Разумеется, самому Карамзину было ясно, что одних этих мыслей мало для предположенного сочинения, и сам он сознается, что эта задача для него непосильна: она «требует, по его словам, чтобы я месяца три посвятил на чтение русской истории и Голикова[5]: едва ли возможное для меня дело. А там еще сколько надобно размышления! Не довольно одного риторства» и т. д.[6]
Только в 1797 г. является у Карамзина мысль о занятиях историей, но не русской. «Начну с Джиллиса; потом буду читать Фергюсона, Гиббона, Робертсона, — читать со вниманием и делать выписки, а там примусь за древних авторов, особливо за Плутарха». И только в 1800 г. встречаем сведения о занятиях русской историей. «Я по уши влез в русскую историю: сплю и вижу Никона с Нестором». Действительно, в журнале Карамзина «Вестник Европы» мы находим в 1802 и 1803 гг. несколько исторических статей, — точнее, несколько «случаев и характеров в российской истории, которые могут быть предметом художеств»- (так озаглавлена одна из этих статей). Сюда относятся: речь Алексея Михайловича на Красной площади после бунта, почерпнутая, вместе с рассказом о бунте, из Олеария, известие о Марфе-посаднице, заимствованное из жития Св. Зосимы, исторические воспоминания, связанные с окрестностями Москвы и с дорогой в Троицкую лавру и т. д. Есть нападение на одно частное мнение Шлецера, которое Карамзин великодушно прощает «сему ученому иностранцу». Таким образом, в своем прошении Муравьеву о правительственной субсидии Карамзин мог сказать, что «с некоторого времени» мысль «сочинять русскую историю занимает всю душу» его.
- 18 февраля 1804 г. Карамзин разделался с журналом и стал, наконец, заниматься «единственно тем, что имеет отношение к истории». Через шесть месяцев первые две главы «Истории» были уже написаны; через шесть лет Карамзин думал дойти до Романовых и полагал, что труднейшее сделано[7]. В чем состояло это «труднейшее»?
По примеру Щербатова Карамзин начинал свой труд историей страны до славян: историей скифов и сарматов, не пытаясь — точно так же, как его предшественник — приурочить эти древние племена ни к какой этнографической классификации и принимая мнения Байера и его последователей, что термины эти суть чисто географические. «Древняя география» Маннерта, «Nordische Geschichte» Шлецера, выписки из византийцев Штриттера и сочинение Тунмана[8] были его главными источниками. Вслед за ними он начинал историю славян с VI в., принимал норманнство варягов и Руси, наконец, предлагал «свое» мнение о том, что Несторова хронология призвания князей произвольна, потому что варяги не могли в три года (859—862) овладеть страной, быть изгнаны и призваны снова. При этом ни в тексте, ни в примечаниях Карамзин не упоминает, что эти рассуждения принадлежат не ему, а Шлецеру и Миллеру[9]. Эта черта, заметим кстати, будет сопровождать нас через всю «Историю государства Российского». Карамзин почти никогда не называет своих посредников между собственной работой и сырым материалом: впечатление работы, при этом умолчании, получается, действительно, грандиозное. «Надлежало сообразить все, написанное греками и римлянами о наших странах, от Геродота до Аммиана Марцеллина; все написанное византийскими историками о славянах и других народах, которых история имеет некоторое отношение к российской» — так описывает свой труд сам Карамзин Муравьеву. Для шести месяцев, действительно, «труд и подвиг геркулесовский»[10], и даже невозможный, если бы Карамзину пришлось читать подлинники древних авторов и выбирать самому места из corpus scriptorum byzantinorum; если бы «все написанное греками и римлянами от Геродота до Аммиана Марцеллина» не было переведено уже у Татищева, а «все написанное византийскими историками о славянах и других народах» не было извлечено в «Memoriae populorum» Стриттера и еще раз извлечено, для большей доступности, из этих «Memoriae» в четырех маленьких томиках, изданных по-русски[11].
Третья глава, равная по объему первым двум и посвященная «характеру физическому и нравственному славян русских», писалась также пол года, хотя должна была стоить автору еще меньших усилий. Большая часть ее есть вольная передача классических мест византийцев (собранных во 2-м томе Стриттера), — латинских хроник (Гельмольда, Адальберта Бременского, Саксона Грамматика) и начальной летописи. Только отдел о языческой религии славян потребовал большего употребления специальных русских источников[12]; впрочем, мы не можем отделить здесь того, что входило в круг первоначальных сведений историографа и что вставлено им позднее. Как пользуется и здесь Карамзин своими предшественниками, видно будет из двух примеров, наиболее ярких, хотя далеко не единственных. «Хотя летописец наш, — замечает Карамзин, — не говорит о том, но российские славяне, конечно, имели властителей с правами, ограниченными народною пользой и древними обыкновениями вольности. В договоре Олега с греками в 911 году упоминается уже о великих боярах русских». Мы знаем, что это употребление сделано было из свидетельства Олегова договора уже Болтиным, которого Карамзин здесь и повторяет, не делая на него ссылки. Приведем другой пример. В июне 1806 г. Карамзин пишет брату: «Я недавно сражался на бумаге с Добнером. Какими пустыми доводами хотел он утвердить древность букв глаголических!» Действительно, в примечании 266 находим возражение против мнения Добнера, что глаголица древнее кириллицы; но возражения эти почти все взяты из шлецеровского «Нестора» (т. II, гл. X). В изображении быта и правления славян Карамзин держится средины между Болтиным и Шлецером: в его заметках для истории[13] рядом стоит болтинская мысль, что славяне «не были дикари, как пишет Нестор: земледельцы, города», — и шлецеровская мысль: «Что такое города? неподвижные станы для войска: их первая причина не торговля и гражданственность». Обе мысли отлично мирятся друг с другом, но это не мешает нам заключить, что к их примирению автор пришел путем разумного эклектизма, а не путем самостоятельного изучения.
Наконец, Карамзин был перед началом исторического рассказа. Начало это во всей русской истории было пунктом наиболее обработанным. Относительно него существовали примечания Татищева, к нему относилась полемика Болтина с Щербатовым; ему, наконец, были посвящены три тома подробнейшего разбора Шлецера. Кроме всего этого, Карамзину удалось сделать драгоценную находку: он натолкнулся на два древнейших списка летописи: Лаврентьевский, хранившийся у Мусина-Пушкина, и Троицкий, взятый из библиотеки Московской духовной академии и в 1812 г. сгоревший.
Положение Карамзина относительно всех названных исследователей определилось, как только он приступил к составлению рассказа. Шлецер подавлял его своим материалом и критическими приемами. Читая первый том «Истории государства Российского» параллельно с «Нестором», нельзя не заметить, что круг вопросов, возбуждаемых Карамзиным по поводу исторического материала, существенно обусловлен вопросами, рассмотренными у Шлецера. Даже там, где Карамзин не соглашается с ним, он всегда оперирует с помощью шлецеровских же данных; часто из таких данных составляется у него целое примечание, в котором, однако, нет ссылки на Шлецера[14]. От Шлецера Карамзин освобождается только там, где к мнениям Шлецера существует поправка другого немцаспециалиста по русским древностям — Круга; или там, где Шлецера вводит в заблуждение недостаточное знакомство с русским языком[15]; или, наконец, там, где Шлецеру приходится выбирать между различными чтениями летописных списков: обладая такими хорошими текстами летописи, какие представляют Лаврентьевский и Троицкий, Карамзин мог разрешать такие спорные случаи без всяких ученых рассуждений, — просто на основании авторитета лучших рукописей. По терминологии Шлецера, это значило, что Карамзин обладает «чистым» Нестором и, следовательно, освобожден от необходимости «восстановлять» его. Не забудем, что у самого Шлецера был только один хороший летописный текст — по Кёнигсбергскому списку, а из Ипатьевского — только выписки до смерти Рюрика, сделанные для него Башиловым.
Карамзин подчинился Шлецеру и во взгляде на Иоакимовскую летопись как на ученый вымысел Татищева. Эта летопись и сармато-скифская классификация Татищева восстановили против него Карамзина с первых шагов его специальных занятий. К поклоннику Татищева, Болтину, Карамзин точно так же относится несочувственно. Хотя он и обещает в одном из писем «не оскорблять памяти» обоих, отмечая их «грубые ошибки»[16], но обещание это вряд ли можно считать выполненным. Молча поправляя Щербатова там, где Болтин прав в своей критике, Карамзин систематически преследует в своих примечаниях и Болтина, и Татищева, где только представляется для этого удобный случай[17]. К Щербатову по причинам, уважительным по самому существу дела, Карамзин относится более сочувственно. Есть все основания думать, что Щербатов был для Карамзина таким же основным источником сведений по русской истории, каким был для Болтина, как мы видели раньше, Татищев. В первом томе влияние Щербатова стушевывается, ввиду богатства специальной литературы; но тем яснее выступает это влияние, по мере оскудения исторической литературы, в следующих томах «Истории».
Первый том был готов еще через год после составления первых трех глав. Мы нарочно остановились на нем подробнее. Это был, действительно, самый тяжелый том для Карамзина: наиболее подготовленный предшествовавшими исследователями и самого Карамзина заставший наименее подготовленным. Дальше дело становилось легче: литература, как мы сказали, быстро оскудевала, и под конец Карамзин оставался один со своим Щербатовым и со своими сырыми материалами, к употреблению которых он успел приучиться. Об отношении Карамзина к источникам речь будет идти далее; здесь нам остается познакомиться с отношением его к Щербатову.
Уже Соловьев показал вполне убедительно, что отношение это было отношением зависимости. Нам остается только несколько дополнить и систематизировать его наблюдения.
Влияние щербатовской истории не ослабевает до самого конца «Истории государства Российского». Конечно, Карамзин самостоятельно изучает свои источники, но и тут Щербатов указывает ему, где, когда и что надо изучать. Новгородские грамоты, княжеские договоры и завещания, присоединяющиеся к летописям с половины XIII в., статейные списки посольств, присоединяющиеся с конца XV в., показания родословных и разрядных книг, — все эти источники уже расставлены по местам и употреблены в дело Щербатовым. Но не только в указаниях на источники помогает Карамзину Щербатов; еще сильнее обнаруживается его влияние в самом рассказе. Часто порядок изложения Щербатова принимается и Карамзиным; еще чаще Карамзин принимает отдельные толкования и предположения Щербатова, его поправки и объяснения каких-нибудь генеалогий или недостающих событий. Разумеется, нередко встречаем и поправки Карамзиным Щербатова. Степень влияния щербатовского рассказа на карамзинский, конечно, вполне может быть выяснена только разбором целых частей «Истории государства Российского», какой и сделан в статьях Соловьева. Но и статьи эти не могут еще дать полного впечатления о характере влияния Щербатова: нужно самому сличить страницу за страницей эти параллельные изложения, чтобы почувствовать, как повсюду, в начале, в середине, в конце сочинения, на каждой странице Карамзин имеет в виду Щербатова. Видно, что том щербатовской «Истории» всегда лежал на письменном столе историографа и давал ему постоянно готовую нить для рассказа и тему для рассуждения; и часто Карамзину оставалось только переделать ссылку и сделать соответственную выписку из источника. В результате пересказа и переделки тяжеловесные, неуклюжие фразы Щербатова превращаются в блестящие, закругленные и отточенные периоды Карамзина; но очень часто настоящий смысл и задние мысли этих красивых периодов мы поймем только тогда, когда будем иметь перед глазами параллельное изложение Щербатова.
Для большей наглядности приведем здесь одно место Карамзина с текстом Щербатова en regard.
Щербатов. Т. III. С. 355.
Тогда как таковые дела в областях новгородских происходили, князь Александр (Михайлович) пребывал в Твери, где вскоре новые ему огорчения от неудовольствия на него тверских бояр учинились, которые и отъехали от него в Москву к великому князю Иоанну (Калите). Летописатели наши ни мало не повествуют о причинах сего неудовольствия, и трудно без всяких знаков поступка сего князя, — его ли оправдать, или бояр обвинить. Тако не в утверждение, но токмо яко догадку, нужную для связи деяний и проницания тайных причин дел, осмелюсь предложить, что долговременное пребывание князя Александра во Пскове и оказуемая к нему верность от псковитян, может быть, склонила его и по приезде в Тверь взять многих псковских бояр с собою и правление им препоручить; яко и точно обретаем, что он учинил с приезжим к нему немцем Долем, который боярином в Твери был…, а не легко есть сыновьям отечества зреть пришлецов, места их в правлении занимать, что, может статься, и огорчило бояр тверских; ибо точно помянуто, что тверские бояре от него отъехали. Самый сей отъезд боярский.
Карамзин. Т. IV. С. 235.
В сие время многие бояре тверские, недовольные своим государем, переехали в Москву с семействами и слугами, что было тогда не бесчестною изменой, но делом весьма обыкновенным. Произвольно вступая в службу князя великого или удельного, боярин всегда мог оставить оную, возвратив ему земли и села, от него полученные (304). Вероятно, что Александр, быв долгое время вне отчизны, возвратился туда с новыми любимцами, коим старые вельможи завидовали: например, мы знаем, что к нему выехал из Курляндии во Псков какой-то знаменитый немец, именем Доль, и сделался первостепенным чиновником двора его. Сие могло быть достаточным побуждением для тверских бояр искать службы в Москве, где они, без сомнения, не старались успокоить великого князя в рассуждении мнимых или действительных замыслов несчастного Александра Михайловича.
Прим. 304. Сия свобода бояр доказывается следующими местами, находящимися в духовной Иоанна Даниловича и договорной Дмитрия Ивановича, (см. ниже или Древн. рос. вивл. I. С. 56 и 57): требует изъяснения, каким образом 1) «дал есмь» и т. д. (та же цитата, что они могли покинуть своего природу Щербатова);
ного князя и отъехать к другому: 2) «а который боярин поедет из корм;
хотя в летописцах и не обретается ленья от тобе или ко мне…" и т. д.
изъяснения о сем, но мню, что с основанием могу приложить ко изъяснению сего найденное о праве бояр в грамоте духовной В. к. Иоанна Даниловича[18], что тогда князья давали земли и поместья своим служителям, за которые они обязаны были им служить, оставляя же сии поместья, обязанность оставляли. Редко кто в неудовольствии своем может в границах умеренности остаться; тако и сии бояре… чаятельно не оставили усугубить причин, которые их понудили оставить Тверь, а, может статься, дабы выслужиться перед великим князем, сказывали на князя Александра что противное князю Иоанну Даниловичу; по крайней мере, из последующего его поступка то можно заключить.
Мы нарочно выбрали это место, потому что оно представляет не простой рассказ, а ряд сопоставлений и соображений на основании разных источников (летопись, родословная, духовная). Заимствовав все эти соображения от Щербатова, Карамзин последовал ему на этот раз дальше, чем следовало. Право отъезда бояр доказывается не приведенным у Щербатова местом завещания Калиты (которое относится к дворцовой службе и к поместному владению), а постоянной формулой договорных грамот: «боярам и слугам меж нас вольным воля»[19]. Вотчин своих при отъезде бояре не теряли. Нельзя не заметить также, что Щербатов резче подчеркивает предположительный характер своих толкований, чем Карамзин, пересказывающий их от своего имени. В приведенном месте Карамзина эта разница между показанием источника и толкованием исследователя еще удерживается посредством выражений «вероятно» и «без сомнения». В других случаях она совсем исчезает. Вот, например, случай, где прагматическая мотивировка Щербатова у Карамзина делается мотивировкой самих действующих лиц. Дядя и племянник, Василий Ярославин и Дмитрий Александрович, добиваются новгородского стола.
Щербатов. III. С. 126.
Важно было князьям российским, кому на престоле сего великого и богатого града сидеть… Можно сказать, что оба сии князя имели право требовать сего престола: князь Василий по учиненному им благодеянию, когда он отвратил татар брату своему Ярополку против Новгорода помогать, а князь Димитрий по оказанным услугам отцом его князем Александром Невским и по знаемости его самого новгородцами.
Карамзин. IV. С. 121.
И Василий, и Димитрий Александрович желали присвоить себе Новгород, избыточный, сильный и менее других областей угнетенный игом татарским. Димитрий надеялся на славу мужества, изъявленного им в битве Раковорской и еще более на память отца, героя Невского, а Василий — за услугу, недавно оказанную им в Орде Новгороду.
Приведем еще небольшой пример, чтобы дать понятие о том, как Щербатов помогает иногда Карамзину даже в простых переходах от одного предмета к другому.
Щербатов. III. С. 173.
Я на несколько времени оставлю сих князей, пребывающих уже во взаимной недоверенности и изготовляющихся ко брани, — дабы помянуть о бывших печальных приключениях в Курском и Рыльском княжениях.
Карамзин. IV. С. 136.
Увидим, что Андрей, стараясь доказывать великому князю свое раскаяние и миролюбие, действовал как лицемер; но прежде описания его новых злодейств изобразим тогдашние бедствия области Курской.
Повторяем, для того, чтобы сделать вполне ясным, насколько Щербатов облегчал Карамзину и предварительное изучение источников, и составление самого изложения, нужно было бы по страницам сделать сличение всей «Истории государства Российского».
При таких условиях составление истории должно было пойти быстро после первого тома, стоившего Карамзину, как мы видели, двух лет. Второй и третий тома были написаны оба в такой же срок (1806—1808), причем еще весь 1807 г. «работа была не спора от беспокойства душевного». «Года через 3—4 дойду до Романовых», — предполагал Карамзин в 1808 г. и, вероятно, ошибся бы немногим, если бы в следующем году, кончив уже четвертый том, не нашел Волынской (Ипатьевской) летописи, которая заставила его целый год потратить на исправление написанного и на выписки из этой летописи, раньше известной только по самому началу и совершенно изменявшей историю Южной Руси. По этой причине составление 5-го тома затянулось на два года (до осени 1811). Зато шестой том, правление Ивана III, готов был в одну зиму. Но, опять, двенадцатый год, истребивший библиотеку Карамзина, задержал его еще на год — до лета 1813 г. В течение следующего года (1813—1814) готов был 7-й том, княжение Василия III, еще в год (осень 1814 — осень 1815) поспел и 8-й — история Ивана Грозного до эпохи казней. В начале 1816 г. Карамзин уже ехал в Петербург издавать свои восемь томов.
Не будем следить далее за внешней историей карамзинского труда, так как «чудо» погодинское кажется теперь достаточно разъясненным.
Дальнейшие разъяснения ползшим, если обратимся к более подробному разбору положения Карамзина относительно предшествовавшей историографии в том, что касается методических приемов и общих исторических взглядов.
- [1] Погодин. Т. I. С. 215.
- [2] Погодин. Т. I. С. 115.
- [3] Письма к Дмитриеву (1797—1798). № 81; ср. № 76: «Я ныне весь в итальянскомязыке: сплю и вижу Метастазия», или № 86: «Я перевел несколько речей из Демосфена"ит. д.
- [4] Нестор. I. С. 383.
- [5] По мнению Кояловича (159), это значит, что Карамзин „собирался изучать историю Голикова о Петре“, и, следовательно, „углублялся в русскую историю“.
- [6] Погодин. Т. I. С. 277.
- [7] Погодин. Т. II. С. 4—16, 24, 29.
- [8] О пользовании Тунманом еще Погодин заметил, что сообщения Карамзина"о козарах есть совершенное сокращение Тунмана. И ни слова об этом в примечаниях. Где у Тунмана нет ссылки, там нет и у Карамзина». Барсуков Н. П. Жизнь и труды Погодина. Т. I. С. 244.
- [9] Ср.: Миллер. О народах, издревле в России обитавших, пер. Долинского. С. 102.
- [10] Погодин. Т. II. С. 29.
- [11] Известия византийских историков, объясняющие российскую историю древнихвремен и переселения народов, собраны и хронологическим порядком расположеныИваном Штриттером. СПб., 1770—1771.
- [12] Житие Константина Муромского (из библиотеки Мусина-Пушкина), св. Владимира (в Минее) и Новгородская летопись (из архива Иностранной коллегии).
- [13] Погодин. Т. II. С. 37.
- [14] Особенно ярки эти заимствования в примечаниях 378—381, где рассматриваетсяспорный вопрос: крестилась ли Ольга в Константинополе? На основании того, что Константин Багрянородный молчит о крещении Ольги, Геснер сомневался в факте крещения, а Тунман прямо отрицал его. Оба, конечно, отлично знают, что существуют свидетельства Кедрина и продолжателя Регинона, подтверждающие крещение Ольги. Карамзинвозражает на их сомнения простыми ссылками на эти источники, — ссылками, от нихже узнанными. Молчание Константина, описавшего прием Ольги и не упомянувшегоо крещении, Карамзин объясняет тем, что сочинение Константина «De caerimoniis aulae"посвящено исключительно описанию придворных приемов. Объяснение это принадлежит Шлецеру, от которого Карамзин узнал и о самом споре; но на Шлецера нет во всехэтих примечаниях ни одной ссылки.
- [15] Например, Шлецер не понимает, что такое «мовь» или «слебное».
- [16] Погодин. Т. II. С. 32.
- [17] Например, во И томе прим. 122—123 Болтин не назван. Свод возражений противБолтина можно найти у Сухомлинова в «Истории Российской Академии». Т. V. С. 265—269.
- [18] Иностр. коллегии архивы № 2. Сей князь, чиня распределение о своих вотчинах, между прочим, пишет следующее: «А что есть купил село в Ростове Богородичное, а далесть Борису Боркову, иже имать сыну моему которому служитися, да будет за ним; неимет ли служите, — детям моим село, а не ему».
- [19] Соловьев С. М. Н. М. Карамзин // Отеч. зап. 1885. № 4. С. 111.