«Вечные собеседники»: библейский и пушкинский эпиграф в творчестве ф. Достоевского и а. Ахматовой
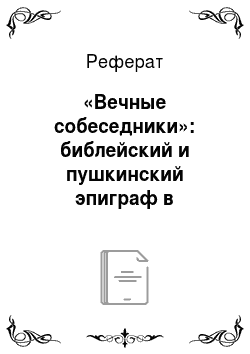
При безусловной значимости для Ахматовой христианского мироощущения, властном существовании в ее творчестве библейских образов, мотивов, сюжетов и ситуаций, «мощный интеллектуализм» (Д. Самойлов), рожденный самим типом личности и усиленный катастрофичностью эпохи, заставлял поэта не только продолжать, но и отталкиваться от этической гармонии Библии, создавая свою новую гармонию, что порой… Читать ещё >
«Вечные собеседники»: библейский и пушкинский эпиграф в творчестве ф. Достоевского и а. Ахматовой (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
«Скрещение судеб» русской литературы уникально своим многообразием и неожиданностью проявлений. Так, сразу можно обозначить те узлы русской культуры, что глубинно связывают имена Достоевского и Ахматовой: Пушкин, Петербург, православие. Пушкин — как знак абсолюта русской культуры. Петербург — как знак абсолюта места («гений места») русской культуры. Православие — как знак приближенности к духовному и этическому абсолюту в его русском варианте. Сама высота уровня сближения позволяет поэту XX века при помощи имени художника века XIX определить состояние всей России, имя становится символом целой эпохи: «Россия Достоевского. Луна / Почти на четверть скрыта колокольней». Или, не называя имени, используя излюбленный прием Пушкина, тайнопись, определить существенную черту русской литературы, в высшей степени присущую Достоевскому, — дар пророчества:
Страну знобит, а омский каторжанин Все понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемешает все И сам над первозданным беспорядком, Как некий дух, взнесется. Полночь бьег.
Перо скрипит, и многие страницы Семеновским припахивают плацем (С. 215).
Используя аллюзии и намеки, приоткрыть тайну творчества писателя, с предельным лаконизмом дать абрис его мира и, в конце концов, определить роль и судьбу художника в России:
А в Старой Руссе пышные канавы, И в садиках подгнившие беседки, И стекла окон так черны, как прорубь, И мнится, там такое приключилось, Что лучше не заглядывать, уйдем.
Не с каждым местом сговориться можно, Чтобы оно свою открыло тайну.
(А в Оптиной мне больше не бывать…) (С. 215).
Отсыл к Достоевскому сделал возможным одно из самых блистательных определений Петербурга, известных в русской литературе:
И царицей Авдотьей заклятый, Достоевский и бесноватый Город в свой уходил туман (С. 243).
Определение, в котором город отмечен вымороченной дьявольской пустотой и окутан обаянием этой пустоты, сделало возможным заполнять его пространство бесконечными поэтическими смыслами.
Достоевский для Ахматовой связан и с особым открытием значимости и безусловности иной, художественной реальности. В дневниковой записи 1965 года зафиксировано незабываемое до конца жизни ощущение: «Первая бессонная ночь — чтение „Братьев Карамазовых“. В Ташкенте возникла тема „Дост[оевский] и Толстой“»2.
Ощущение существования в едином духовном пространстве позволяет художнику вести непрекращающийся диалог не только со своими предшественниками, но и с предтечами. И это уже не явный, но потаенный сюжет, позволяющий рядоположить имена Достоевского и Ахматовой. Можно сказать, что Достоевский был одним из «преломлений» в восприятии Анной Ахматовой мировой культуры.
Анализ эпиграфистики писателей двух веков позволяет обнаружить как явную, так и потаенную «воздушных путей перекличку» российской словесности, поскольку эпиграф, с одной стороны, — наиболее отчужденный от авторского «я» фрагмент текста, с другой — выбор эпиграфа всегда связан с четким осознанием своего магистрального культурного вектора. В этом смысле совпадающая частотность обращения Достоевского и Ахматовой к Библии и Пушкину не только показательны, но и сущностны: для них и Библия, и Пушкин — «вечные собеседники». Мир Библии несет в себе этический код, по которому сверяет свою судьбу человек, осознавший себя Творцом. Мир Пушкина — эстетический код, по которому сверяет свою судьбу творец, оставшийся Человеком. При этом сохраняется один из основополагающих художественных принципов русской литературы — единство Добра и Красоты.
Библия изначально по генезису и по гносеологическому осознанию неразделима с литературой3. Не случайно у Достоевского, тяготеющего к философски-экзистенциальному восприятию бытия, впервые эпиграф из Евангелия появился в сочетании с пушкинским (роман «Бесы»). Евангельский эпизод об исцелении гадаринского бесноватого Христом, символизирующий размышления писателя о судьбах России и Европы, подкрепляется «Бесами» Пушкина, констатирующими временный характер духовных болезней «эпохи цивилизации»4. Достоевский видит в великом поэте современного пророка, помогающего прочесть «великий код» вечной книги, в данном случае — миф падения и искупления. Писатель, для которого использование эпиграфов, скорее, редкость (разве что для создания пародийного или полемического дискурса в «Крокодиле» и «Записках из подполья»), обращается к тексту Нового Завета и творчеству Пушкина, предваряя ими свои концептуальные романы «Бесы» и «Братья Карамазовы» и воспринимая их как доминанту современной культуры.
При безусловной значимости для Ахматовой христианского мироощущения, властном существовании в ее творчестве библейских образов, мотивов, сюжетов и ситуаций, «мощный интеллектуализм» (Д. Самойлов), рожденный самим типом личности и усиленный катастрофичностью эпохи, заставлял поэта не только продолжать, но и отталкиваться от этической гармонии Библии, создавая свою новую гармонию, что порой провоцирует решительные возражения. Так, великолепно знающий и чувствующий поэзию Ахматовой А. Найман с некоторой ожесточенностью пишет о недопустимых для религиозного человека ахматовских трактовках библейских сюжетов, образов, мотивов: «И когда Ахматова обращается к Богу: «Ты, росой окропляющий травы, / Вестью душу мою оживи, / Не для страсти, не для забавы, / Для великой земной любви», — то если начало четверостишия очевидно повторяет молитву Иоанна Златоуста на 11-й час дня: «Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея», — конец столь же очевидно противопоставляется его молитве на десятый час ночи: «Господи, сподоби мя любити Тя от всей души моея и помышления…». В контексте стихотворения эта «великая земная любовь» сродни карамазовскому толкованию евангельских слов о грешнице, которая «возлюбила много»: «. .она «возлюбила много (— кричит Федор Павлович, —), а возлюбившую много и Христос простил…» — «Христос не за такую любовь простил…» — вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа»5.
Но Ахматова — осознанно дерзкий поэт. Не случайно она предостерегает своих учеников об опасности обращения к Библии всуе: «Зато, когда после „Исаака и Авраама“, всеми высоко оцененных, он [И. Бродский] вскоре начал еще одну вещь на библейский сюжет, она высказалась резко в том смысле, что Библия не сборник тем для сочинения стихов, и хотя каждый поэт может натолкнуться в ней на что-то свое, собственное, но тогда это должно быть исключительно личным, и что вообще нечего эксплуатировать однажды добытый успех»6. Предупреждение не означает запрета, но исключает суетность. Сама Ахматова постоянно обращается к Библии, вплоть до внешнего (отметим сразу, но не сущностного) стихотворного пересказа/переложепия: «Библейские стихи», «Реквием». Восемь раз библейские строки выносятся в одну из самых сильных позиций текста — эпиграф.
- 1. «И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». Книга Бытия. Библейские стихи. Рахиль (1921).
- 2. «Жена же Лотова оглянулась и стала соляным столпом». Книга Бытия. Библейские стихи. Лотова жена (1922—1924).
. «Но Давида полюбила… дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдам сс за него, и она будет ему сетью». Первая Книга Царств. Библейские стихи. Мелхола (1922—1961).
- 4. «Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи». Реквием. Распятие (1935—1940).
- 5. Пс. 6, ст. 7. Майский снег (1917).
- 6. «И сделалась война на небе». Апок[алипсис]. Лондонцам (1940).
- 7. «. .И настало ему время идти путем веся земли». Кн. Царств. Путем всея земли (1940).
- 8. «…И Ангел поклялся живущим, что времени больше не будет». Апок[алипсис]. Путем всея земли (1940).
Судьба Пушкина была для Ахматовой матрицей судьбы русского Поэта, а сам Пушкин — личностью, по которой она сверяла свою судьбу и свое творчество. Но и по отношению к Пушкину Ахматова — осознанно дерзкий поэт.
Характерны многочисленные предупреждения Ахматовой от «простого» использования открытой Пушкиным механики письма, зафиксированные почти всеми мемуаристами от Л. Чуковской и А. Виленкина до И. Бродского и А. Наймана и постоянно встречающиеся в прозе самой Ахматовой: «Интонация „Онегина“ — была [гибельна] смертельна для русской поэмы. Начиная с „Бала“ Баратынского до „Возмездия“ Блока, „Онегин“ систематически губил русскую поэму (хороша только доонегинская…). Поэтому и прекрасен „Мороз, Красный нос“, что там „Онегин“ и не ночевал. Следующим за Некрасовым был прямо Маяковский и „Двенадцать“ Блока» (Т. 5. С. 150).
Для Ахматовой необходима сама возможность не только восхититься, но и по-своему прочитать и даже исправить гения: «Все каменные циркули и лиры — мне всю жизнь кажется, что это Пушкин про Царское сказал, и еще потрясающее: „В великолепный мрак чужого сада“, — самая дерзкая строчка из когда-нибудь прочитанных или услышанных мною (однако неплохо и „священный сумрак“)»7.
Отсюда отнюдь не безмятежный характер диалога, который разворачивается порой между пушкинским эпиграфом и ахматовским текстом, не опровергающий устойчивый и безусловный постулат о том, что Ахматова является поэтом пушкинской магистрали русской поэзии. Пушкинский эпиграф занимает доминантное место среди богатой эпиграфистики поздней Ахматовой, является прямым, очевидным следствием ее отношения к поэту и — одновременно — показателем динамики этого отношения. Для сравнения: в сочинениях Ахматовой двенадцать эпиграфов из лирики и поэм А. Пушкина, по четыре из стихотворений И. Анненского и О. Мандельштама, три — из лирики Б. Пастернака и множество одиночных эпиграфов из Данге, Шекспира, Тютчева, Гумилева, Цветаевой, Клюева, Бродского и других авторов. В творчестве Ахматовой представлены следующие пушкинские эпиграфы:
1. «Узнай, по крайней мере, звуки, / Бывало, милые, тебе».
Из посвящения к «Полтаве» (1828—1829).
2. «Александрийские чертоги / Покрыла сладостная тень».
Клеопатра (1828).
- 3. «И дряхлый пук дерев». Царское село (1819).
- 4. «И царскосельские хранительные сени…» Чаадаеву (1821).
- 5. «Все в жертву памяти твоей…» Все в жертву памяти твоей…
- (1925).
- 6. «Я теперь живу нс там…» Домик в Коломне (1830).
- 7. «Иных уж нет, а те далече…» Евгений Онегин, гл. 8.
- 8. «С Татьяной нам не ворожить…» Евгений Онегин, гл. 5.
- 9. «. .Я воды Леты пью, / Мне доктором запрещена унылость».
Домик в Коломне (1830).
- 10. «Люблю тебя, Петра творенье!» Медный всадник (1833).
- 11. «Вижу я, / Лебедь тешится моя». Сказка о царе Салтане
- (1831).
- 12. «От саркосельских лип…» Недвижный страж дремал…
- (1831).
Выбор Ахматовой эпиграфа всегда точен, определенен, жестко подчинен авторским намерениям. Есть многочисленные свидетельства, как настойчиво искала она оптимальный для ее замысла вариант эпиграфа. Так, в 1965 году она вновь и вновь «перекраивала», почти без надежды на публикацию, «роскошное» (ахматовская горько-ироническая реплика) издание «Бега времени», и, в связи с этим, возникла дневниковая запись: «Это оказалось несколько сложнее, чем я предполагала. Всего труднее подобрать тексты для будущих эпиграфов. Меня до сих пор еще не удовлетворяет мой выбор и мерещится что-то лучшее»8. В этом же году появляется записьразмышление о возможности (необходимости?) эпиграфа к столь, казалась бы, не нуждающемуся в нем жанру, как прозаические заметки: «Взять эпиграф к „Листкам из дневника“ „…Из чего же он (Человек) состоит: из Времени, Пространства, Духа?“» И сразу же объясняет свой выбор, прямо соотнеся его с главными целями своего собственного творчества: «Писатель, надо думать, и должен, стремясь воссоздать Человека, писать Время, Пространство, Дух»9.
Библейский и пушкинский эпиграфы в поэзии Ахматовой выполняют как общепринятые, так и свойственные только ее творческой индивидуальности функции. Прежде всего назовем традиционные приемы использования эпиграфа.
1. Отсыч к предтече, прямое указание на следование традиции.
Поэму «Путем всея земли» (1940), как и «Реквием», А. Ахматова называла «панихидой по самой себе». В. М. Жирмунский, наряду со стихотворениями «Когда погребают эпоху…» и «Лондонцам», поэму «Путем всея земли» считает решительным переломом в творчестве Ахматовой, который вызван очередным «ощущением надвигающегося исторического кризиса, отражающегося в кризисе сознания самого автора»10. Первоначальные названия поэмы — «Ночные видения» и «Кигежанка». Последнее отсылает к трагической мифологии России и ближе всего к замыслу поэмы, но и оно было заменено строками из Ветхого завета: «Вот я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из добрых слов, которые говорил о вас Господь, Бог ваш; все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся» (Библия. Кн. Писуса Навина, 23.14). Контекст цитаты углубляет замысел Ахматовой, прямо соотносящийся с магистральной темой ее творчества: нетленности царственного (= поэтического) Слова. Два эпиграфа предваряют поэму: «…и настало ему время идти путем всея земли», «…и Ангел поклялся живущим, что времени больше не будет». Первый является сложной контаминацией слов из «Поучения» Владимира Мономаха («Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней, грешного, сохранил»1') со строками из Третьей книги Царств («Вот, я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и мужественен» 2.2). Второй является вольной цитатой из Апокалипсиса: «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу. И поклялся Живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на ней, и море и все, что на нем, что времени уже больше не будет» (Откровение святого Иоанна Богослова, 10. 5—6). Оба эпиграфа отсылают к уже названному, а следовательно, пережитому человечеством чувству вселенского катастрофизма мира и мужественной необходимости пройти (избыть) свой тернистый путь.
В цикле «Северные элегии» всего два эпиграфа, и оба пушкинские. Один, точный, предваряет весь цикл и выполняет традиционную функцию — дает ключ к доминантной для цикла теме — теме памяти: «Все в жертву памяти твоей…» Именно память, по мнению современного исследователя, становится основной категорией, «через которую раскрывается мировоззренческое единство цикла. Эпиграфы, реминисценции, погружающие в богатый философский контекст, становятся признаком разомкнутого „я“, поскольку именно они определяют мировосприятие автора, задают то измерение бытия, которое мы называем „культурной памятью“»12.
2. Предварение основной мысли.
В раннем стихотворении «Майский снег» (1916), адресатом которого, по свидетельству П. Лукницкого, был Б. Анреп, эпиграф представлен в виде кода — «Пс. 6, ст. 7.», расшифровка которого («Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими я омочаю постель мою». Из псалма 6 царя Давида. Псалтырь) прямо «рифмуется» с финальными строками стихотворения: «И ранней смерти так ужасен вид, / Что не могу на Божий мир глядеть я. / Во мне печаль, которой царь Давид / По-царски одарил тысячелетья» (81). В той же функции артикулирования, усиления основной мысли произведения выступает эпиграф из Апокалипсиса «И сделалась война на небе», предваряющий трагическое стихотворение 1940 года «Лондонцам».
Первый в ахматовском творчестве эпиграф из Пушкина — «Узнай, по крайней мере, звуки, бывало, милые тебе» — открывает четвертую книгу стихов — «Подорожник», в которую вошли стихотворения 1913—1919 годов. Подобно «Вечеру», «Четкам», «Белой стае», магистральной остается тема любви, в случае с четвертой книгой сразу заданная эпиграфом из посвящения к «Полтаве»:
Узнай, по крайней мере, звуки, Бывало, милые тебе —.
И думай, что во дни разлуки В моей изменчивой судьбе Твоя печальная пустыня, Последний звук твоих речей —.
Одно сокровище, святыня, Одна любовь души моей13.
Точно сказал о принципиальном единстве и естественном различии пушкинской и ахматовской концепции любви В. Жирмунский: «В любовных стихах Ахматовой женское чувство имеет общечеловеческое звучание, подобно тому, как общечеловечны „мужские“ стихи Пушкина»14. Стихотворение Ахматовой 1940 года «Клеопатра» открывается эпиграфом из одноименного стихотворения Пушкина 1828 года: «Александрийские чертоги покрыла сладостная тень…» Единство/различие концепции любви/смерти поэтов двух веков очевидно. У Пушкина — высокая готовность мужчины платить за любовь-наслаждение как высшее проявление жизни:
Вдруг из толпы один выходит, Вослед за ним и два других, Смела их поступь; ясны очи;
Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи, И ложе смерти их зовет (С. 56).
У Ахматовой — спокойная готовность женщины платить за любовь-судьбу как высшее предназначение жизни:
А завтра детей закуют. О, как мало осталось Ей дела на свете — еще с мужиком пошутить И черную змейку, как будто прощальную жалость, На смуглую грудь равнодушной рукой положить (С. 151).
3. Доминантной для Ахматовой является диалогическая функция эпиграфа: «он принципиально открыт, фрагментарен, незавершен. Выбранные Ахматовой эпиграфы требуют не только знания исходного текста, но и соотнесения этого текста с ее произведением. Отметим, что ахматовский эпиграф не предполагает воспроизведения исходного текста: цитата намеренно восстановлена по памяти и обращена к активной памяти читателя»15. Точно подмечено исследователем эпиграфов из Боратынского к «Четкам» и второй главе «Поэмы без героя»: «Прочтение Ахматовой было оригинальным и точным: вглядываясь в поэтическое наследие Боратынского, она отбирала свое (выделено автором. — Т. С., А. П.) —то, что могло бы быть сказано ей и предвещало ее лирику»16. С особой очевидностью обнаруживает себя диалогическая функция эпиграфистики Ахматовой в цикле «Библейские стихи» (1921—1961), причем в весьма остром, чуть ли не конфликтом к источнику варианте. Все три «портретных» (выражение Ахматовой) стихотворения цикла предварены эпиграфами, содержащими фабульную канву библейских притч. «Рахиль»: «И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее» (Книга Бытия). «Лотова жена»: «Жена же Лотова оглянулась и стала соляным столпом» (Книга Бытия). «Мелхола»: «Но Давида полюбила… дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью» (Первая Книга Царств). Но лирические сюжеты трех ахматовских новелл входят в конфликт с библейской фабулой. Женщина становится не объектом эпического повествования, но субъектом лирического переживания. Эго женщина говорящая, любящая и страдающая. Авторскою волей библейская Лотова жена, у которой нет имени, но есть только знак принадлежности — «Лотова» и знак наказания за ослушание — «соляной столп», из безымянной грешницы становится истинной героиней, вызывающей не только сочувствие, но и восхищение: «Кто женщину эту оплакивать будет? / Не меньшей ли мнится она из утрат? / Лишь сердце мое никогда не забудет / Отдавшую жизнь за единственный взгляд» (С. 122).
Применительно к пушкинскому эпиграфу, его диалогическая функция проявлена во всем «царскосельском тексте» Ахматовой, являющемся сквозным в ее творчестве. «Царскосельский текст» всегда связан с Пушкиным и чаще всего предваряется пушкинским эпшрафом, будь го отдельное стихотворение («Наследница» открывается эпиграфом из стихотворения Пушкина 1924 года «Недвижный страж дремал на царственном пороге…», «От саркосельских лип…») или стихотворный цикл (цикл «Городу Пушкина» предваряется строкой стихотворения «К Чаадаеву» 1921 года — «И царскосельские хранительные липы…»). Цикл «Городу Пушкина» усиливает трагические мотивы «Седьмой книги», став поэтической эпитафией Царскому Селу, сожженному в годы Великой Отечественной войны. Исследователь лирики Пушкина Н. Степанов справедливо замечает: «Царское Село для Пушкина — это не только географическая точка, воспоминания о днях юности. Это тот круг впечатлений, мыслей, чувств, которые сохранили свое значение на протяжении всей последующей жизни поэта»17.
Пушкинская светлая печаль сменяется у Ахматовой трагическим чувством, пушкинская элегическая интонация — интонацией безысходного страдания-плача: «О, горе мне! Они тебя сожгли… / О, встреча, что разлуки тяжелее!..» (С. 200). Прошедшее время пушкинского стихотворения победимо воспоминанием, прошедшее время Ахматовой, парадоксально соединяясь с настоящим, уходит в Лету и может воскреснуть только в Слове, а значит — в Вечности:
Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли, Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ.
Одичалые розы пурпурным шиповником стали, И лицейские гимны все так же заздравно звучат.
Полстолетья прошло… Щедро взыскана дивной судьбою,.
Я в беспамятстве дней забывала теченье годов,—.
И туда не вернусь! Но возьму и за Лету с собою Очертанья живые моих царскосельских садов (С. 200).
Стремление в «чужом» увидеть «свое», а также установка на активный диалоге читателем провоцировали Ахматову на неточность цитирования эпиграфа, что встречается довольно редко, во всяком случае, много реже, чем неточное цитирование в основном тексте. Эпиграф по определению должен быть точен, иначе у читателя может возникнуть ощущение досадной ошибки, небрежности или игры/провала памяти. На последнее чаще всего и ссылаются при объяснении неточностей в эпиграфистике Ахматовой. Однако есть строки безусловные, в которых ошибиться весьма сложно, и в таком случае «неточность» должна оцениваться как сознательный художественный прием.
Так, «Распятие» предваряет неточная цитата из ирмоса IX песни канона службы в Великую субботу: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе…» Ахматова актуализирует семантику смертности в пространстве ослепшей к людскому горю страны: «Не рыдай Мене, Мати, во гробе зрящи…» Дневниковые записи свидетельствуют, что Ахматова знала точное звучание строк. В Страстную неделю 1965 года она делает следующую запись: «Среда. Ирмос 9-й п[есни] канона. В Вел[икую] Суб[богу]. Не рыдай, Мене, Мати, зрящи во гробе, его же во чреве без семени зачала еси сына; восстану бо и прославлюся и вознесу со славою непрестанно яко Бог, верою и любовью тя величающая»18.
Неточная цитата из «Домика в Коломне» открывает первую из семи элегий, имеющую подзаголовок «Предыстория». В пушкинском варианте строка, использованная Ахматовой, звучит так: «Я живу теперь не там…» В «Предыстории»: «Я теперь живу не там». Словесная рокировка акцептирует слово «теперь», выделяя из поэтической ткани «Первой элегии» категорию времени, которое предстает в «Предыстории» во всей своей многомерности. Это и историческое время, отбрасывающее недавние события в новую эпоху («торгуют кабаки, летят пролетки, пятиэтажные растут 1ромады», «страну знобит.»), и время культурное, предстающее как память о значимых для русской литературы именах («и визави меня живут — Некрасов и Салтыков… Обоим по доске мемориальной»), и временной отрезок жизни авторской личности, что соотносит все эти исторические напластования со своим духовным опытом: «Так вот когда мы вздумали родиться / И, безошибочно отмерив время, / Чтоб ничего не пропустить из зрелищ / Невиданных, простились с небытьем» (С. 215). Пушкинская фраза «Я теперь живу не там» из «Домика в Коломне» стала, по мнению А. Павловского, «для ее исторической живописи своеобразным камертоном, по которому она настраивала свои последние стихи. В ее собственной жизни прошло как бы несколько эпох одновременно, и каждое временное напластование она ощущала и осмысливала исторически конкретно, в совокупности точно запомнившихся вещных деталей и интимных фактов внутренней духовной жизни»19. Но именно «ошибка», актуализировавшая не «живу», а «теперь», выявляет магистраль поздней Ахматовой — «бег времени».
Личность и творчество Пушкина для Ахматовой — высшая мера ее времени, ее жизни, ее творческой судьбы. Р. Д. Тименчик утверждает: «Чтение Пушкина для Ахматовой неизбежно становилось формой аналитического самопознания»20. Сложнейший комплекс безупречных чувств и понимания сути пушкинского гения делают использование Ахматовой эпиграфов из его творений особо значимым. Пушкинский эпиграф, что может быть сравнимо только с эпиграфами из Библии, также несущими совершенно особую смысловую нагрузку в духовном мире Ахматовой, вступает в сложный, порой конфликтный (и это сознательный жест автора «Поэмы без героя») диалог с творчеством поэта XIX века, обнажая то «приращение» нравственного и поэтического опыта, что открыла русская поэзия в только что минувшем веке.
Ахматова, несмотря на очевидную связь с христианской культурой, остается поэтом новой эпохи. Опираясь па свой жизненный и творческий опыт, она переосмысляет Библию: любовь, история, судьба, христиански понятое предназначение человека становятся в мире Ахматовой страданием, роком, трагедией. Очевидно, что собственно конфессиональный подход к явлению и сути искусства не всегда или всегда себя не оправдывает. Каждый большой художник, вне зависимости от глубины и серьезности веры, всегда становится еретиком, ибо, беря на себя миссию Творца, он создает свой мир, мир человеческий, прекрасный и яростный, явленный с нечеловеческой (божественной) точностью и красотой: «и творчество, и чудотворство!» (Б. Пастернак). Достоевский следует Библии как нравственному императиву, Ахматова ее переосмысляет. Для Достоевского Пушкин — пророк и провидец, для Ахматовой — предтеча.
- 1 Ахматова А. Я — голос ваш… М., 1999. С. 214. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в круглых скобках.
- 2 Ахматова А. Собрание сочинений: В 6 т. М" 1998—2001. Т. 6. С. 322. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страниц в круглых скобках.
- 3 Халациньска-Вертеляк X Евангелие от Святого Иоанна и эпизод романа «Братья Карамазовы» (Литературное произведение в перспективе «великого кода») // Достоевский и мировая культура. Альм. № 15. СПб., 2000. С. 112—119.
- 4 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 12. Л., 1975. С. 253—254.
- 5 Найман Лн. Рассказы об Анне Ахматовой. М., 1999. С. 75.
- 6 Там же. С. 369.
- 7 Там же. С. 57.
- 8 Кравцов И. «Северные элегии» как реализация духовного опыта А. Ахматовой 1910—1940;х годов // Ахматова и русская культура начала XX века. М., 1989. С. 332.
- 9 Там же. С. 357.
- 10 Жирмунский В. М. Творчество А. Ахматовой. Л., 1973. С. 136.
- 11 Изборник: Сб. произв. лит. Древней Руси. М., 1969. С. 147.
- 12 Кравцов И. Указ. соч. С. 33.
- 13 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М., 1949. С. 433. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страниц в круглых скобках.
- 14 Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 79.
- 15 Цивьян I В. Семиотическое путешествие. СПб., 2001. С. 126—127.
- 16 Геяьфонд М. Эпиграфы из Боратынского в творчестве Анны Ахматовой // Творчество А. Ахматовой и Н. Гумилева в контексте поэзии XX века. Тверь, 2004. С. 125.
- 17 Степанов Н. Лирика Пушкина. М., 1974. С. 243.
- 18 Кравцов И. Указ. соч. С. 321.
- 19 Павловский А. А. Ахматова: Жизнь и творчество. М., 1991. С. 149.
- 20 Тименчик Р Д. Ахматова и Пушкинский Дом. Л., 1982. С. 112.