Существует ли теория словесности и при каких условиях возможно ее существование?
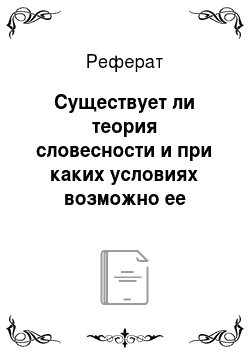
После этого воспитаннику предстоит труд собрать вместе в прочитанной басне все черты, йзображающие высокомерного невежду, и все черты талантливого певца. Осел первый раз увидел Соловья и уже обращается к нему очень самоуверенно (что называется, фамильярно): «Послушай-ко, дружище!» Дерзость, тон покровительства, грубая самонадеянность (сам посудит, и проч.), важный вид глубокомыслия (уставясь… Читать ещё >
Существует ли теория словесности и при каких условиях возможно ее существование? (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Когда Батюшков начал свое описание Финляндии, то говорил: «Я пишу о стране, близкой к полюсу, соседней Гиперборейскому морю, где природа бедна и угрюма, где солнце греет всего в продолжение двух месяцев и проч.». Подобно этому, имея намерение рассуждать о словесности, я должен сказать:
«Я решаюсь писать о предмете, всем нам близком, но в котором господствует еще первобытный мрак хаоса и современная бедность смысла, где только иногда мелькало что-то похожее на свет, но в сущности преобладали ночь и дикость».
Чтобы наше решение не показалось резким, стоит только просмотреть все известные у нас учебники словесности, вполне оправдывающие скептический вопрос, поставленный нами в оглавлении статьи. Послушайте возгласы бедных питомцев какого угодно заведения, прислушайтесь к общему мнению света: «Скучная, несносная теория!» — говорят все… «Да когда мы кончим эту теорию? Ради бога, избавьте нас только от теории!» Привести ли образчик определений, которыми щеголяет у нас словесность? Вообразим, что экзаменуется юноша, еще мало искусившийся в теориях.
«Скажите мне, что такое драма?» — спрашивает экзаменатор.—- «Драма? Драма — греческое слово, означает действие», — отвечает юноша, припоминая определение одного из незатейливых учебников.— «Нет!» — говорит решительно экзаменатор.— «Драма…— начинает юноша вновь, — это такая борьба, где мы видим своими глазами…» — «Нет и нет!» — «Драма, представление на сцене…» — «Нет! повторяю вам». Юноша совершенно мешается, встретив несколько раз сильный отпор.
«Ничего не знаете! — говорит экзаменатор.— Никакого самостоятельного взгляда! Драма есть объективное представление идеального в реальном по отношению к единству действия и к сущности содержания».
Немудрено после этого, что многие мыслящие люди решили у нас окончательно, что преподавать теорию словесности — значит по пустякам убивать время.
В чем преимущественно выразилась наша деятельность по этому предмету? В программах. Много было их написано и даже напечатано; можно надеяться, что еще много будет сочинено вновь. Но если бы и все эти программы собрать в одну книгу, то нисколько не доставим духовной пищи учащимся, которые должны питаться по-прежнему остатками давно умершей науки. Мы видели различных юношей, приготовляющихся к различным экзаменам, и душевно скорбели об их безотрадном положении. Каково бедному работнику носить груды камней на высокие леса — носить, носить… А здание все-таки не строится!
По многим обстоятельствам нельзя винить наших педагогов за то, что они так медлят дарить нас хорошими руководствами; но не следует также предписывать программ, которых выполнение возможно только в рапорте, подаваемом ежегодно начальству.
Любопытно, однако, проследить, в каком положении находится наша ветхая Словесность.
Когда она еще важно ходила в парике и в величественной одежде риторики с длинным шлейфом фигур, поддерживаемом хриями, она сама была очень почтенная фигура. Всякий, по крайней мере, знал, что это за особа. Источники изобретения отворяли дверь прямо в ее кабинет, где в невозмутимом спокойствии, как доктор-автомат, прописывала она свой рецепт на каждую мысль, на каждое чувство. Тогда без мук рождались на свет и мысль, и чувство. Нужно было изобразить умиление, и готовый состав умиления стоял иод ярлыком на полке. Тогда знали, что начинать сочинение надо с начала, а кончать концом. Но время шло вперед — и величественная особа очень пострадала: многоэтажный парик ее истрепался, платье совсем обносилось. Бедная Словесность совсем исхирела, между тем как ее родные сестры: Грамматика, Логика, Психология, Эстетика — все более росли и процветали. Наконец, старушке пришлось умирать или, как фениксу, переродиться. Но привычка, уважение и любовь к старине, наша благочестивая скромность, как нельзя лучше, помогли ей. Мы отстояли учительницу слова. Нужно было, однако, хоть из приличия, прикрыть обидную наготу ее — и вот, наделали заплат от изделия новых идей, перешедших к нам с Запада. Заплат понадобилось так много, что уже не находили ниток, за которые им держаться — и в таком виде осталась Словесность.
Прежде всего мы восчувствовали стремление к разработке философских начал Эстетики. Явились учения о красоте и о нравственной ее цели; явились определения вроде следующих: «Поэзия есть дар неба, возносящийся, подобно благоуханию розы, от пределов земли в бесконечность; поэзия есть музыка сердца, гармония звезд; скромная прелесть лилии, разливающей аромат свой в безвестной тиши; она имеет цель возвысить душу, облагородить сердце, научить добродетели, и т. д.».
Вслед за тем произвела вторжение Логика. Подобно сухому скелету, грозно стуча костями, вошла она в область нашего знания; в пустом черепе уже рылись, как червяки, понятия и суждения; вместо прежних, потешных фигур расползлось несметное число умозаключений, раскидывая бесконечную паутинную ткань.
Тогда мы вспомнили стихи Державина:
Глядит на прелесть и красы, Глядит на разум возвышенный.
Глядит на силы дерзновенны —.
И точит лезвие косы.
Много бы бед наделали и Эстетика и Логика, если бы кстати не подоспела Грамматика и не взяла их обеих в руки. От витания в бесконечных пределах прекрасного и умственного мы вдруг спустились к букве. Такие скачки возможны только при современных успехах движения, произведенных паровозами и телеграфами. Мы рады были, что нашли что-нибудь определенное и ясное, и стали со всеусердием ворочать букву. Что такое красота, поэзия, мышление, чувство? В сущности, это слова, выражающие известные понятия, а слова состоят из букв; следовательно, корень всего в буквах. И мы стали толковать о корнях и о приставках. «Дух» происходит, например, от глагола «дуть». Отсюда берут начало также: душа, душить, надувать—все это дует, только различным образом. Объясните частицу ду, сравнив с древнеготским, с греческим, с санскритским, — и выйдет полное понятие о духе. Да не подумают, что мы не ценим успехов современной филологии: мы хотим только показать крайность, до которой часто доходят люди в ее применении. Языкознание, давая твердую почву умозрению, грешит, как и всякая наука, выступая из своих пределов.
Наконец, все эти сведения: эстетические, логические, этимологические— смешались вместе, образовав довольно пестрое единство. Нам следует заметить, чтб принято было в руководство при издании различных наших руководств. Большею частью, кроме одной научной цели, сюда входило и много посторонних:
a) Цель экономическая. Устроить руководство с наименьшим трудом для себя и наибольшим успехом для сбыта.
b) Желание угодить некоторым избранным авторитетам, имеющим не одну умственную, но и вещественную силу.
c) Желание угодить почтенной старине, еще там и сям догнивающей в развалинах.
d) Желание угодить современности, сварливой, неугомонной, придирчивой и потому опасной. Безнадежный автор сунет мимоходом какую-нибудь похвалу журналу, поместит два-три модных взгляда или отрывка и скажет: «Нате вам, кушайте! только не бранитесь».
Мы долго не кончили бы, если бы принялись исчислять все роды угождений, к которым нередко способен доброхотный автор. Но и там, где руководства писаны были с одною целью принести пользу учащимся, они мало достигли своего назначения по двум причинам:
- 1) По отсутствию всякой системы, всегда необходимой в науке.
- 2) По отсутствию всякого педагогического метода.
Изложим прежде наши мнения о системе словесности.
Система, как известно, невозможна без научного метода.
Какой же метод в настоящее время имеет наибольшее применение в каждой науке? Кант начал новую эпоху философии критикой чистого разума; аналитический ум Нибура постановил сомнение началом исторической критики; основные силы природы раскрывает ныне не гадание по звездам, а микроскоп; а химия, разлагающая тела на их элементы, заняла посреди естественных наук самое видное место. Всюду находим мы анализ, строгий анализ, в основном, какого бы то ни было знания. Только при внимательном, всестороннем исследовании предмета возможен разумный синтез, и только сравнительным путем аналогии и при помощи наведения, метода, принятого в каждой реальной науке со времен Бэкона,—достигаем мы основательных выводов. Должна ли словесность быть реальною наукой? Полагаем, что так, если уж и метафизика в настоящее время стремится к тому же.
По узости взгляда, многие у нас понятие о реальном смешивают с материализмом. Реальным называется все то, что входит в круг действительной жизни, что выражает свой сокровенный закон в действительных фактах. Таковы все истинные, идеи, создание души человеческой и в то же время осязательное явление внешней жизни. Греки совершенно справедливо давали им эту фактичность, называя их видимым образом невидимого (15еа, идея, от глагола: loel, видеть). Таким образом, реальное составляет только внешнее ограничение идеального и, в сущности, от него неразлично. Иначе пришлось бы назвать идеалом то, что нигде и никогда не существует. При реальном характере словесности невозможно дойти до верных выводов без многостороннего изучения фактов той жизни, которую она обнимает.
Мы должны идти медленным, но твердым путем исследования и сравнения, чтобы вновь не впасть в старую схоластику, произвольно создающую правило, годное только для исключений. Нельзя сказать, чтобы у нас не признавали необходимости аналитического метода; но мало кто думал о разумном его применении. Многие ограничиваются разбором нескольких случайных фактов и по ним судят о целом роде. Так, образцом светского красноречия служат почти одни только речи Карамзина да Ширинского-Шихматова; единственным примером рассуждения являются: «Любовь к отечеству» Карамзина да «Согласование» Давыдова. «Краткие путевые заметки» Жуковского принимают за образец описания и т. д.
Многие, напротив, простирают анализ до того, что готовы отвергать всякий общий, неизменный закон в созданиях литературы. Так, останавливаясь на отдельном факте, утверждают, что всякая форма сочинений хороша, если только удовлетворяла потребностям века, что поэма Вергилия, «Ад» Данте, Клопшток, Гомер и Херасков все становятся под один уровень, если строго рассматривать их с исторической точки зрения. Ведь смешно же в наш век, столь искусный в краже, восхищаться тем, как Одиссей стянул коней у Реза, и, наоборот, разве роман Дюма не производил прежде такого же восторга, как «Дядя Том» в настоящее время?
Подобные суждения, нередко у нас встречаемые, доказывают недостаток основательного философского образования. Философские начала логики и эстетики, конечно, займут важное место в теории словесности; но они сами должны иметь твердую историческую основу, а не являться в уме мыслителя, как саморазвитие единицы из ноля, не наводить туману на факты, а, напротив, уяснять их: после предшествующего анализа здесь вполне законно принят будет обратный путь подведенья.
Мне кажется, что еще никто из писавших у нас теории до сих пор не позаботился основать свои выводы на всестороннем изучении хотя главнейших памятников литературы греческой, римской, средневековой и новейшей; никто не взял во внимание новейших исследований ни по части истории литературы, ни по части логики и эстетики: останавливаться на одном Аристотеле принято правилом у наших теоретиков.
Аналитический метод, который находим мы необходимым при построении всякой теории, в отношении к словесности может назваться историческим методом. Исследуя каждое произведение слова, мы должны различить, что принадлежит в нем духу времени и народному духу. Дух века и характер народа, налагая печать свою на литературное создание, составляют существенное его видовое отличие. В то время как родовые свойства неизменны, вид бывает разнообразен до бесконечности. Вид постоянно изменяется, иногда сохраняя от старины только немногие, чисто внешние признаки; виды часто смешиваются между собою, образуя новые формы, или исчезают без всякого следа, как явление местное, случайное. Не рассмотревши внимательно всех этих изменений, мы не можем определить, в чем состоит сущность известного рода сочинений. Не случалось ли вам беспрестанно читать и слышать подобные толкования: «История бывает трех родов: философская, прагматическая и художественная», «Драма занимает средину между трагедией и комедией», «Цель поэзии есть нравственно идеальное», «Роман должен изображать пороки современного общества» и т. д.
Нет ничего также забавнее, как видеть деление лирики, эпоса, драмы на неизменные рубрики, подобно тому, как в естественной истории к царству животных относят: рыб, птиц, четвероногих, пресмыкающихся. Куда принадлежит баллада: к лирике или к эпосу? Как сладить с сатирою, с баснею, с идиллией? «Рыбаки» Феокрита, конечно, идиллия, а где представлены не рыбаки, не поселяне, гам может ли быть также идиллия? Элегия означает грустную песнь: отчего же нет особенного названия для песни, выражающей радость, страх, удивление, надежду и проч. А романс? Как это забрались в поэзию стихотворения, подобные следующим:
Люди добрые! внемлите Печали сердца моего.
Смысла мало, а между тем все говорят: «Прекрасный романс! прекрасная музыка!» Гердер и у нас Жуковский переводили какие-то романсы о Сиде: не происходят ли и наши гостинные песнопения от этих? Вот вопросы, которые совершенно сбивают с толку мыслящих теоретиков. Новейшие руководства, однако, отличаются тем, что в них изгнаны: мадригал, рондо, триолет. За что такая немилость, совершенно непонятно: если считать ничтожную игру созвучий, то придется выбросить из поэзии лучшие песни Беранже, которых вся сила в рефрене .
Нет сомнения, что виды литературных произведений могут быть объяснены только исторически: иначе лучше не употреблять голых названий, дающих одно сбивчивое понятие. Сколько придумали подразделений для одних поэм! Поэма лирическая, сатирическая, историческая, героическая! Представлять все эти виды, как отдельно и самостоятельно существующие, крайне затруднительно: нашлись бы сотни фактов, которые нельзя подвести ни под один из них. Элемент исторический, проникнув в жизнь, отражается во всякой отрасли знания; он отражается как в эпосе, так в лирике и в драме. Следовательно, важно объяснить это влияние на поэзию вообще. Говоря же в особенности об исторической поэме, мы должны указать местные условия, при которых возможно ее существование. Здесь предел общей теории, здесь начинается раздробление видов до бесконечности. Можно предположить, что лирика, сатира, история, героизм соединятся в равной мере при создании какой-либо поэмы; тогда необходимо выдумать новый вид: лиро-сатиро-героико-историческую поэму. Ведь нашли же лиро-эпическую поэзию, трагикомическую драму. Условие всякого логического деления есть какой-нибудь один основной признак. Какое ж основание может быть там, где и форма, и содержание, и случайное, и существенное, и частное, и общее безразлично смешиваются вместе? Но мы так привыкли к схоластике, что вместо прежних названий беспрестанно придумываем новые, все чиня старые заплаты.
Какие периоды в истории литературы особенно важны для разъяснения теории, указывает нам сама история.
Сюда относятся:
- 1) Первое развитие родов и видов словесных произведений у греков, этого в высшей степени логического народа.
- 2) Новое развитие родов и видов в средневековой литературе.
- 3) Современное нам движение литературы—с половины прошедшего века до нынешнего времени.
На каком основании берем мы историю в руководство при этом делении? Мы уже упомянули о простом законе логики, соединяющем сходное и отделяющем различное. Три означенные нами периода представляют самые характеристичные изменения форм, конечно, зависящие от изменения духа.
Мы здесь следуем тому же правилу, по которому астроном, чтоб узнать ядро кометы, наблюдает прохождение ее мимо звезды; по которому натуралист находит основные формы растения в первом его развитии из зерна. Более крупные факты служат нам образцом: Гомера мы назовем представителем древней эпопеи. Очень естественно, что более крупные факты дают полнейшее развитие идеи, яснее указывают на общий закон. И естествоиспытатель различает низший организм от высшего тем, что в первом еще не видит главнейшего назначения бытия: свободного движения. Будет ли здесь покорное признание авторитета? Нет! Мы говорим: Шекспир выше Расинов и Корнелей, не потому, что он Шекспир, а потому, что он более удовлетворяет разумному закону жизни: чувствовать и действовать свободно. Этот разумный закон признан всеми, и нечего о нем распространяться. Вергилий не может стать на одну ступень с Гомером по той простой причине, что он подражал ему. Таким образом, сравнение фактов укажет нам, который из них выбрать, и авторитетом послужит то создание, в котором менее всего заметно влияние авторитета.
Посмотрим же, на что необходимо обратить внимание в указанных нами периодах.
- 1. Греческая литература, с одной стороны, примыкает к восточной, с другой — к римской. Сравнение ее и с тою и с другою необходимо. Здесь объяснится нам характер свободного творчества у греков. С одной стороны, мы должны сопоставить ему религиозный формализм индейцев, с другой — ученый формализм римской эпохи. Философия, начавшись анализом в школе Сократа, кончает схоластикой и мистицизмом. Однако и у римлян развились самостоятельно: история, заменившая при практическом их направлении народный эпос, и сатира, свойственная дидактическому направлению века, в который явилась. Лиризм немногих поэтов золотой эпохи, хотя и возник под влиянием греческой литературы, уже носит особый характер чувствительности, не свойственный грекам. Но гораздо важнее в римской литературе объяснить следующие стороны: формальное ее направление, дидактизм и тот реально-практический дух, который выразился в их гражданской науке.
- 2. Средние века представляют развитие новых форм в постоянной борьбе между двумя началами: элементом народным, особенно сильно высказавшимся в германской поэзии, и религиозно-ученым формализмом. В народной поэзии необходимо различить влияние Востока и древнеклассических преданий; ветхий формализм со времени изучения классиков римских и греческих постепенно уступает место свободному творчеству, сначала в Италии, а потом и в других странах. Длинный период возрождения наук и искусств в конце своем уже представляет обильный материал для ясного определения всех форм, господствовавших в литературе. Данге, Петрарка, Боккаччо, Тассо, Ариосто, Лопе де Вега, Сервантес, Камоэнс, Кальдерон, Мильтон и Шекспир — сколько имен, сколько образцов, без изучения которых не может обойтись ни одна теория поэзии! С другой стороны, и наука, все более расставаясь с прежней схоластикой, находит новых представителей в Бэконе и Декарте.
- 3. Новый век начинается новою борьбою свободной идеи с формализмом. С одной стороны, победа над утонченной французскою схоластикою во имя Шекспира и греков; с другой — могучее развитие романа и лирического элемента в поэзии. Между тем как наука быстро движется вперед, поэтическое творчество заметно истощается в настоящее время, ограничиваясь повторением однажды усвоенных форм. Ожидать ли решительного переворота или, заключая по аналогии, нового господства формализма?
Мы еще не пишем здесь плана для истории литературы: мы хотим только объяснить исторический метод, которому следуем. Возможно ли какое-нибудь единство при обозрении всех бесконечно разнообразных видов литературных произведений? Без сомнения, и виды соединяются между собою отдельными группами, т. е. имеют свою теорию; но эта теория определяется тем или другим направлением века. При суждении о каждом направлении нам, конечно, необходимо усвоить современный взгляд на науку. Это опять не значит, что мы должны следовать мнению того или другого авторитета; нам необходимо только принять во внимание результаты новейших исследований как по части теории, так и истории словесности. Современный взгляд! Как пугает многих это слово! Как пустозвонно кажется оно многим вследствие праздного его употребления! Тут сейчас приходят на память мелкие дрязги полемики, растление современного общества, меч анализа, без разбору убивающий все — и хорошее и дурное. Найдутся и такие люди, которые не допустят современного взгляда в словесности, потому что в Англии сильно распространен пауперизм в настоящее время. Но хотелось бы спросить этих людей: «Какой же взгляд вы изберете? Существовавший назад тому сто лет?» — Так отправляйтесь проповедовать между мертвецами; они одни поймут вас. Ваш исключительный, личный — изделие тесной коробки, в которой упрятан ваш собственный мозг? Так убеждайте только своих близких родственников и приятелей, если они захотят вас слушать. «Разумный!» — скажете вы. В таком случае не поленитесь узнать, чего требует общечеловеческий разум в последних существенных его выводах.
«Факты! факты! давайте нам фактов», — говорит современность, и это требование нигде так не основательно, как в теории литературы, которая столь долго питалась одним воздухом умозрения. Итак, при разборе видов, как уже сказали, можем указать их единство; оно зависит:
- 1) от народного характера, дающего то или другое направление литературе;
- 2) от влияния эпохи, оставляющей печать свою на каждом замечательном произведении.
Эта частная теория необходимо войдет в общую и впервые даст ей силу и значение. Общие законы литературных произведений, конечно, могут быть выведены из каждого образца. Возьмем ли мы стихотворения Анакреона или Державина, все-таки узнаем, что лирика основана на чувстве. Но довольно ли ограничиться этим, наполнив пустоту содержания возгласами о силе и нежности чувства? Если мы хотим понять, как действует это чувство, то необходимо, но крайней мере, сравнить лирику Державина, Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Кольцова. Пойдем, однако, далее. Объяснение лирики Жуковского приводит к объяснению германской, а германскую невозможно понять без греческой и т. д. Таким образом, теория, указывая элементы создания, получает настоящее свое содержание, а элементов нельзя понять без истории. И в лирической поэзии необходимо объяснить:
- 1) элемент, принадлежащий тому или другому народу, часто занесенный на чуждую почву чрез подражание;
- 2) элемент общественный, созданный обстоятельствами места и времени;
- 3) личность поэта, которая развивается всегда под влиянием обоих предыдущих элементов. Державин, конечно, имеет свой самостоятельный характер при выражении чувства; но самая выспренность его идей и образов не навеяна ли духом эпохи? Как при объяснении лиризма Пушкина не встретиться с Байроном? Как понять Кольцова, не изучив простонародной поэзии? И т. д.
Таким образом, везде история должна служить основанием теоретических объяснений. При настоящем положении нашей словесности, я полагаю, всего полезнее было бы составить хотя краткий курс истории всеобщей литературы для употребления в классах. Образцом подобного курса, вполне удовлетворяющего потребностям учащихся, может служить история греческой литературы, составленная в Германии Эдуардом Мунком для гимназий[1]. Мунк, делая краткий обзор главнейших фактов, самым подробным образом излагает содержание всякого замечательного произведения литературы. Если бы кто принял у нас труд сделать только подобные изложения всех известнейших творений да привести мнения о них лучших писателей, то и это была бы величайшая заслуга. В дополнение к такой истории необходима, конечно, и хрестоматия; но на первый раз довольно и указанного нами труда, чтобы принести учащимся существенную пользу. Умение избрать самое характеристическое в изложении — вот первое требование всякого практического курса. Прибавим еще одно: нам не следует сразу браться слишком за многое. Иначе есть опасность, что совсем ничего не сделаем. Довольно, если на первый раз мы ограничимся выбором самых оригинальных писателей; но повторяем, что для пользы учащихся не столько необходимо систематическое изучение всех фактов литературы, сколько непосредственное с ними знакомство при чтении и разборе содержания. Жиденький курс истории, наполненный именами и годами, похож на фальшивую библиотеку, которая состоит из пустых коробок, сделанных в форме книг с различными на корешке надписями. Здесь мы, естественно, переходим к педагогическому методу, применение которого, столь важное в преподавании, имеет свое место и в учебных руководствах.
Посмотрите, чем наполнены наши рукописные и печатные словесности! Почти во всех встретите вы неизменные рубрики о природе человека, о способностях души и тела, об уме, чувстве и воле и т. д. Потом следуют кое-какие сведения из теории слога, из теории изящного, из теории прозаических и поэтических сочинений. Дети заучивают наизусть туманные или витиеватые фразы и совершенно справедливо говорят: «Несносная, скучная теория!» Странное дело! Все убеждены, что словесность должна быть самым занимательным из всех предметов, а на деле выходит, что нет ничего труднее, как найти занимательность в преподаваемой у нас словесности. Самая поэзия служит только к истомлению памяти, и стишки, которые дают заучивать, часто оставляют одни горестные воспоминания о вовсе не поэтических нолях и единицах.
Обыкновенно говорят, что метод догматический по преимуществу удобен в преподавании: ясно изложенное правило, подтверждаясь в разнообразных примерах, вполне удовлетворяет сознание. Говорят также, что только при методе догматическом, обладающем самым обширным синтезом, возможна строгая система.
Конечно, если правило и примеры просты, то их легко поймут воспитанники. «Сочинение есть стройное изложение ваших мыслей о предмете». Это определение, может, и не покажется совсем пусто: воспитанник имеет понятие (хотя довольно темное) о том, что значат слова: мысль, изложение, стройность. Но и тут нельзя, наверно, поручиться, яснее ли для него слова, служащие определением, чем слово сочинение. Сам он, может быть, определил бы так: «Сочинить—значит написать что-нибудь о предмете, и написать складно». Но положим, что это определение неточно: простота, как известно, редко ладит с точностью. Скажем ли: «Сочинение есть полное развитие нашего понятия о предмете?» Вот уж тут придется иметь дело и с понятием, и с развитием: разгоняйте туман, произведенный в голове этими словами. Пойдем, однако, далее: «Сочинение есть синтез ваших аналитических исследований предмета». Разве не верно мы объясняем? Но синтез и анализ увлекут нас в бесконечную область новых определений и толкований. И вот, объясняя таким образом, мы никогда не выйдем из заветного круга отвлеченных понятий, а пока придут примеры на помощь удрученному уму, все наши определения и толкования будут забыты. Приведем еще пример. «Поэзия есть воссоздание жизни в идеальных образах». Полагаем, что такое определение ничем не хуже всякого другого. Но какую длинную лестницу попятий нужно пройти, чтоб объяснить слова: идеал и образ. Многие судят таким образом: «Необходимо вместить в голову юношам как можно более общих понятий, а уже потом они сами, по собственному призванию и выбору, примутся за исследование того или другого предмета: общие понятия и послужат им руководством при этом исследовании». Заметим только, что общие понятия могут служить руководством тому, кто уже имеет богатый материал знаний. Представьте, если бы вас привели учиться ботанике в сад, где наставлены палочки с надписями вместо цветов и деревьев, если бы вам стали показывать картинную галерею и сказали бы: «Вот в этой зале находятся картины фламандской школы, чудные картины! Как натурально изображена на них природа! Какая тонкость в отделке мельчайших подробностей! Каждая картинка составляет целый мир, и нельзя нс восхищаться терпению и искусству художников! Вот видите, и над дверями находится надпись: „фламандская школа“. Но теперь вход запрещен. Пойдемте далее. Вот дверь, которая ведет в залу итальянской живописи: тут Рафаэль, Микеланджело, Тициан — все имена первой знаменитости. Пойдемте далее».
Мы уверены, что такой метод, кроме своей несостоятельности, приносит и существенный вред. В голове остается хаос общих понятий, а свойство юной, восприимчивой души таково, что она не может довольствоваться пустым отвлечением. Не представляя положительных знаний уму, мы тем самым даем полную свободу фантазии, которая, следуя неизбежному требованию природы, населяет всякое пустопорожнее место в преподаваемой науке произвольными вымыслами. Нет нелепости, которая не рождалась бы при этом направлении в голове; но уж такова фантазия, не основанная на реальном знании. Тут часто остается желать только одного: чтобы призрачная наука вовсе не была воспринята.
Кроме указанной нами потребности юношеского возраста, надо обратить внимание и на тот естественный путь, которым развивается всякая истинная наука. Путь анализа, как всякому известно, один ведет к прочному знанию. Необходимо дать усвоить этот метод, с помощью которого изощряется и диалектическая способность ума, разлагающего общее на части, и становится возможною самостоятельная деятельность учащихся в образовании синтетических суждений. Мы готовы защищать самый обширный синтез; но пусть он будет в уме преподавателя, как нить, невидимо связующая весь курс аналитических упражнений. Мы особенно восстаем против всяких догматических объяснений там, где содержание объясняемого предмета совершенно чуждо воспитанникам. К приведенному нами выше определению поэзии очень легко достигнуть, просто разобрав даже одну из басен Крылова. Возьмем в пример басню «Осел и Соловей»:
Осел увидел Соловья И говорит ему: «Послушай-ко, дружище, Ты, сказывают, петь великий мастерище». .
Начнем с того, что воспитанник прочтет эту басню и перескажет ее содержание. Следуют вопросы:
Кто здесь представлен? Кого надо разуметь ослом и соловьем?
Сошлись два очень противоположных человека: один невежда и высокомерно судит о том, чего не понимает; другой — простодушный певец — талант, которому выпало на долю пленять своим искусством ослиные уши.
Пусть преподаватель приведет несколько примеров подобных столкновений между людьми, и характеры объяснятся. Цель его при этом — указать воспитаннику, что характеры взяты Крыловым из жизни, а не вымышлены произвольно. Следовательно, Крылов изображает жизнь.
После этого воспитаннику предстоит труд собрать вместе в прочитанной басне все черты, йзображающие высокомерного невежду, и все черты талантливого певца. Осел первый раз увидел Соловья и уже обращается к нему очень самоуверенно (что называется, фамильярно): «Послушай-ко, дружище!» Дерзость, тон покровительства, грубая самонадеянность (сам посудит, и проч.), важный вид глубокомыслия (уставясь в землю лбом), рассчитанная умеренность похвалы (нужно же немного поощрить талант, который всеми признан; в противном случае Осел, вероятно, не удостоил бы Соловья и этой похвалы) и в заключение всего блистательная глупость — вот черты, которые, будучи собраны вместе, ярко характеризуют невежду. Точно так же в Соловье Крылов изображет необыкновенное разнообразие таланта и его чудное действие на всю окружающую природу. Конечно, не без намерения, автор обрисовывает с такою подробностью прелесть соловьиной песни. Цель его была представить полный образ невежды и могучего таланта. Полный образ соединяет разбросанные черты жизни в одно целое, — и это живое единство называется идеей. Преподаватель может привести еще несколько примеров, как образ и идея сливаются вместе. Следовательно, Крылов, изображая жизнь, представляет ее в идее, то есть сосредоточивает разнообразные ее явления в один полный образ. Этим самым он воссоздает жизнь, то есть изображает ее, принимая во внимание не отдельный только факт, а те основания, по которым образуются все однородные факты. Такое воссоздание жизни называется поэзией. В дополнение к этому объяснению преподаватель расскажет, как та же самая мысль Крылова об отношениях невежды-критика к таланту могла бы быть развита прозаически, то есть в каком-нибудь рассуждении на тему: «Избави нас бог от глупых судей». Во многих баснях Крылова тот и другой способ в развитии мысли встречается рядом, и нет ничего легче, как указать их существенное различие.
Когда таким образом утвердится истинное понятие о поэзии, уже можно, начиная синтетически с общего определения, делать частные выводы. Можно сказать: «Так как образ и идея в поэзии нераздельны, то не будет поэтическим сочинение, в котором находим одно дагсрротипное изображение жизни без общей руководствующей идеи или одну отвлеченную идею, не представленную в наглядном образе» и т. д.
Скажут, что, объясняя предмет подобным образом, мы не в состоянии будем пройти курса, назначенного программою. Против этого мы не спорим: там, где вся забота не об основательном изучении предмета, а об выполнении той или другой программы, пускай учение и остается одною программою. Со своей стороны, мы думаем, что лучше пройти немного, да с теми подробностями, которые оставляют в душе живое, вечное знание. Иначе наука будет состоять в одних оглавлениях да в тех коротеньких рецептах, заучивание которых на самом деле подобно впечатлению от принятой микстуры. Все говорят, что нужно практически знакомить с предметом; многие даже преимущественно занимаются в классах чтением писателей. Но тщедушное руководство лежит по-прежнему в виде книги или тетради на столе, и его непременно следует вызубрить к экзамену. Таким образом, экзамен почти никогда не соответствует тому, чем занимается мыслящий преподаватель в классе. При нашей всеобщей болезненной страсти заучивать на память и лености мыслить, я полагаю в настоящее время решительно необходимым не давать по теории никаких руководств или записок, а заставлять самих воспитанников при разборе выискивать правила. Задавая разнообразные разборы, вы понемногу приведете их к пониманию системы, которую вовсе нетрудно удержать в голове, когда вполне понято содержание науки. Мы должны, наконец, понять, что для учащегося главная польза не в определениях, а в усвоении того, что под определениями заключается. Усвоив надлежащим образом содержание, он, может, даст и свое определение, которое будет ничем не хуже помещенного в руководстве. Вся цель науки—достигнуть, наконец, системы знаний: но пусть эта система будет не один мертвый остов, пусть воспитанник поймет ее, участвуя сам при ее построении. Я думаю, что нет ничего вреднее, как, набивая голову определениями, беспрестанно закручивать ум в эту систему, подобно тюку с товарами. Надо всегда знать, сколько способен усвоить ее воспитанник по степени своего развития. Система может быть и в объяснении немногих отдельных фактов, и в целости рода, и в соединении родов, составляющем отдельную отрасль знания, и в связи всех наук между собою. Возносясь же слишком высоко, чтоб лучше видеть, мы, наконец, ничего не видим. Чтобы дать живую систему знаний, надо постепенно приготовить к ней воспитанников знакомством с фактами.
Таким только образом практика может соединиться с теорией.
- [1] Geschichte der grichischen Literatur fur Gymnasien und hohcrc Bildungsan-stalten, von Dr. Eduard Munk. Berlin, 1850.