Значение музыкальной проблематики в романе Т. Манна «Доктор Фаустус»
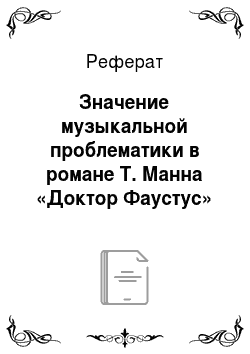
Переломный этап в судьбе Леверкюна — создание цикла из 13 песен на стихи Клеменса Брентано. Этой работе предшествовало загадочное знакомство Леверкюна с курносой женщиной легкого поведения в испанском болеро, имя которой Манн не называет и которая самим Леверкюном была прозвана Hetaera esmeralda — Гетера Эсмеральда. Цейтблом пишет: «Леверкюн не первый и не последний композитор, любивший прятать… Читать ещё >
Значение музыкальной проблематики в романе Т. Манна «Доктор Фаустус» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Значение музыкальной проблематики в романе Т. Манна «Доктор Фаустус»
музыка роман манн произведение Роман Томаса Манна «Доктор Фаустус» (1947) рисует широкую панораму музыки во многих ее аспектах: историческом, эстетическом, социально-эпическом и техническом. В романе отразились важные проблемы кризиса буржуазной культуры первой половины XX века — культуры «заката Европы». Являясь философским, этот роман, естественно, и анализировался в первую очередь с точки зрения затронутых в нем философских проблем. Между тем, не меньший интерес вызывает музыкальная сторона произведения. Пианист и искусствовед Александр Майкапар писал о «Докторе Фаустусе»: «Роман этот один из самых музыкальных во всей мировой литературе».
«Доктор Фаустус» постоянно находится в центре внимания литературоведов и музыковедов. Этот роман насыщен глубокими идеями об истории, искусстве, судьбах людей. Вероятно, такие произведения невозможно до конца понять, даже изучая их в течение многих лет. Это открывает возможности бесконечного диалога с читателем. Но для плодотворного диалога необходимо внимательно вчитываться и «вслушиваться» в роман Томаса Манна.
Манн писал: «…я всегда жил в соседстве с музыкой, она была для меня неиссякающим источником творческого волнения, она научила меня искусству, я пользовался ее приемами как повествователь и пытался описывать ее создания как критик…».
Роман о «жизни немецкого композитора Адриана Леверкюна, расказанной его другом», начинает звучать буквально с первых же страниц. Например, мы слышим, как дребезжит старое пианино под пальцами Венделя Кречмара. Мы также узнаем, как по-разному звучат разные музыкальные инструменты в магазине Николауса Леверкюна, дяди будущего композитора:
«Были там и колокольчики, на ребяческом подобии которых мы некогда силились выбивать „К нам певунья слетела“, здесь же точно настроенные металлические пластинки размещались в красивых ящиках, свободно подвешенные попарно на поперечных рейках. Мелодический звук извлекался из них стальными молоточками, что лежали в обитых материей коробочках под крышкой ящика. А вот и ксилофон, казалось, нарочно изобретенный для того, чтобы в хроматической последовательности воссоздавать полуночную пляску мертвецов на погосте…».
Перед читателями возникает то рационально организованный хитроумный контрапункт фламандцев XVI века, то красочный мир оркестровой романтической музыки, то экспрессивные штраусовские вальсы. Когда биограф Леверкюна Серенус Цейтблом описывает его никогда не существовавшие музыкальные произведения, он оперирует совершенно конкретными понятиями и терминами теории музыки. Манн отдавал себе отчет в исключительной «музыкальности» своего романа. Даже простого филолога Цейтблома он делает музыкантом-любителем, не только умеющим играть на старинном струнном смычковом инструменте viola d’amore (кстати, это можно воспринимать как намек на автобиографичность образа героя, т.к. сам Томас Манн хорошо играл на скрипке), но и разбирающимся в таких непростых вещах, как трехтемная фуга или энгармоническая модуляция. Цейтблом способен не только вникать во все тонкости духовной и музыкальной жизни своего друга, но и участвовать в его творческом процессе — в качестве либреттиста оперы «Бесплодные усилия любви» и т. д.
В «Докторе Фаустусе» упомянуто шестьдесят четыре имени композиторов разных стран и эпох. Некоторые из них названы лишь однажды, другим уделено много внимания. Иногда имя композитора вообще не называется, но образованный читатель сразу понимает, на творчество какого знаменитого музыканта намекает автор. Например, повествуя о последнем, «прощальном» произведении Леверкюна, Манн пишет: «Вы только послушайте финал, послушайте его вместе со мной! Одна за другой смолкают группы инструментов, остается лишь то, во что излилась кантата, — высокое „соль“ виолончели, последнее слово, последний отлетающий звук медленно меркнет в pianissimo ферматы». Это, безусловно, навеяно «Прощальной симфонией» Йозефа Гайдна.
Однако имя композитора Арнольда Шенберга, сыгравшего важнейшую роль в создании романа, автором ни разу не упоминается. В XXII главе Леверкюн от своего имени очень взволнованно, эмоционально излагает суть додекафонной (двенадцатитоновой) системы:
«Звук ля, который стремится к разрешению в соль-диез, то есть переводит тональность из си-мажора в ми-мажор, повел его дальше, и вот он через ля, ре и соль пришел к до-мажору, и Адриан тут же мне показал, как, прибегая к бемолям, можно на каждой из двенадцати звуков хроматической гаммы построить мажорную или минорную тональность. <�…> Почему я был не только удивлен, но взволнован и даже немного испуган? У него горели щеки, чего никогда не случалось во время школьных занятий, даже на уроках алгебры».
Однако на самом деле эту систему изобрел Шенберг. Обидчивый и самолюбивый композитор узнал себя в герое «Фаустуса». Отвечая на его негодование, Манн в приписке ко второму изданию романа был вынужден публично «покаяться» в этом заимствовании, признать, что это «духовная собственность» Шенберга. Впрочем, Манн позже пояснил, что ему это не совсем по душе: «…в сфере моей книги, этого мира дьявольской сделки и черной магии, идея двенадцатитоновой техники приобретает такой оттенок, такой колорит, <�…> который в известной мере делает ее поистине моим достоянием, то есть достоянием моей книги».
Также главный герой романа развивает интересную теорию о том, что музыка и язык представляют собой единое неразрывное целое:
«Музыка и язык, настаивал он, нерасторжимы, в сущности они составляют единое целое, язык — это музыка, музыка — это язык, и, будучи разделены, они всегда ссылаются друг на друга, подражают друг другу, заимствуют друг у друга средства выразительности, подменяют друг друга. Что музыка сначала может быть словом, что ее предвосхищают и формируют слова, он доказывал мне на примере Бетховена, который, как показывают современники, сочинял ее с помощью слов. „Что он записывает в книжечку?“ — „Он сочиняет музыку“. — „Но ведь он пишет слова, а не ноты“».
Нет сомнений в том, что образ Леверкюна — собирательный. Он вобрал в себя черты многих знаменитых людей (например, Фридриха Ницше, Федора Достоевского).
Следует упомянуть о той сюжетной линии в романе, которая касается взаимоотношений Леверкюна с его тайной покровительницей госпожой фон Толна. В «Романе одного романа» Манн писал: «Нечего и говорить, что в качестве мадам фон Толна воспроизведена приятельница-невидимка Чайковского госпожа фон Мекк». В романе фон Толна присылает Леверкюну в знак своей симпатии и почитания перстень — «камень прекраснейший, светло-зеленый уральский изумруд, с широкими гранями, такой, что глаз не оторвать». Исследователи заметили, что в этом эпизоде, содержится и автобиографический намек — отношения писателя с его богатой, а главное, проницательной почитательницей Агнес Мейер, много сделавшей для облегчения жизни Манна в Америке.
Также одним из прототипов главного героя был Игорь Стравинский. В романе-спутнике Манн упоминает о встречах с ним, о чтении его мемуаров «Хроника моей жизни». Он писал: «…таинственно-знаменательным представляется мне выбор книг, которые я <�…> читал в поездах, а также по вечерам и в минуты отдыха, и которые, вопреки обычно соблюдаемой мною гигиене чтения, никак не соприкасались ни с моей тогдашней работой, ни с той, что стояла на очереди. Это были мемуары Игоря Стравинского, которые я изучал с „карандашом в руке“, то есть, подчеркивая некоторые места, чтобы снова к ним возвратиться». Записи Стравинского произвели на него неизгладимое впечатление. Вот, например, штрих в характеристике творчества Леверкюна, заимствованный из биографии Стравинского: композитор сам признавался Манну в том, что учение о гармонии раздражала его и наводило на него тоску, а контрапункт, наоборот, очень нравился (в романе Леверкюн пишет Цейтблому: «Между нами говоря, над гармонией я зеваю, зато контрапункт сразу меня оживляет»).
Почти все проблемы, затронутые в лекциях Кречмара, музыкального наставника Леверкюна, (в начале романа), позже находят отражение в творчестве Леверкюна. Таковы мотивы «прощания» (бетховенская соната № 32 соч. 111 — «Плач доктора Фаустуса» Леверкюна), идея порядка (лекция Кречмара «Бетховен и фуга» — додекафонная система Леверкюна).
Александр Майкапар пишет: «Бетховен оказал столь сильное влияние на Леверкюна, что тот в своем скрипичном концерте пишет „нечто вроде смелого пассажа, носящего драматически-разговорный характер — отчетливая реминисценция речитатива первой скрипки в последней части бетховенского квартета, а mо11, с той только разницей, что за пышной музыкальной фразой там не следует мелодическая праздничность“. Этот квартет был одним из любимейших произведений Т. Манна».
Однако исследователь Топер П. М. в своей статье «Трагическое в искусстве ХХ века» акцентирует наше внимание на другой «грани» отношения Леверкюна к творчеству Бетховена: «Эта новая музыка несет в себе отказ от всего доброго и прекрасного, великого и вечного, что было накоплено человечеством». («- Я отказываюсь. — От чего, Адриан? — От Девятой симфонии»). Вместе с отказом от Девятой симфонии уходила жизненность, непосредственность, естественность, свойственная великому классическому искусству (Бетховен: «Чем проще, тем лучше»), на ее место приходила бесчеловечная, «холодная» сложность, подаренная — по Томасу Манну — дьяволом". Адриан Леверкюн — основоположник музыкального авангарда.
Как ни странно, автор романа признавался, что его собственные музыкальные предпочтения далеки от нововведений ХХ века. В письме к музыкальному критику Г. Г. Штукеншмидту Томас Манн писал: «Теоретически я кое-что знаю о современной музыке, но наслаждаться ею, любить ее — увольте».
В создании романа Манну часто помогал немецкий философ и музыковед Теодор Адорно. В первом же письме Манна к, будущему автору «Философии Новой музыки», он просит ему помочь. Дело идет о главах романа, над которыми он сейчас работает: о Кречмаре, позднем Бетховене и сонате опус 111: «Выпишите для меня в простых нотах тему Ариетты… Мне нужна интимная посвященность и характерная деталь, каковые я могу получить лишь от такого превосходного знатока, как Вы». Из дальнейшего обмена письмами видно, как велика была роль Адорно в работе над романом «Доктор Фаустус». В приложениях к переписке опубликована не только собственноручно сделанная для Манна копия темы второй части сонаты с пояснениями самого Адорно, но и наброски произведений Адриана Леверкюна со всеми его дерзкими, «дьявольскими» новшествами.
Интересна методика преподавания, которой придерживался Кречмар в своих занятиях с Леверкюном. В Кайзерсашерне Леверкюн только начал изучать основы музыки. Но уже тогда Кречмар заботился в первую очередь о широком гуманитарном образовании юноши. «Его уроки музыки <�…> на добрую половину состояли из бесед о философии и поэзии». Какой же был репертуар Леверкюна? «В гаммах он упражнялся добросовестно, но школа фортепианной игры <�…> оставалась в пренебрежении». «Кречмар просто заставлял его играть несложные хоралы и <�…> четырехголосные псалмы Палестрины <�…>, затем, несколько позднее, маленькие прелюдии и фугетты Баха, его же двухголосные инвенции, „Sonata facile“ Моцарта, одночастные сонаты Скарлатти. Кроме того, Кречмар и сам писал для него небольшие вещички, марши и танцы, как для сольного исполнения, так и для четырех рук». Последняя деталь — сочинительство Кречмара специально для ученика — особенно примечательна. Это старинная музыкальная педагогика. Так учил своих учеников Бах, писавший прелюдии, менуэты, инвенции прямо в тетрадь ученику во время занятия. Достаточно прочитать баховское собственноручное предисловие к инвенциям, чтобы убедиться в сходстве целей Баха и Кречмара: «Добросовестное руководство, в котором любителям клавира, особенно же жаждущим учиться, показан ясный способ, как чисто играть не только с двумя голосами, но при дальнейшем совершенствовании правильно и хорошо исполнять три обязательных голоса, обучаясь одновременно не только хорошим изобретениям, но и правильной разработке; главное же — добиться певучей манеры игры и при этом приобрести вкус к композиции».
В дальнейшем перед Леверкюном встает проблема профессионального композиторского образования. Манн чувствовал затруднения, так как он точно не знал, как учатся будущие композиторы. Писатель обратился за советом к выдающемуся дирижеру Бруно Вальтеру: «Хочу рискнуть, — но предвижу, что мне еще придется просить у вас совета и конкретных сведений, например, уже сейчас относительно профессиональной подготовки музыканта — творца. Тут ведь нет, наверно, никакого общего правила, и консерватория вовсе не обязательна?». Дирижер соглашается с тем, что престижное консерваторское образование не так уж необходимо композитору. Однако он считает, что музыкант не может обойтись без советов какого-нибудь уважаемого маэстро. В результате этой переписки в романе появляется следующий эпизод: Леверкюн пишет Цейтблому: Кречмар «слышать не хочет о моем поступлении в консерваторию, ни в большую, ни к Хазе, где он преподает: уверяет, что не подходящая это для меня атмосфера, что мне надо действовать, как папаша Гайдн, который никогда не имел praeceptor’а, но добыл себе „Gradus ad Parnassum“ Фукса и кое-какую тогдашнюю музыку, главным образом, гамбургского Баха, и на них отлично изучил свое ремесло».
Дань признательности Томас Манн своеобразным способом отдал и самому Вальтеру: по воле писателя одно из зрелых произведений Леверкюна — «Космическая симфония» — было исполнено в Веймаре «под управлением ритмически наиболее чуткого и точного Бруно Вальтера».
Томас Манн добивается впечатления полнейшей реальности, достоверности личности Леверкюна. Ему, безусловно, удалось «воспроизвести творения выдающегося композитора так, чтобы читателю казалось, будто он их действительно слышит, чтобы он в них поверил».
В описании музыкальных произведений в романе была чрезвычайно важна точность. Вот как описывает Манн диалог между ним и Адорно об отрывке, описывающем скрипичный концерт: «„Написан ли уже тот концерт, о котором вы говорили?“ — „Да, кое-как“. — „Нет, позвольте, что очень важно, здесь нам нужна большая точность!“. И после нескольких его фраз эта „пародия на страсть“, эта фантазия, лишь приблизительно облеченная мною в слуховые образы, получила настоящий технический костяк».
Кроме Бруно Вальтера произведения Леверкюна в романе исполняли Эрнест Ансерме, а также Отто Клемперер (в 1926 году «на торжественном собрании Международного общества новой музыки во Франкфурте-на-Майне»). Швейцарский дирижер Ф. Андре дирижировал Брентановскими песнями Леверкюна в Цюрихе. П. Монте шлет письмо Леверкюну, в котором предлагает исполнить его произведения в Париже. В доме Шлагинхауфенов Леверкюн знакомится с другим, реально существовавшим крупным дирижером Феликсом Мотлем. Если речь заходит об издании произведений Леверкюна, то это непременно крупнейшие издательства, специализирующиеся на издании современной музыки, — «Шота» (существующее в Вене с 1770 года) и новейшее «Универсальное издательство» (основанное в 1901 году и первым опубликовавшее произведения Шенберга, Веберна, Берга, Малера и других). Таким образом, реальность в романе тесно переплетается с вымыслом.
Как ни странно, при необычайно глубоко музыкальных качествах романа, его «музыка» не имеет почти ничего общего с историческими музыкальными реалиями XX века. Как справедливо писал в предисловии к русскому переводу романа А. В. Михайлов, «из одного романа Т. Манна, если не знать истории музыки XX века, невозможно узнать о ней ровным счетом ничего».
Каково воображаемое творческое наследие Леверкюна? О ранних его произведениях писатель упоминает кратко, давая тем самым понять, что речь идет о неинтересных незрелых опусах начинающего композитора. Более поздние «Светочи моря» предстают в романе как уже мастерское произведение Леверкюна. Причем сам Леверкюн поставил в нем перед собой чисто техническую задачу — исследовать колористические возможности оркестра: «Это был образец утонченной музыкальной живописи, свидетельствующий о поразительном пристрастии к обескураживающим смешениям звуков, почти не поддающимся разгадке с первого раза, и компетентная публика увидела в молодом авторе высокоодаренного продолжателя линии Дебюсси — Равеля». Важно отметить, что на связь этого опуса Леверкюна с музыкальным импрессионизмом, в частности, Дебюсси, намекает и само название произведения, которое у многих исследователей вызывает ассоциации с тремя симфонических эскизами Дебюсси под назанием «Море». Однако, понимая, что Леверкюн принадлежит к следующему поколению композиторов, Манн от имени Цейтблома поясняет: «Искрометные „Светочи моря“ были в моих глазах весьма любопытным примером того, как художник сполна отдается делу, даже если в глубине души в него не верит, и стремится блеснуть в мастерстве, сознавая, что оно уже отживает свой век».
Переломный этап в судьбе Леверкюна — создание цикла из 13 песен на стихи Клеменса Брентано. Этой работе предшествовало загадочное знакомство Леверкюна с курносой женщиной легкого поведения в испанском болеро, имя которой Манн не называет и которая самим Леверкюном была прозвана Hetaera esmeralda — Гетера Эсмеральда. Цейтблом пишет: «Леверкюн не первый и не последний композитор, любивший прятать в своих трудах таинственные шифры и формулы, обнаруживающие природную тягу музыки к суеверным построениям буквенной символики и мистики чисел», «в музыкальных узорах моего друга поразительно часто встречаются слигованные пять-шесть нот, начинающиеся „h“, заканчивающиеся на „еs“, с чередующимися „е“ и „а“ посредине — характерно-грустная мелодическая основа, всячески варьируемая гармонически и ритмически, относимая то к одному голосу, то к другому, подчас в обратном порядке, как бы повернутая вокруг своей оси, так что при неизменных интервалах последовательность тонов меняется: сначала в лучшей, пожалуй, из тридцати сочиненных в Лейпциге брентановских песен, душераздирающей „О любимая, как ты зла!“, целиком проникнутой этим мотивом, затем в позднем, пфейферингском творении, стол неповторимо сочетавшем в себе смелость и отчаяние: „Плаче доктора Фаустуса“». Означает же этот звуковой шифр Hetаеra esmeralda. Как известно, звуки обозначаются буквами латинского алфавита. Многие композиторы использовали эту возможность, «вписывая» то или иное имя в музыкальное произведение. Самые яркие примеры — «автографы» Баха (BACH) и Шостаковича (DSCH).
Многие из последующих сочинений Леверкюна также будут связаны с текстом, причем то, что в один период жизни Леверкюна представляется самоцелью — сочинение вокальных миниатюр, по-иному освещается в ретроспективе, когда становится ясным, что он задумал большое словесно-музыкальное творение — оперу «Бесплодные усилия любви» по комедии Шекспира и на брентановских миниатюрах оттачивал свою вокальную технику. Выбор шекспировского сюжета для оперы был сделан Ленверкюном не случайно. Писателя занимала ситуация «поэт — возлюбленная — друг», то есть сюжет, привлекавший Манна в творчестве Шекспира.
Роман заставляет читателя задуматься. Как может звучать музыка Леверкюна? Представлял ли писатель реально какое-то звучание или эта музыка была для него какой-то абстракцией? Возможна ли вообще такая музыка?!. Если судить по тому, как Цейтблом описывает музыку Леверкюна, ее эстетика должна была быть близкой по духу музыке австрийского композитора Густава Малера — кстати, автора Восьмой симфонии, в финале которой он использует текст «Фауста» Гете. Но когда речь заходит о технике, она оказывается сродни методу додекафонии композиторов новой венской школы. Такое сочетание, по мнению музыковедов, немыслимо, невозможно.
Первое из двух главнейших сочинений Леверкюна — «Apocalypsis cum figuris». Читаем письмо писателя к Теодору Адорно: «Леверкюн, тридцати пяти лет, в приливе эйфорического вдохновения, в устрашающе короткий срок, создает свое главное или, вернее, свое первое главное произведение, „Apocalypsis cum figuris“ <�…>. Здесь требуется с известной убедительностью выдумать, наделить реальными чертами, охарактеризовать какой-то музыкальный опус (он представляется мне очень „немецким“ произведением, ораторией с оркестром, хорами, солистами и чтецом), и сейчас, посылая Вам это письмо, я, собственно, не отступаюсь от дела, взяться за которое у меня еще не хватает смелости. Мне нужно несколько конкретных, мнимо-реальных деталей (можно обойтись очень немногими), способных дать читателю какую-то ясную, более того — убедительную картину. Не согласились бы Вы вместе со мною поразмыслить над тем, как вдохнуть жизнь в это произведение — я имею в виду произведение Леверкюна, — как написали бы его Вы, если бы Вы состояли в сделке с чертом, и сообщить мне те или иные музыкальные приметы, создающие необходимую иллюзию? Мне видится нечто сатанинско-религиозное, демонически-благочестивое, но в то же время нечто очень строгое, слаженное и прямо-таки преступное, порою даже какое-то глумление над искусством, <�…> отказ от деления на такты, <�…> нечто едва ли практически осуществимое: старинные церковные лады, нетемперированные хоры a-capella, ни один звук или интервал которых вообще недоступен фортепьяно — и так далее. Но легко сказать „и так далее“…».
Почти все детали сочинения, которые Манн упоминал в письмах к другу, нашли свое место в сочинениях Леверкюна. В описании «Apocalypsis cum figuris» Леверкюна мы находим оригинальную трактовку приема глиссандо. Прием этот, по мысли Манна, должен символизировать «варварскую» эру — ту эпоху, когда музыка еще не «отторгла» у хаоса звуковую систему. «Как страшно… глиссандо ведущих здесь тему тромбонов — это разрушительное снование по семи переменяемым позициям инструмента! Вой в роли темы — как это страшно!».
Вот еще одна особенность оратории Леверкюна — «она написана под знаком того парадокса (если это парадокс), что диссонанс выражает в ней все высшее, серьезное, благочестивое, духовное, тогда как гармоническое и тональное отводится миру ада, в данной связи, стало быть, — миру банальности и общих мест».
Не менее детально, с массой намеков описано последнее произведение Леверкюна — «Плач доктора Фаустуса». Ему посвящена XIV глава романа. Это, по описанию Манна, синтетическое «собирательное» произведение. «Плач» должен был ассоциироваться с финалом IX симфонии Бетховена. В оратории Леверкюна, так же как и в симфонии Бетховена, участвует хор, но если у последнего ода «К радости» является финалом произведения, то у Леверкюна финал — «Песнь к печали». «…симфоническое adagio, в которое постепенно переходит хор, мощно вступивший после адского галопа, — это как бы вспять обращенный путь песни к радости…».
Интересные сведения сообщает Манн об инструментовке «Плача…». Так как это сочинение является опусом с неоклассицистскими чертами («Сотнями намеков на тон и дух мадригалов пронизана эта вещь, <�…> целая ее часть — беседа с друзьями за ужином в последнюю ночь — написана в классической форме мадригала»), то определенное «преломление» этого имеется и в инструментовке. Так, например, Манн даже говорит о «своеобразном continuo», которым является определенная группа инструментов — две арфы, рояль, клавесин, челеста, глокеншпиль и ударные. Писатель тонко переосмысливает понятие старинной музыки (continuo — непрерывное гармоническое сопровождение солирующего голоса в музыке барокко) и превращает в continuo специфическую звуковую краску, создаваемую нестандартным сочетанием музыкальных инструментов.
Каждая деталь в описании «Плача…» символична. Многими исследователями подчеркивается трагическая окраска «Песни к печали» Леверкюна. И все же заключительные строки описания воспринимаются как знак надежды: «…последний отлетающий звук медленно меркнет в pianissimo ферматы. И все: только ночь и молчание. Не звенящая нота, что повисла среди молчания, уже исчезнувшая, которой внемлет еще только душа, нота, некогда бывшая отголоском печали, изменила свой смысл и сияет, как светоч в ночи».
В «Докторе Фаустусе» одинаково поражает как мастерство, с которым писатель с помощью точно подобранных слов передает почти непереводимую на другой язык музыкальную материю, так и необычайно полное выражение в словесном произведении законов музыки. Нет сомнений, что когда Леверкюн заявляет: «Организация — это все. Без нее вообще ничего не существует, а в искусстве и подавно» — это кредо самого Манна.
Полифоничность романа ощущается не только в соединении множества его лейтмотивов, но и в сочетании нескольких временных пластов: события жизни композитора, совпадающие с началом первой Мировой войны и поражением в ней Германии, излагаются на фоне надвигающегося разгрома Германии во второй Мировой войне. Цейтблом пишет: «Рассказ мой спешит к концу, как все вокруг. Наша тысячелетняя история дошла до абсурда, показала себя несостоятельной, давно уже шла она ложным путем, и вот сорвалась в ничто, в отчаяние, в беспримерную катастрофу, в кромешную тьму, где пляшут языки адского пламени…». К концу спешит и рассказ о композиторе, и «все вокруг», то есть Германия. «Музыка, — признавался Манн, — была в романе только средством показать положение искусства как такового, культуры, больше того — человека и человеческого гения в нашу глубоко критическую эпоху. Роман о музыканте? Да. Но он был задуман как роман о культуре и о целой эпохе…».
Список литературы
1) Манн Т. Доктор Фаустус. Михайлов А. В. О Томасе Манне (предисловие). — М.: Республика, 1993
2) Манн Т. Собр. соч. в 10 тт. Т 5. Доктор Фаустус. Пер. С. Апта и Н. Манн. Т 9. История «Доктора Фаустуса». Роман одного романа. Пер. С. Апта. М.: Худ. Лит., 1960
3) Матвеева Е. Ю. Слово и музыка романа «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Доклад на международной научной Интернет-конференции «Музыкальная культура Германии». Интернет-сайт http://www.rachmaninov.ru.
4) Майкапар А. «Doktor Faustus» cum figures (О музыке в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус»). Интернет-сайт http://www.maykapar.ru.
5) Руднев В. О романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Интернет-сайт http://www.eduref.ru
6) Жирмунский В. И. История немецкой литературы ХVI — ХVIII вв. — Л., 1972
7) Топер П. М. Трагическое в искусстве ХХ века. Вопросы литературы, 2000, № 2
8) Хазанов Б. Теодор В. Адорно, Томас Манн. Переписка 1943;1955 гг. Знамя, 2003, № 12.