Феномен детства в мировой словесности
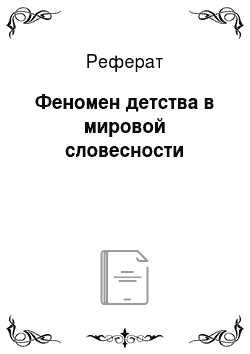
Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами; кисти рябины и калины начинали краснеть; кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах; гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще… Читать ещё >
Феномен детства в мировой словесности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Мировая словесность на протяжении многих веков своего становления в художественном отношении являет собой весьма поучительное зрелище осмысления младенчества, детства, отрочества.
Со временем, анализируя литературные произведения прежних эпох, приходится специально различать: произведение написано о ребенке или оно написано для него. Российская книжность XVIII в. нередко адресовала, например, одни и те же издания «народу» и детям. Простой народ воспринимался при этом как часть нации, пожизненно сохраняющая в определенных отношениях состояние детства, а потому нуждающаяся в литературном просвещении в той же степени, что и ребенок, овладевающий грамотой. Дитя от рождения до возмужания проделывает путь, на протяжении веков постепенно проделанный родом, нацией, «человеческим всеединством» (Вл. Соловьев) физически, эмоционально, умственно, духовно; путь от немоты к слову звучащему (дописьменный период), а затем к слову устной народной словесности, теперь же хранимому в книгах, часто к Слову религиозной книжности — а в прошлом было именно так — и параллельно к слову художественной словесности.
И фольклор, и книжность вообще по отношению к ребенку обнаруживают четыре доминантных, порой взаимоисключающих подхода:
- 1) детство есть тайный, таинственный мир, умопостижение которого представляет собой величайшее из наслаждений (таинство рождения, младенчество, смягчающее самую одеревеневшую душу, детская речь («Устами младенца глаголет истина»), образ райской души, безгрешной в своем неведении и открытой любви и страданию);
- 2) детство — эпоха «дикости», «звериного неведения» о добре и зле, человеческом назначении и предназначении;
- 3) детство есть tabula rasa (чистая доска), «насыщение» которой является условием достойной будущей взрослой жизни ребенка;
- 4) детство в любом случае есть будущность рода, семьи в буквальном и фигуральном, даже символическом значении, награда и утешение или, напротив, наказание.
При первом подходе невольно или вполне осознанно движение художнической мысли направлено в мир ребенка (себя самого в детстве) — мир самодостаточный, идеальный, представляющий собой настоящий живительный источник всей дальнейшей духовной жизни писателя. Второй подход позволяет объяснить какие-то природные, часто эгоистические и даже асоциальные его поступки, третий мыслит образование как механическое и механистическое наполнение изначально пустого сосуда, написание должной информации на изначально чистой доске, четвертый направлен не «вовнутрь» и одновременно в прошлое, а обращен к ребенку как объекту родительской (в широком смысле этого слова) любви и заботы и в грядущее младенца, который наследует духовный и материальный опыт предшественников. Ни один из этих подходов не плох и не хорош, они просто существуют, сосуществуют, а порой оказываются взаимопроницаемыми мирами. При этом детство мыслится как реальная часть жизненного пути всякого человека, — как звено в цепи поколений; заботой «о будущности предков» (Вл. Соловьев) продиктованы многие тома художественной и художественно-педагогической прозы.
Понятно, что здесь названы лишь доминанты, разброс же вариантов столь широк, что изучение конкретного художественного, художественно-документального, учебного материала позволит внести должные уточнения. Однако сразу следует заметить, что и названные подходы берут начало не в художественной словесности как таковой, хотя бы даже и устной, а в древнем представлении человека о себе и мироздании, заключенном в мифологии язычества, а затем в христианстве, в котором «просвечивают» образы прапамяти глубокой древности. Мифологическая семантика детства с эволюцией и «революциями» в мировоззрении не исчезает, будучи запечатленной обыденной идиоматикой, ее бытование и в словесности Нового времени явно отличается от эпохи ранней книжности, миф о детстве в художественной словесности приобретает черты метафоры и символа.
Самый важный и неоспоримый факт свидетельствует о том, что представление о ребенке и детстве отражается в фольклоре и литературе в диапазоне от языческого геоцентризма к теоцентризму христианства, а затем, в христианскую эпоху, — между теоцентризмом и антропоцентризмом. Мощной подпиткой формирования мировидения, запечатлеваемого словесностью, являются естественно-научные открытия, «редактирующие» традиционное для общества представление о человеке и мире, мироздании. Аналогичным образом это происходит и в литературе, где возрастной ценз не фиксирован; процессы, протекающие в литературе, художественной словесности, по-своему согласуясь с педагогическими установками эпохи, формируют мировоззренческий план детской литературы, литературы для подростков и юношества, круга семейного чтения.
Кроме указанных разделений появляется еще одна чрезвычайно важная антиномия. Все написанное о детях имеет своего адресата, и ясно, что понятия «литература для детей» и «литература о детях» не синонимичны. Ими обозначены два круга произведений, имеющие общий «сектор текстов», но не совпадающие в своих контурах. Художественная литература о детстве включает в себя и произведения о детях, обращенные к ребенку, но и детская литература не исчерпывается произведениями о детях. В детскую литературу входит значительный круг произведений, адресованных детям, но их герой — не ребенок.
Итак, детская литература — это мир художественных произведений о том, что такое и кто такой ребенок, что такое его микрокосм и макрокосм, т. е. все окружающее его. Понятно, что в этом втором круге произведений герой-ребенок вполне может отсутствовать.
«Почему не все произведения о детях входят в собственно детскую литературу?» — вопрос, несомненно, риторический, но вербально оформить содержащийся в нем ответ на сей раз, кажется, необходимо. Большое, если не подавляющее число произведений о детстве оказывается своеобразной вариацией воспоминаний с ярко выраженной ностальгической тональностью. Ребенку, если произведение адресовано ему, изнутри его эпохи невозможно постичь не только ностальгическую тональность («внутри эпохи» эта координата просто отсутствует), да и сам стиль, диктуемый ею, не показан детскому восприятию. Отсюда та затрудненность, с которой зачастую воспринимаются автобиографическая повесть или роман, стремящиеся в мельчайших подробностях описать быт, уклад и душевную жизнь ребенка. «Воспоминания» провоцируют должный ритм и темп повествования, чуждый чрезмерному динамизму эпохи детства. Счастливое сочетание двух, казалось бы, взаимоисключающих взглядов — искушенного взрослого и несведущего младенца — иногда позволяет снять психологический барьер, неизбежно встающий, если это условие не будет соблюдено. Примерами удачного снятия подобного барьера могут послужить, например, «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Детство Никиты» А. Н. Толстого, частично «Детство Темы» Н. Г. Гарина-Михайловского и др.
Так, С. Т. Аксаков в своей необыкновенно поэтичной книге постоянно проявляет умение донести до читателя всю живость и непосредственность детского восприятия красоты мира природы. Вот отрывок, в котором Сережа Багров впервые пробует себя в уженьи рыбы — занятии, ставшем его страстью на долгие годы:
Великолепная урема[1] окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами; кисти рябины и калины начинали краснеть; кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах; гибкие и цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались; даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец; но, признаюся, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтоб он показал мне уженье. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, наплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту, поверя словам башкирцев, что тут «ай-ай, больно хороша берет рыба». Евсеич приготовил мне самое легонькое удилище и навязал тонкую лесу с маленьким крючком; он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец: ту же минуту наплавок привстал и погрузился в воду. Евсеич закричал: «Тащи, тащи…» — и я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери; Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, чтоб я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку; Евсеич подтвердил мои слова.
Мать была главным человеком в жизни Сережи, привязанность к ней, как не раз показано в книге, доходила до болезненности. Потому его сильно разочаровывает то, что мама не умеет разделить его рыбацкий восторг:
Мать не имела расположения к уженью, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость; а к большому горю, мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар…
Излишним упрощением было бы трактовать «эпоху детства», запечатленную в художественной словесности, исключительно с точки зрения религиозной, вне зависимости от собственно конфессиональной наполненности вообще или с точки зрения «жизнеописания» одного из пророков или апостолов, хотя, само собой разумеется, архетип детства в разной степени актуален в поэтических и прозаических жанрах, литературных направлениях, стилях. Нет сомнений: евангельское, и шире — библейское в литературе народов, исповедующих христианство, нс могло не отразиться на религиозной книжности в «пути» литературы для детей. Но то, что все содержание не сводимо к христианско-мифологическому, самоочевидно. Пренебрегать же этим содержанием было бы непростительной ошибкой. Для примера можно указать, например, на «Хроники Нарнии».
К. С. Льюиса, где без осознания евангельского содержания невозможно постичь и собственно художественное содержание. Вот эпизод из первой части: волшебный лев Аслан, только что сотворивший добрую сказочную страну, узнает, что в его мир вместе с детьми человеческими обманом проникла ведьма, воплощение зла:
Когда лев заговорил снова, он обращался не к мальчику.
— Вот, друзья мои, — сказал он, — этому новому и чистому миру, который я подарил вам, еще нет семи часов от роду, а силы зла уже вступили в него, разбуженные и принесенные сыном Адама.
Все звери, даже Земляничка, уставились на Дигори так, что ему захотелось провалиться сквозь землю.
— Но не падайте духом. Одно зло дает начало другому, но случится это не скоро, и я постараюсь, чтобы самое худшее коснулось лишь меня самого. А тем временем давайте решим, что еще на многие столетия Нарния будет радостной страной в радостном мире. И раз уж потомки Адама принесли нам зло, пусть они помогут его остановить.
Этот эпизод становится отправной точкой многих коллизий, возникающих века спустя в волшебной Нарнии, и направляет сюжетное развитие последующих частей книги.
Особенно актуализируется символическое, мифологическое содержание не в эпоху стагнации, стилевой и жанровой уравновешенности, а во времена культурного, религиозного, речевого разлома, когда наиважнейшими представляются первый и четвертый подходы, причудливое их переплетение. Вспомним детские книги, созданные на рубеже XIX—XX вв., в том числе произведения Л. Кэрролла, X. Лофтинга, Ф. Баума и их «трансформации» в литературе для детей в России (произведения В. В. Набокова, К. И. Чуковского, А. М. Волкова). По-разному отражается в эти моменты Нового времени младенчество Античности, Ренессанса, Средневековья.
«Будьте как дети» вмещает не только религиозное представление о сути феномена, но все же прочитывается лишь через «разворачивание» свернутой в афористической форме модели идеального мира человека, его космоса. Сравним, например, «Снежную королеву» Г. X. Андерсена или «Синюю птицу» М. Метерлинка в жанрах литературной сказки и «Лето Господне» И. С. Шмелева в манере реалистического повествования.
Продуцирование в художественном сознании образа ребенка и его «уз» идет по двум взаимонаправленным путям, запечатлевается в двух взаимоотраженных «портретах» ребенка и зрелого человека: разные литературные жанры прибегают к различным способам портретирования их миров[2]. Большую роль в этом играют «точка зрения автора», «авторский угол зрения» или даже то, к какой возрастной категории отнесен повествователь. Мир глазами ребенка, как правило, предстает либо как открытие материка или даже планеты, terra incognita, либо как деформация естественного детского представления о мире; характерными чертами такого портретирования являются пародирование, передразнивание, фельетонирование. (Ср.: М. Твен «Приключения Тома Сойера» или «Принц и нищий»; Саша Черный «Пасхальный визит» или «Дневник фокса Микки»; В. М. Приемыхов «Двое с лицами малолетних преступников», Ю. И. Коваль «Недопесок» и др.) Вот как это может выглядеть у Ю. Коваля:
После завтрака дошкольник Серпокрылов имел обыкновение прогуливаться по деревне. Проводив на работу своего папашу, уважаемого слесаря Серпокрылова, дошкольник надевал офицерскую фуражку, закидывал на плечо винтовку, сделанную из водопроводного железа, и выходил в дозор.
Все друзья дошкольника учились в школе, поэтому до часу дня Серпокрылов был свободен и одинок. Но одиночество не мучило его, потому что он был занят военным делом.
Взявши винтовку наперевес, солдат Серпокрылов крался вдоль забора, стараясь подстрелить какого-нибудь вражеского разведчика или адъютанта.
Около клуба ему попался почтальон дядя Илюша, который мгновенно был ранен в ногу.
— Смотри, Лешка, — крикнул дядя Илюша, — сколько снегу навалило! Надо тебе надевать маскировочный халат!
Сержант Серпокрылов стрельнул еще разок, но, как видно, не попал. Прихрамывая, дядя Илюша двинулся по деревне. Он кидал газеты и письма в почтовые ящики, приколоченные к калиткам.
Дальше автор некоторое время ведет повествование, нагнетая иронические перифразы, которые волшебно преображают условную атмосферу детской игры в череду серьезных и даже героических событий.
Из проулочка появился тем временем неприятельский батальон, обутый в красные сапоги.
— Солдаты! За мной! — шепнул своим разведчикам старшина Серпокрылов. — Возьмем их в клещи!
Будто лавина, обрушились разведчики на врага. Хлопая от ужаса белыми маскировочными рукавами, вытягивая в страхе белые маскировочные шеи и даже маскировочно гогоча, враги рассыпались по огородам и замаскировались.
Неожиданно послышалось ворчание танка. Лязгая гусеницами, из-за ближайшего блиндажа вываливался тяжелый бронированный механизм.
— Погибать — так с музыкой! — крикнул лейтенант Серпокрылов, держа в руке противотракторную гранату. Раздался чудовищный взрыв — механизм выпустил облако дыма и отправился умирать в сторону силосной ямы.
После боя установилась над землей тишина. Такая тишина, какой не услышишь в мирное время. Но это была обманчивая тишина.
Со двора плотника Меринова вдруг послышались визг и лай.
— Вперед! По-пластунски! — скомандовал капитан Серпокрылов, упал в снег и стремительно пополз к забору, за которым разгорелся невиданный бой.
Заглянувши в дырку между штакетин, майор Серпокрылов сразу оценил обстановку.
— В штыки! — послышалась команда. — Ребята, рубай их! Не подведите своего подполковника!
Град огня и снарядов обрушился на врага.
- — Спасибо вам, товарищ Серпокрылов, — сказала Пальма. — Ваши активные боевые действия привели к полной победе.
- — Я — солдат! — скромно ответил полковник Серпокрылов.
Авторская точка зрения и мировосприятие играющего ребенка сочетаются здесь необыкновенно органично. Ю. И. Коваль вводит и элементы пародии, и просто со свойственным ему остроумием изображает происходящее, тонко видоизменяя стилистику. Далее военные дела дошкольника Алеши Серпокрылова развиваются следующим образом:
Дошкольник хотел продолжать путь своих боевых подвигов.
Вдруг заметил пушистого, с огромным хвостом солдатика, привязанного за веревку к конуре.
«Вон какую штуку завела себе Верка Меринова!» — изумленно подумал он, раскрыл глаза пошире, и в голову его хлынули сугубо штатские мысли: кто это такой, чего он сидит у конуры и при чем здесь огромная перчатка, валяющаяся на снегу?
Дошкольник перелез через забор, поднял перчатку и примерил.
Рука влезла аж до плеча, и дошкольник засмеялся от удовольствия.
— А ты кто такой? — спросил он Наполеона, присел на корточки и перчаточным пальцем провел ему по носу. Наполеон зажмурился.
Новые стремительные мысли пронеслись в голове дошкольника, и главная — насчет Верки Мериновой: мол, надо бы ее немного подразнить, а то чего-то загордилась, давно недразненная ходит.
— Ты мой трофей, — сказал он Наполеону и отвязал веревку.
Потягивая за собой недопеска, дошкольник вышел через калитку на улицу.
Победные флаги трепетали над головой генерала Серпокрылова.
Обращение к феномен)' «детская литература» заставляет напомнить о тех функциях, которыми наделено художественное слово вообще.
В лучших образцах литературы, обращенной к ребенку, их словесной ткани запечатлены важнейшие психолого-педагогические, философские, эстетические, риторические, филологические контуры идеала, определение которого и есть залог счастливого и достойного будущего для каждого.