Литературная пародия и историческое время: У. Шекспир и В. Скотт
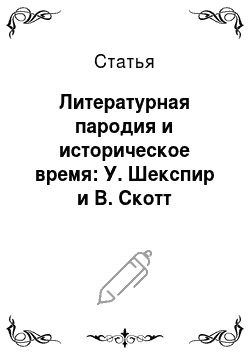
Пространственные сферы реальной, «нехудожнической» жизни, естественно, имеют свои временные измерения. Они связаны с историческим временем, тогда как гении, о которых идет речь у Зиммеля, осуществляют прорыв в метаисторические сферы. При этом, коль скоро гениальные откровения становятся конгениальными для основной массы общества, насыщенные аксиологическим содержанием мировоззренческие модели… Читать ещё >
Литературная пародия и историческое время: У. Шекспир и В. Скотт (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Литературная пародия и историческое время: У. Шекспир и В. Скотт
Под литературной пародией обычно понимается литературное произведение, имеющее целью добиться комического эффекта с помощью повторения особенностей другого, хорошо известного произведения. В этом смысле для достижения требуемого комизма необходима нарочитая узнаваемость. Механическое воспроизведение узнаваемых приемов, явно неуместных в предлагаемом контексте (как неуместны, например, гомеровские гекзаметры в изображении «войны лягушек и мышей»), приводит к искомому эффекту. «Задача пародии, - по мнению П. Белокуровой, - „передразнивание“ оригинала с целью приземлить его, высмеять» [2, с. 114]. Известный отечественный литературовед Ю. Н. Тынянов (1894-1943) полагал, однако, что «комизм - обычно сопровождающая пародию окраска, но отнюдь не окраска самой пародийности» [9, с. 339]. С этим утверждением нельзя не согласиться (пародия может быть как комической, так и трагической), так же как и с утверждением Тынянова о необязательности для литературной пародии декларирования себя в качестве таковой. Пародийные приемы могут быть и необнаруженными (кто бы догадался о пародийности пушкинского «Графа Нулина», если бы сам автор не засвидетельствовал этого?).
Пародийность может использоваться в качестве средства для решения самых разнообразных творческих задач. Ю. Н. Тынянов в своей работе, специально посвященной теории пародии, подробно разбирает пародирование Ф. М. Достоевским в повести «Село Степанчиково и его обитатели» книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Однако вряд ли можно всерьез говорить о «насмешке» над Гоголем со стороны Достоевского, который, согласно распространенному афоризму (даже приписываемому ему самому), «вышел из гоголевской «Шинели». По справедливому замечанию Тынянова, в рамках единой литературной традиции «нет продолжения прямой линии, есть скорее отправление, отталкивание от известной точки - борьба» [9, с. 300]. Если термин «пародия» в буквальном переводе с греческого означает «противопеснь» [2, с. 114], то эстетическое противоборство, отталкивание, которые могут ассоциироваться с данным неологизмом, совсем не обязательно отождествлять с вульгарной насмешкой.
Противоборство, в той или иной форме осуществляемое, возможно не только в рамках единой литературной традиции. Думается, правомерно ставить вопрос о творческом противоборстве не только в историко-литературном, но и общеисторическом масштабе. Вполне допустимо, что литературные деятели, пускай не равновеликие, такие, например, как Уильям Шекспир (1564-1616) и Вальтер Скотт (1771-1832), принадлежащие к разным эпохам исторического времени и, соответственно, выражающие различные ценностные системы, могли бы находиться в своеобразной идейной полемике, причем младший из них мог бы использовать в этой последней пародийные приемы, вовсе их не декларируя.
В ценностных системах культур присутствуют ценности, которые принято относить к разряду «вечных». Вместе с тем конкретные выражения данных ценностей трансформируются с течением исторического времени. Соотношение вечного и временного в аксиологическом отношении является важной темой не только научно-гуманитарной и философской рефлексии, но и художественного познания.
Немецкий философ Г. Зиммель (1858-1918) писал, имея ввиду И. Г. Гете: «многие гении изобразительного искусства, и притом такие, которые давали строжайшую стилизацию, в высшей степени деспотичную переработку действительности, считали себя натуралистами и полагали, что они передают только то, что видят. И действительно, они именно и видели сразу же так, что совсем не знали присущего нехудожнической жизни противоречия между внутренним созерцанием и внешним объектом. В силу таинственной связи гения с глубочайшей сущностью бытия, все его индивидуальное, самочинное созерцание есть вместе с тем для него - и, в меру его гениальности, также и для других - черпание объективного содержания вещей» [4, с. 39].
Пространственные сферы реальной, «нехудожнической» жизни, естественно, имеют свои временные измерения. Они связаны с историческим временем, тогда как гении, о которых идет речь у Зиммеля, осуществляют прорыв в метаисторические сферы. При этом, коль скоро гениальные откровения становятся конгениальными для основной массы общества, насыщенные аксиологическим содержанием мировоззренческие модели, продуцируемые в этих откровениях, вписываются в контекст соответствующих отрезков исторического времени. Давая характеристику этому последнему, Зиммель отмечал, что «исторические атомы» (т.е. события), которые сами по себе непременно занимают какие-то отрезки физического времени, являются составными частями исторического времени, если составляют определенную последовательность. Например, «изолированные атомы, сражения Семилетней войны, могут стать элементами истории, если сама эта война понимается как непрерывность, в которой каждая битва занимает свое место, а сама война - место в политике XVIII в. и т. д.» [4, с. 547]. При этом каждая отдельная схватка между двумя участвующими в сражении гренадерами воюющих армий выпадает из исторического контекста, поскольку иначе распадалась бы непрерывность: такое событие может быть описано в терминах физических или биологических. Духовные усилия художественных гениев также выпадают из некоторой последовательности с той только разницей, что эти усилия имеют шанс в будущем придать новую связность течению исторического времени. Коль скоро в этом последнем неизбежны перерывы постепенности, в определенном смысле ахронные зоны, компенсация такой ахронности может осуществляться за счет духовных усилий интересующих нас художников - творцов новых ценностей.
В аспекте заявленной темы актуально то, что в великих литературно-художественных произведениях не только содержатся те или иные аксиологические открытия, но и специфическими средствами исследуются антропологические аспекты обретения человечеством новых ценностей.
Думается, ярчайшим примером такого рода великих художественных произведений может считаться шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта» (1595), где показана история становления человеческой личности в борьбе с внешним окружением за право любить. В этом произведении ценность половой любви выступает своеобразным мостом между аксиологическим пространством феодализма с его родовыми распрями (в английском языке слово feud и означает наследственную вражду) и ценностным миром Возрождения с его гуманизмом. Таким образом, преодолевается нарушение связности в ходе исторического времени.
Частная история вражды и примирения двух веронских семейств — Монтекки и Капулетти - приобретает символический вид, знаменуя собой значительную историческую трансформацию. В прологе трагедии говорится о конкретной череде событий, о том, что «от чресл двух роковых семей / Любовников злосчастных вышла пара, / Что жалостной судьбой своих смертей / Могилой стала вражеского жара» [11, с. 169]. Однако в последней фразе произведения, в словах Князя, подчеркивается историческая значимость происшедшего: «Ведь горше не было во все столетья / Рассказа о Ромео и Джульетте» [11, с. 206]. То, чего «не было» во все предыдущие столетия, не должно ни в коем случае повториться и во все последующие. При всех оговорках, что Шекспир «как художник переходного периода времени <…> отражает и старое и новое миропонимание» [1, с. 536], его гуманистические упования связаны с будущим.
Гуманизм Возрождения еще носит во многом умозрительный, декларативный характер. Трудно поверить, чтобы реальные современники той эпохи, увидав два мертвых юных тела, жертв «страсти обречённого теченья» и «вражды слепой», вдруг духовно преобразились бы и приняли некую иную ценностную систему. Такая впечатлительность явно не в духе времени. Известна, например, легенда о том, что великий скульптор Микеланджело Буонаротти, ваяя распятого Христа, распял на кресте собственного натурщика. Пускай, по словам А. С. Пушкина из его «Маленьких трагедий», «это сказка тупой, бессмысленной толпы - и не был убийцею создатель Ватикана» [6, с. 469], однако данная легенда весьма соответствует духу эпохи, столь же насыщенной творческими открытиями, как и преступлениями. Французский философ искусства И. Тэн (1828-1893) приводит описание флорентийского празднества времён Лоренцо Медичи, где помимо прочего фигурировала колесница, расписанная живописцем Я. Понтормо, изображавшая триумф «золотого века». На колеснице находился «нагой позолоченный ребенок, представлявший конец железного и воскресение „золотого века“, которым мир был обязан восшествию на папский престол Льва X» [10, с. 63]. Позолоченный мальчик умер от этого золочения вскоре после представления, но ни малейшей скорби по этому поводу у сухого хрониста не ощущается. Индивидуальная человеческая жизнь растворилась в символизме: реально живший мальчик, как и легендарный натурщик, приобщился к сфере божественного, и тем искупается его гибель.
У Вальтера Скотта в его историческом романе «Пертская красавица» (1828) личностное и историческое находятся в ином, по сравнению с шекспировской трагедией, соотношении. Общий исторический фон повествования тот же — переход от ценностей Средневековья к новым религиозным и гуманистическим ценностям. Однако этот переход демонстрируется как многомерный и противоречивый процесс, в котором переплетены личностные, социальные и духовные аспекты. Судьба молодого человека и девушки на фоне враждебных обстоятельств - это то, что роднит обе любовные истории.
В произведении Скотта распря двух шотландских горских кланов разрешилась не через искупительную жертву во имя любви, а достаточно традиционным для Средневековья способом - «божьим судом», посредством кровавой битвы отобранных «поединщиков». Однако и тема Ромео и Джульетты косвенным образом здесь обыгрывается: к повествованию подключается еще одна пара - любящие друг друга юноша и девушка, принадлежащие к враждебным кланам. Здесь пародируется особый шекспировский прием с драматургическими «двойниками» (король Лир с дочерьми и граф Глостер с сыновьями, Гамлет и Лаэрт, мстящие за гибель отцов, и т. п.), призванными подчеркнуть драматизм ситуации, в которой оказались центральные герои пьес [5, с. 387].
Развязка данной сюжетной линии иная. Юноша дезертировал с поля поединка, а девушка убежала из дому, будучи проклятой отцом, главой одного из кланов, который всё это, по сути дела, и организовал — из тактических соображений, чтобы выровнять шансы перед групповым поединком. Отец «Джульетты» просчитался: на место сбежавшего «Ромео» добровольно заступил мощный боец - оружейник Генри Смит, «Валентин» заглавной героини, «пертской красавицы» Кэтрин Гловер. Чем не своеобразный способ самоубийства при получении ложного известия об утрате возлюбленной навсегда?
Смит и Кэтрин составляют центральную любовную пару произведения. Вот только враждебные обстоятельства, препятствующие их союзу, гораздо более сложны и многообразны — наследственная распря в данном случае ни при чем (домашние молодых людей такой союз только приветствовали).
О красоте шекспировской Джульетты можно судить (если вообще корректно говорить о женской красоте тринадцатилетней девочки) только по субъективному мнению Ромео: «Как голубь нежный бел среди ворон, её краса всем спутницам урон» [11, с. 177]. Что же касается Кэтрин, то её красота - общественно признанный факт: «Прозываться „Прекрасной девой Перта“ означало во все времена высокое отличие, и нужно было обладать поистине замечательной красотой, чтобы заслужить его.» [8, с. 14].
По замыслу автора, красота Кэтрин была «особого рода — той, что мы связываем больше с духовной, нежели с телесной сущностью» [8, с. 15]. Здесь подчеркивается некий трансцендентный, «небесный» источник облика вполне земного человеческого существа, обладающего высокой степенью концентрации духовной энергетики. Достоинство художественного постижения феномена такой концентрации состоит в демонстрации личностно-психологических его аспектов на соответствующем историческом фоне.
Отмеченное «высокое отличие» поставило героиню в центр драматических коллизий своего времени. Люди всех сословий и состояний имели относительно Кэтрин самые разнообразные виды — от циничного распутства, характерного для аристократической молодежи, и шантажа по линии церковной инквизиции до религиозного подвига; от честного брака по любви, к которому стремился ее «Валентин», до брака по религиозно-политическим соображениям. Священник, духовник Кэтрин, - деятель начинающейся Реформации - возлагал на нее надежды как на светоч обновленной веры. Он же хлопотал о браке, имея в виду религиозно-политические цели: чем не шекспировский брат Лаврентий, убежденный в том, что тайный брак молодых Монтекки и Капулетти приведет к примирению семейств? Государственный изменник уповал на её свидетельство как на единственный шанс на помилование («тебе поверят»). Трусливый горец Конахар (тот самый, ради которого была затеяна интрига с бегством любовников) усмотрел в ее благосклонности последнюю возможность на обретение храбрости перед боем. Даже отъявленный безбожник и «отравитель по ремеслу», всю жизнь поклонявшийся одному золотому тельцу, перед заслуженной казнью адресовал ей свою последнюю исповедь. Кэтрин благодаря своей неземной красоте не только вышла за границы пространства частной и сословной жизни - она вышла за пределы своего века и судила поступки своих современников в соответствии с новыми ценностями, выступая, таким образом, своеобразной (хотя и не состоявшейся) пророчицей.
Будучи лишенной возможности обрести покой за стенами монастыря и устав от бесплодных «споров с веком», Кэтрин в конце концов «рассудила, что люди по культуре и утонченности не часто поднимаются над понятиями своего времени, и что в те жестокие дни, когда выпало им жить на земле, безрассудная и безмерная отвага — такая, как у Генри Смита - всё же предпочтительнее, чем малодушие, приведшее Конахара к гибели» [8, с. 458].
Такая рассудочность весьма далека от чувственной непосредственности Джульетты. В романе В. Скотта речь идет об альтернативном возрожденческому историческом пути выхода из тупиков Средневековья, связанном с ценностями протестантизма, причем в интерпретации, характерной для викторианской эпохи истории Великобритании. Чувственный максимализм шекспировских героев характеризует возрожденческое мироощущение, а сам термин «Возрождение», по справедливому замечанию датского шекспироведа Г. Брандеса (1842-1927), «говорит о возрождении горячей любви к жизни и языческой наивности воображения» [3, с. 101]. По его мнению, любовь шекспировских персонажей коренится во вневременном «непогрешимом инстинкте человека». Это чувство оказалось столь же «метаисторичным», как и красота Кэтрин.
В произведении В. Скотта ситуация оказывается обратной по сравнению с шекспировской трагедией: в последнем случае частная трагическая история демонстрирует историческую значимость, здесь же историческая значимость (новых ценностей) редуцирована до масштабов частной жизни, которая, несмотря на все перипетии сюжета, счастливо избежала трагедии. Смит, с которым обрела счастье Кэтрин - человек, укоренённый в эпохе. Свое место в социальном пространстве - место ремесленника - он не согласился поменять даже на более высокое, гордо отказавшись от рыцарского звания, предложенного ему за боевые заслуги всесильным герцогом. Счастливый брак Генри и Кэтрин, по законам жанра, венчает романтическое повествование, в котором неизбежен налёт как ностальгии по минувшему, так и скепсиса по отношению к наступившим новым временам. Исторический оптимизм шекспировской трагедии здесь более или менее явно оспаривается, для чего используются пародийные приемы.
Несмотря на жанровые каноны, в произведении Скотта вполне реалистически показываются как сложность культурного феномена пророчества, многообразные (метафизические, эстетические, социальные и личностно-психологические) основания его, так и драматизм самой фигуры пророка, которому открывается будущее, но за счёт утраты связей с настоящим. Далеко не каждому оказывается по силам такая ноша.
По странному совпадению в упомянутом выше пародийном произведении Ф. М. Достоевского происходит похожая редукция. Если в пародируемой книге Гоголя он сам и ближний круг его «друзей» призваны стать некоей творческой лабораторией по выработке рецептов «всеобщего счастья», то в повести Достоевского её герой Фома Опискин действительно становится «устроителем всеобщего счастья», но в масштабе отдельно взятого семейства. Очевидно, что феномен пророческого служения и статус пророка живо интересовали как Гоголя, так и Достоевского. Первый открыто претендовал на указанный статус, другой удостоился звания пророка еще при жизни. Как справедливо отмечает Л. И. Сараскина, своей повестью Достоевский «показал, что бывает, когда безграничное самолюбие овладеет ничтожной личностью, и как тот же самый порок способен корежить человека даже и выдающихся способностей» [7, с. 331].
Достоевский в своей жизни пережил и невиданный взлет в сферы властителей дум («новый Гоголь родился!»), и столь же невиданное низвержение в «кромешную жизнь» Мертвого дома. Беспрецедентный личный жизненный опыт (так же, как исторический опыт, освоенный В. Скоттом) дает возможность представить образ пророка гораздо более сложным и многомерным.
пародия шекспир исторический герой