Спокойная красота.
История русской литературы первой трети xix века
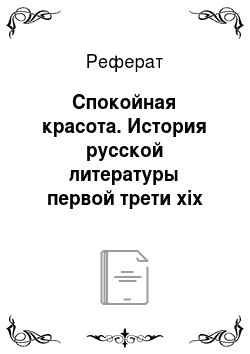
Каково место действия этой маленькой стихотворной сцены? Где возник «последний поэт»? В новой Греции, только что освободившейся от османского гнета, — в стране, между прочим, не только христианской, но и православной. Это могло бы стать поводом для противопоставления конфессий: православной, с одной стороны, католической или протестантской — с другой. Противопоставление это вскоре сделается… Читать ещё >
Спокойная красота. История русской литературы первой трети xix века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Однако прежде чем перейти к лермонтовским поэмам, проведем однудве нити от романтических поэм Баратынского к его лирике. И здесь оправдываются слова, сказанные о поэте Пушкиным: «…он шел своею дорогой один и независим».
В 1828 г. Баратынский написал восьмистишие, которое, наряду с созданным годом позже другим стихотворением — «Муза», рассматривается как его поэтическое кредо:
Мой дар убог, и голос мой не громок, Но я живу, и на земли мое Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок В моих стихах; как знать? душа моя Окажется с душой его в сношенье, И как нашел я друга в поколенье, Читателя найду в потомстве я.
В чем неотразимое обаяние этих строк? Как отметил Осип Мандельштам, они исполнены «глубокого и скромного достоинства», ведь «поэзия есть сознание своей правоты»[1], и это сознание выражено просто, ненавязчиво, без нажима, как факт само собою разумеющийся. Но в поэтическом автопортрете Баратынского скрыто и другое, кажется, не вполне осознанное значение. Дар художника «убог», голос его «не громок» (ср. также в послании «Богдановичу»: «А я, владеющий убогим дарованьем…»). Это, конечно, нарочитое преуменьшение, но вовсе не игра, не уничижение паче гордости, а внутреннее целомудрие и сдержанность, так выгодно отличающие поэта от иных авторов, громко заявляющих о своих правах.
Пишущему свойственно стремиться к уловлению максимального числа читательских душ — как среди современников, так и с далеким прицелом в будущее, «в потомстве». В этом случае он походит на духовного наставника, который, по словам В. В. Розанова, действует «из инстинкта безграничного… душерасширения: советчик хотел бы своею душою расшириться и вытеснить все другие разнородные души»[2]. У Баратынского же совсем другое направление — не к «душерасширению», а к ограничению, сжатию, внутренней концентрации. Ему достаточно «друга в поколенье», читателя «в потомстве» — конечно, не единственного читателя, но вовсе не «многого», не «широкого» читателя, как говорят сегодня.
Какая обаятельная черта! Поэт знает, какие духовные богатства накопило человечество; предвидит, что в будущем они многократно приумножатся, — и вовсе не претендует на повсеместность и всеохватность воздействия. Нужен не всякий читатель, а свой, оказывающийся с автором в духовном «сношенье» и оправдывающий тем самым факт существования последнего. На этом и основано его писательское и человеческое достоинство.
Наконец, в поэтической декларации Баратынского угадывается еще одно, также не вполне осознанное нами значение: протест против иерархического подхода к искусству (ср. излюбленные выражения сегодняшнего литературного обихода, превратившиеся в заклятия: «иерархия художественных ценностей», «шкала художественных ценностей» и т. д., вплоть до самого современного — «рейтинг»). При таком мышлении все выстраивается в вертикальную перспективу и должное воздается лишь тому, кто ее увенчивает. Все остальные — нс более чем материал, идущий на изготовление постамента.
В протесте Баратынского скрыт вполне личный момент, который почувствовал проницательнейший II. А. Вяземский. Слова критика настолько замечательны, что их стоит привести как можно полнее:
«Баратынский и при жизни, и в самую пору поэтической своей деятельности не вполне пользовался сочувствием и уважением, которых был он достоин. Его заслонял собою и, так сказать, давил Пушкин… Впрочем, отчасти везде, а особенно у нас всеобщее мнение такую узкую тропинку пробивает успеху, что рядом двум, не только трем или более, никак пройти нельзя. Мы прочищаем дорогу кумиру своему, несем его на плечах, а других и знать не хотим… И в литературе, и в гражданской государственной среде приемлем мы за правило эту исключительность, это безусловное верховное одиночество. Глядя на этих поклонников единицы, можно бы заключить, что природа напрасно так богато, так роскошно разнообразила дары свои»[3].
Субъективно Пушкин был в этом менее всего виноват: он никогда не стремился отодвинуть Баратынского в тень. Наоборот, как это знали еще современники, Баратынский отчасти был «обязан поэтическою славою своею Пушкину, который всегда и постоянно говорил и писал, что Баратынский чудесный поэт, которого не умеют ценить»[4]. Но объективно получалось именно так, как писал Вяземский, и господствующая атмосфера «поклонения единице» глубоко травмировала поэта, питая его чувство сдержанной гордости, а также особенной разборчивости вкуса. Ценна не столько сила голоса, сколько его непохожесть:
Не подражай: своеобразен гений И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник, Досаден ты: не любят повторений.
«Не подражай: своеобразен гений…», 1828.
Подражатель Шекспира ничуть не лучше подражающего Клоду Жозефу Дорату (французскому поэту, которого Пушкин в статье «О ничтожестве литературы русской» причислил к «бездарным пигмеям»), ведь их уравнивает сам факт подражания.
Отсюда и особенный взгляд на себя в стихотворении «Муза» — второй ипостаси поэтической автохарактеристики Баратынского. В стихотворении господствуют отрицания «не», «ни», «нет»: «главным образом говорится о том, на кого не походит Муза поэта и каких черт она не имеет»{. Это прием отталкивания от существующего, создания портрета путем фиксирования его несовпадения с портретами других («Ее лица необщим выраженьем»). Но характерно, что среди многих отрицательных признаков один все же дан в определенно утвердительной форме: «Ее речей спокойной простотой…» Эпитет «спокойный» — обычная примета подлинной красоты у Баратынского. Так Эда «лицом спокойна и ясна», Вера Волховская:
Своими чистыми очами, Своими детскими устами, Своей спокойной красотой, Одушевленной выраженьем Сей драгоценной тишины, Она сходна была с виденьем Его разборчивой весны.
«Спокойная красота» выступает в смысловом соседстве с такими понятиями, как чистота, одушевленность, тишина, юношеское видение идеала (видение «разборчивой весны» Елецкого).
Применительно к музе Баратынского все это приобретает дополнительное значение. Спокойный — это не суетящийся, не аффектирующий, не становящийся па ходули, не выдающий себя за другого, не расталкивающий локтями соперников. Но спокойный — это еще уверенный в себе, в своем праве на поэтическое высказывание. Кстати, это понятие — и возможно, не случайно — отозвалось в пушкинской характеристике творческого пути поэта:
«Между тем Баратынский спокойно усовершенствовался, — писал Пушкин в статье „„Бал“ Баратынского“, — последние его произведения являются плодами зрелого таланта»[5][6].
Какое все это имеет значение в аспекте знакомых нам лирических оппозиций? Для Баратынского сохраняет силу противоречие истинно поэтической натуры и толпы, отъединенной от сферы прекрасного, ибо, как отмечал Жуковский, «туда непосвященной толпе дороги нет». Баратынский подобную же мысль выразил в эпиграмме на лженоэта: «Его капустою раздует, / А лавром он не расцветет». Но само понятие гения, поэтической натуры у Баратынского дифференцируется и выпадает из иерархии. Ценны не сила, не объем дарования, а его непохожесть. Поэтому в сфере прекрасного измерение достоинств, в отступление от обычной романтической парадигмы, осуществляется не, но вертикали, а по горизонтали: каждый истинный поэт ценен сам по себе. Поэтому, между прочим, Баратынский обычно ни с кем себя не сравнивает — ни с Овидием, ни с Шенье, ни с Байроном, ни с Александрийским столпом — и никому себя не противопоставляет (вспомним лермонтовское «нет, я не Байрон, я другой…»).
Остановимся на стихотворении Баратынского «Признание» (1824). Оно интересно тем, что представляет некоторую параллель к пушкинскому «Кавказскому пленнику», точнее — к линии его центрального персонажа:
Притворной нежности не требуй от меня:
Я сердца моего не скрою хлад печальный.
Ты права, в нем уж нет прекрасного огня Моей любви первоначальной.
Вспомним сетования Пленника:
Но поздно: умер я для счастья, Надежды призрак улетел.
Твой друг отвык от сладострастья, Для нежных чувств окаменел.
Общее звено обоих произведений — и характерно пушкинский оборот — «любовь первоначальная» (ср. в «Кавказском пленнике: «…живые впечатленья, / Первоначальная любовь…»). Но внутренняя интонация, или — в наших категориях — система мотивов, стимулирующих процесс отчуждения персонажа, у Баратынского совсем иная. «Признание», по словам исследователя, «должно было подействовать как откровение», ибо «вместо привычных жалоб на разбитое сердце мы находим в стихотворении трезвый психологический анализ происшедших в чувствах героя перемен»[7].
Особенность этого анализа в том, что он совсем не носит обвинительного характера, не ищет виновников, на которых обычно концентрировалось внимание романтически настроенного поэта и тем более — его персонажа. Причина не в сопернице («Я не пленен красавицей другою…»; ср. жалобу Пленника, который именно пленен другою: «В объятиях подруги страстной / Как тяжко мыслить о другой!..»). Причина не в измене возлюбленной, не в коварстве друга, выступающего в роли сознательного или невольного соблазнителя, не в мертвящем влиянии света, не в злословии окружающих, нс в моральных изъянах, чужих или своих, наконец, даже не в чьей-либо субъективной воле, в том числе и самого охладевшего, который, кажется, все делал, чтобы этого не произошло («Напрасно я себе на намять приводил / И милый образ твой, и прежние мечтанья…»). Причина совершенно в другом:
Я клятвы дал, но дал их выше сил.
Невластны мы в самих себе И, в молодые наши леты, Даем поспешные обеты, Смешные, может быть, всевидящей судьбе.
Причина — в неумолимом ходе времени, влекущем за собою необратимые изменения; в неких объективных установлениях, противиться которым бессмысленно. Новая фаза не обесценивает предыдущую; «милый образ» возлюбленной, поэтичность «любви первоначальной» с ее «прекрасным огнем» — все это реально, но принадлежит прошлому, в которое не вернешься. И это есть высшая мотивировка произошедшего изменения. Но отчуждение ли эго в знакомом нам смысле? Скорее состояние, граничащее со стоической сдержанностью, с мужественным пессимизмом.
Остановимся еще на одном примере — стихотворении «Последний поэт» (1835). Вот его начальные строки:
Век шествует путем своим железным, В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны, И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы.
В чем оригинальность этих строк? Ко времени их написания в русской литературе уже не было недостатка в гневных филиипиках против буржуазного расчета, корысти, утилитаризма, бессердечия, меркантильности и пр., но обычно все это связывалось с «гнилым Западом» и его тлетворным влиянием. России, по мнению авторов таких филиииик, представителей самоопределяющегося в то время (к концу 1830-х гг.) славянофильства, уготован иной путь: всеобщего согласия, терпимости, или, если прибегнуть к слову, которое вошло в обиход позднее, — путь соборности. Баратынский же не противопоставляет свою родину западноевропейским странам, но рассматривает их в контексте единой мировой или по крайней мере европейской судьбы.
Каково место действия этой маленькой стихотворной сцены? Где возник «последний поэт»? В новой Греции, только что освободившейся от османского гнета, — в стране, между прочим, не только христианской, но и православной. Это могло бы стать поводом для противопоставления конфессий: православной, с одной стороны, католической или протестантской — с другой. Противопоставление это вскоре сделается весьма актуальным для многих современников поэта — И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, Ф. И. Тютчева, в меньшей мере для Н. В. Гоголя, значительно позднее для Ф. М. Достоевского. Но Баратынского оно совершенно не занимает; сложная и чреватая острым драматизмом современная ситуация развивается, в его представлении, как бы поверх конфессий, охватывая все цивилизованное человечество.
Хотя подобное противопоставление обычно и оформлялось в регионально-политические и культурологические категории (Россия и Европа, Восток и Запад и пр.), но в их глубине просматривались знакомые нам романтические оппозиции, например истинной поэзии (и соответственно, истинно поэтической души, истинно поэтического поведения и т. д.) и прозаического, пошло-прозаического умонаправления. Баратынский оставляет подобную оппозицию в силе, однако придает ей весьма гибкий характер. Точнее, эта оппозиция не заслоняет достоинств современности: просвещение названо просвещением, свобода — свободой («Для ликующей свободы / Вновь Эллада ожила»), констатировано развитие наук, оживление торговли. Худо приходится только поэтам и поэзии, которая понимается в широком культурно-философском смысле; а следовательно, убывание поэзии означает нечто большее, чем утрату способности эстетического суждения, — оно грозит человечеству неисчислимыми бедами и несчастиями.
Посмотрим на творчество Баратынского с еще одной точки зрения — поэзии мысли, высшим воплощением которой оно давно признано. Действительно, все главные признаки этого явления налицо: стихи часто строятся как последовательная цепь размышлений; автор приводит доводы, аргументы, он анализирует создавшуюся ситуацию — мы только что наблюдали это на примере его элегий. Важно и то, что многие произведения Баратынского посвящены коренным вопросам бытия: жизнь и смерть (об этом повествует стихотворение «Череп», 1824), судьба искусства (печальной судьбе искусства в новое время посвящено произведение «Последний поэт»), будущее человечества (видение будущих эпох встает в стихотворении «Последняя смерть», 1827) и т. д.
Но особенно характерно для поэзии мысли то, что предметом произведения, его героем становится сама мысль. Вспомним для начала произведение другого поэта — С. П. Шевырева с «говорящим названием» — «Мысль» (1828), по отзыву Пушкина, «одно из замечательнейших стихотворений текущей словесности» (письмо к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г.):
Падет в наш ум чуть видное зерно И зреет в нем, питаясь жизни соком;
Но час придет — и вырастет оно В создании иль подвиге высоком И разовьет красу своих рамен, Как пышный кедр на высотах Ливана:
Нс подточить его червям времен, Не смыть корней волнами океана;
Не потрясти и бурям вековым Его главы, увенчанной звездами…
Теперь — Баратынский:
Сначала мысль воплощена В поэму сжатую поэта, Как дева юная, темна Для невнимательного света;
Потом осмелившись, она Уже увертлива, речиста, Со всех сторон своих видна, Как искушенная жена В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем, Она, подъемля крик нахальной, Плодит в полемике журнальной Давно уж ведомое всем.
«Сначала мысль воплощена…», 1837.
У Шевырева судьба мысли — это ее постепенное развитие, победоносное шествие; мысль неуклонно овладевает умами и сердцами. У Баратынского картина более сложная и не такая радужная. Да, бесспорно, мысль со временем охватывает все более широкий круг людей, становится им доступнее и понятнее (вначале она была «темна»), но одновременно происходит и ее упрощение, измельчание. Этот процесс неуклонного скольжения мысли вниз Баратынский передает с помощью ее сравнения с литературными жанрами (конечно, взятыми несколько односторонне, условно): вначале мысль как «поэма», потом — «проза» и наконец как журналистика — «полемика журнальная».
Но и сама мысль в ее полном, неунрощенном виде представляется Баратынскому как очень сложное явление. Поэт освещает его грани, сопоставляя различные виды искусства, с одной стороны, литература, с другой — скульптура, музыка, живопись. Каждый из этих видов обозначен материалом или орудием, которым он оперирует: литература, т. е. словесность, — словом, скульптура, музыка и живопись — соответственно резцом, органом, кистью. И вот оказывается, что в этих видах искусства мысль, мыслительная деятельность участвует по-разному:
Все мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Все тут, да ту г и человек, и свет, И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, кисть счастлив, кто влеком К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом, Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная!
«Все мысль да мысль! Художник бедный слова!..», 1840.
Писатель — полноправный служитель мысли, ее «жрец»: ведь мысль воплощается именно в языке, в слове. Скульптор, музыкант или живописец работают с другим, «чувственным», материалом — глиной, или звуками, или красками, отражая явления жизни цельно, не переходя, не ступая за ее грань.
И потому они ощущают всю полноту жизни, отдаются ей, исполнены ею: такие признаки, как праздничность и опьянение, характеризуют эту творческую деятельность («Есть хмель ему на празднике мирском»). Увы, все это не для писателя: он обречен на беспрестанную мыслительную деятельность, прикован к ней. Состояние мучительное («Художник бедный слова!»), но у него есть преимущество: именно мысли открывается «правда без покрова».
Итак, с одной стороны, перед мыслью «бледнеет» жизнь, исчезают ее полнота и многокрасочность. С другой стороны, только мысль, как «нагой меч», проникает в самую суть явлений. Об этом противоречии поэт говорит безбоязненно, ничего не скрывая и не приукрашивая, как о реальном противоречии жизни. Говорит с глубоким внутренним участием, с ощущением собственного тяжелого, выстраданного опыта.
У Баратынского нет иллюзий относительно судьбы индивидуальной, народной и общечеловеческой. Ради чего стараться? Ради справедливости? Но ее нет и не будет, ибо «…презренный властвует, / Достойный поник гонимою главой». Ради совершенствования? Но в будущем человечество ждут страшные потрясения и окончательная гибель. Так стоит ли? Да, стоит!
Помня, что поэта отличает не только лексика, но главным образом интонация, не только мысль, но в основном ее склад, обратим внимание на характерный для Баратынского противительный оборот. Вот еще в «Финляндии» (1820):
Для всех один закон, закон уничтоженья, Во всем мне слышится таинственный привет Обетованного забвенья!
Но я, в безвестности, для жизни жизнь любя, Я, беззаботливый душою, Вострепещу ль перед судьбою?
В послании «Князю Петру Андреевичу Вяземскому» (1836) поэт представляет свою книгу «Сумерки»:
Где отразилась жизнь моя, Исполнена тоски глубокой, Противоречий, слепоты,.
И между тем любви высокой, Любви, добра и красоты.
«Но» и «между тем» означают: «несмотря ни на что», «вопреки». Нужно мочь и хотеть вопреки всему — очевидному чувству предела, умалению и исчезновению поэтического духа, слабости собственных сил, невниманию и прямой враждебности окружающих, наконец, неотвратимости смерти:
«Виланд[8], кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы, — заметил Баратынский в письме к И. В. Киреевскому от июля 1832 г. — Надобно нам доказать, что он говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления»[9].
Может быть, поэт рассчитывает на будущее заселение «острова» Россия, на сочувственный отзыв грядущих поселенцев? Во всяком случае «бескорыстный труд» нужен прежде всего ему самому, его моральному чувству и творческому самоощущению.
Как отмечает исследователь, поэзия Баратынского свидетельствует не только об одиночестве и обреченности, но «вместе с тем о неведомых, не сообщаемых миру источниках его бесстрашия, его душевной защищенности и стойкости»[10]. Сам поэт однажды чуть-чуть приоткрыл эту тайну:
Но не упал я перед роком, Нашел отраду в песне муз И в равнодушии высоком…
«В глуши лесов счастлив один…», 1824.
Какой неожиданный источник бесстрашия — равнодушие! Но не упустим и сопутствующий эпитет — это именно высокое равнодушие. Тот, кто изведал глубину человеческой судьбы и не питает относительно нее никаких иллюзий, тот черпает в своем знании силу:
Всех благ возможных тот достиг, Кто дух судьбы своей постиг.
Муза Баратынского — это не муза бесконечных возможностей и ничем не омрачаемых светлых надежд. Это муза, знающая границы и пределы и умеющая находить поэзию в тесном круге возможного.
Муза Баратынского — это не муза настойчивого «душерасширения» (В. В. Розанов), упрямого наступления на читательские умы. Это муза гордого стоицизма, знающая себе цену, но не склонная навязываться и набиваться в друзья. Равно как и не склонная к болтливости, к самораскрытию до самоумаления и к откровенности до цинизма.
Многое выговорено этой музой, но еще больше утаено, о чем приходится только догадываться. Ибо печаль сопряжена с тайной, которую до конца никогда не раскроешь:
«Да, у этой музы было в лице „необщее“ выраженье, и потому она переживет в потомстве многих, к которым свет будет по временам выражать свою скоропреходящую благосклонность»[11].
- [1] Мандельштам О. Э. Слово и культура. М., 1987. С. 50.
- [2] Розанов В. В. Около церковных стен. СПб., 1906. Т. 2. С. 97.
- [3] Вяземский II. Л. Эстетика и литературная критика. С. 271.
- [4] Полевой Кс. А. Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого //Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатыхгодов. Л., 1934. С. 214.
- [5] Бочаров С. Г. Поэзия таинственных скорбей // Баратынский Е. А. Стихотворения. М., 1976. С. 268.
- [6] Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: в 10 т. Т. 7. С. 59.
- [7] Хетсо Г. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. С. 312.
- [8] Имеется в виду Кристофор Мартин Виланд, немецкий поэт.
- [9] Баратынский Е. Л. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951. С. 519.
- [10] Дерюгина Л. В. О жизни поэта Евгения Баратынского // Баратынский Е. А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987. С. 23.
- [11] Лонгинов М. И. Баратынский и его сочинения // Русский архив. 1867. № 2. Стб. 261.