Традиции перевода поэзии в России
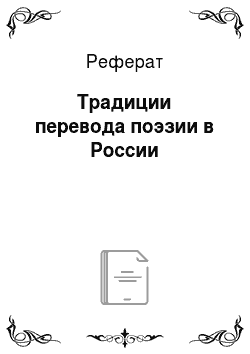
Его доводы с первого взгляда кажутся, пожалуй, убедительными, но вся его практика служит лучшим опровержением этой антипоэтической теории. Читающему его перевод «Фауста» невозможно понять, почему же «Фауст» считается одним из величайших произведений поэзии. Прославленная трагедия оказалась в интерпретации Фета такой косноязычной, корявой и шершавой, что Гёте должен был представиться русским… Читать ещё >
Традиции перевода поэзии в России (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Каждая эпоха достойна того.
перевода, который она терпит или которым восхищается.
Иван Кашкин Времена украшательских и калькированных переводов В XIX и XX веках методы переводческого искусства при воспроизведении французских, английских, немецких произведений поэзии менялись в зависимости от изменчивых читательских вкусов. Каждая эпоха диктовала переводчикам свой особенный стиль, и этот стиль считался наиболее пригодным для интерпретации данного автора.
Классической эпохой украшательских переводов является XVIII век, когда считались вполне установленными единые всеобщие нормы прекрасного. Индивидуальное своеобразие подлинника не имело в ту пору цены. Переводя иностранного автора, писатель XVIII века старался тщательно стереть в переводе все частные черты оригинала, все его национальные особенности, отзывавшиеся «варварским вкусом». [5, c. 245].
Превосходно сформулировано тогдашнее отношение к искусству художественного перевода в статье Г. А. Гуковского о русском классицизме. «Переводчики и в стихах и в прозе, с полным сознанием ответственности за свое дело и за методы своей работы, подчищали и исправляли переводимый текст согласно своим представлениям об эстетически должном, прекрасном, выпускали то, что им казалось лишним или нехудожественным, неудачным, вставляли свои куски там, где находили неполноту, и т. д. Наоборот, если текст представлялся переводчику абсолютно совершенным, достигшим степени единственно прекрасного разрешения данной эстетической задачи, — переводчик относился к нему с величайшей бережностью, с несколько даже рабской покорностью следуя оригиналу; он усердно старался передать его слово в слово, если это были стихи — стих в стих». Поэтика. Сборник статей. Л., 1928, с.142−145].
В XXI веке в России работала целая школа переводчиков, которые, по словам одного современного автора, калькировали «слово за словом, фразу за фразой, союз за союзом, без каких либо творческих раздумий над образами, характерами персонажей, стилем, художественною тканью произведения… Сотни серых, бездарных переводов появились из-под пера представителей „точного“ калькированного перевода, извращавших … правду о писателе, о его даровании и идейно-художественной основе переводимых произведений». [Оболевич В. Б. Роль научных знаний в творческой критике переводчика. В кн.: Теория и критика перевода. Л., 1962, с.162].
В это время было немало защитников именно таких переводов, которые пренебрегают красотой и поэтичностью подлинника. Один из ранних переводчиков «Фауста» М. Вронченко так и заявил в предисловии к своему переводу, что благозвучие стиха занимает его меньше всего.
«При переводе, — уведомлял он читателя, — обращалось внимание, прежде всего на верность и ясность в передаче мыслей, потом на силу и сжатость выражения, потом на связность и последовательность речи, так что забота о гладкости стихов была делом не главным, а последним». [Литературное наследство. Т. 4−6. М., 1932, с. 630].
Под «гладкостью стихов» переводчик разумел могучую фонетику Гёте. Он воображал, что поэзия Гёте может существовать и помимо фонетики, что фонетика есть только внешняя оболочка поэзии, не главное, а последнее дело. Ему и в голову не приходило, что, пренебрегая фонетикой, он тем самым в тысячу раз ослабляет именно идейную сторону поэзии Гёте, о которой столько хлопотал. [5, c.73].
А. Фет как представитель эпохи буквализма Таким же убежденным защитником «тяжеловесных и шероховатых переводов» не раз выступал А. А. Фет.
Фет-переводчик совершенно не похож на того сильного мастера, каким мы привыкли любить его в лирике. [5, c.74].
Даже расположенный к Фету исследователь, профессор В. Ф. Лазурский, не может не признать неудачности многих его переводов. «Рядом с местами, очень близко и поэтически передающими смысл подлинника, в них часто можно наткнуться на стих неуклюжий, неверный, а иногда и совершенно непонятный, так что оставалось только удивляться, как поэт, известный красотой и гладкостью своего стиха, способен на такое безвкусие… Стремясь переводить стих в стих, слово в слово, [Фет] нередко впадал в тяжелый и неудобопонятный буквализм. Чтобы не отступить ни на шаг от подлинника, приходилось допускать несвойственные русской речи выражения и эпитеты, злоупотреблять частицами, делать насилия над ударениями, допускать неправильности грамматические и метрические. Построением таких близких к оригиналу, но шероховатых и темных фраз Фет достигает иногда таких поразительных эффектов, что русскому читателю приходится обращаться к иностранному подлиннику, чтобы постигнуть в некоторых местах таинственный смысл фетовского перевода». [Лазурский В. А. А. Фет как поэт, переводчик и мыслитель. — «Русская мысль», 1894, февраль, с. 34−35].
Меркурьева, переводчица Шелли, пошла в этом направлении еще дальше.
У Фета же, как и у всякого большого поэта, случаются порою и проблески. Но переводческие установки у них одинаковы. Это переводчики одной и той же школы. Фет утверждал не раз, что, тщательно воспроизводя все особенности переводимого текста, переводчик отнюдь не обязан воспроизводить художественное обаяние подлинника. Он не отрицал, что воспроизведение «прелести формы», как он выражался, придает переводу высокую ценность, но он был уверен, что позволительно обойтись и без этих красот. В предисловии к своему переводу Ювенала (1885) он открыто декларировал право переводчика воспроизводить один только голый скелет того или иного создания поэзии, не гоняясь за его живой красотой. [5. c.74].
«Самая плохая фотография или шарманка, — писал Фет, — доставляет более возможности познакомиться с Венерой Милосской, Мадонной или Нормой, чем всевозможные словесные описания. То же самое можно сказать и о переводах гениальных произведений. Счастлив переводчик, которому удалось, хотя отчасти, достигнуть той общей прелести формы, которая неразлучна с гениальным произведением: это высшее счастье и для него и для читателя. Но не в этом главная задача, а в возможной буквальности перевода; как бы последний ни казался тяжеловат и шероховат на новой почве чужого языка, читатель с чутьем всегда угадает в таком переводе силу оригинала, тогда как в переводе, гоняющемся за привычной и приятной читателю формой, последний большею частью читает переводчика, а не автора». [Сатиры Ювенала в переводе А. А. Фета. М., 1885, с. 6].
Его доводы с первого взгляда кажутся, пожалуй, убедительными, но вся его практика служит лучшим опровержением этой антипоэтической теории. Читающему его перевод «Фауста» невозможно понять, почему же «Фауст» считается одним из величайших произведений поэзии. Прославленная трагедия оказалась в интерпретации Фета такой косноязычной, корявой и шершавой, что Гёте должен был представиться русским читателям одним из самых неумелых писателей. Овидий, Вергилий, Проперций, Ювенал и Катулл, переведенные Фетом, тоже не могли не показаться бездарностями, — таким тяжелым, какофоническим, несвободным стихом передавал их сладкозвучные произведения Фет. Вся многолетняя переводческая практика Фета доказала, что никак невозможно ставить фетиш эквилинеарности и эквиритмии выше живой человеческой дикции, выше звуковой экспрессивности, так как «прелесть формы» обусловлена именно ими. [5, c. 75].
Совершенно прав позднейший критик, давший такую оценку фетовским переводам античных и современных поэтов:
«Фет добился своего идеала дорогою ценою… насилования родного языка. Даже в самых точных русских стихотворных переводах нет того поэтического аромата, который подкупает читателя в пользу переводов Жуковского: нет изящества и грации, без которых нет впечатления полной власти над всеми трудностями, нет впечатления чуда, без чего немыслим и энтузиазм читателя». [Чешихин Всеволод. Жуковский как переводчик Шиллера. Рига, 1895, с. 171].
Метод художественного перевода целиком вытекает из мировоззрения той или иной эпохи. Новая литературная школа неизменно влечет за собой новый подход к переводческой практике.
История развития методов перевода поэзии в России на примере перевода поэмы «Слово о полку Игореве».
Историю развития методов перевода поэзии в России можно проследить на примере перевода поэмы «Слово о полку Игореве», которая была переведена на русский язык сорок четыре или сорок пять раз — и всякий раз по-другому. В каждом из этих сорока четырех или сорока пяти переводов отразилась и личность переводчика со всеми ее индивидуальными качествами, и та эпоха, когда был создан перевод, так как каждый переводчик вносил в свою версию именно те элементы, которые составляли основу актуальной в то время эстетики.
Всякий новый перевод, таким образом, представлял собой новое искажение подлинника, обусловленное вкусами того социального слоя, к которому адресовался переводчик. То есть, иными словами, каждая эпоха давала переводчикам свой собственный рецепт отклонений от подлинника, и этого рецепта они строго придерживались, причем их современникам именно в данных отклонениях и чудилось главное достоинство перевода. [5, c. 236] В наше время в американской науке о переводе очень популярна теория манипулирования, так называемая Manipulation School. Лоренс Венути, автор книги «Переводчик — невидимка"[перевод названия И.В.Убоженко] («The translator’s invisibility»), пропагандирует идею возможности воздействия на читателя, используя вновь переписанный текст перевода. Теория манипулирования заключается в том, что каждый перевод может переписываться заново в соответствии с требованиями эпохи по заказу господствующей власти с целью манипулирования читателем, т. е. предлагается использовать перевод как способ манипулирования.
Эпоха ложноклассицизма диктовала поэтам такие переводы «Плача Ярославны»:
Я горлицей сама к Дунаю полечу, Бобровый свой рукав в Каяле омочу, И раны оботру на Игоревом теле, На бледном, может быть, и хладном уж доселе.
(Перевод А. Палицына 1807 г.).
Получались пышные александрийские вирши, явно предназначенные для декламации на театральных подмостках.
Эпоха романтизма потребовала, чтобы переводчик превратил «Плач Ярославны» в романс:
Не в роще горлица воркует,.
Своим покинута дружком.
Княгиня юная горюет О князе Игоре своем.
О, где ты, где ты, друг мой милый?
Где Ярославнин ясный свет?
Кто даст мне, грустной, быстры крылы И легкой ласточки полет?
Ах, я вспорхну — и вдоль Дуная Стрелой пернатой полечу…
(Перевод В. Загорского 1825 г.).
Получился чувствительный романс для клавесина. Перевод так и называется: «Ярославна. Романс».
В ту же пору романтического культа старинной славянщины и восторженной реставрации фольклора переводу «Плача Ярославны» был придан такой архаический стиль:
Как в глухом бору зегзицын Ярославнин глас Рано слышится в Путивле на градской стене:
Полечу — рече— зегзицей к Дону синему,.
Омочу рукав бобряный во Каяле я, Оботру кровавы раны князю на теле.
(Перевод Н. Грамматина 1823 г.).
В эпоху увлечения Гомером (вскоре после появления Гнедичевской «Илиады») Ярославна принуждена была плакать гекзамером:
Слышен глас Ярославны: пустынной кукушкою с утра Кличет она: «Полечу, говорит, по Дунаю кукушкой,.
Мой бобровый рукав омочу в Каяльские воды!".
(Перевод М. Деларю 1839 г.).
В эпоху распада той высокой поэтической культуры, которой была отмечена первая треть XIX века в России, «Плач Ярославны» снова зазвучал по-другому: ловким и звонким, но пустопорожним стихом, лишенным какой бы то ни было лирики:
Звучный голос раздается.
Ярославны молодой.
Стоном горлицы несется Он пред утренней зарей.
«Я быстрей лесной голубки.
По Дунаю полечу —.
И рукав бобровой шубки.
Я в Каяле обмочу!".
(Перевод Н. Гербеля 1854 г.).
Как всегда бывает в таких эпигонских стихах, их механический ритм нисколько не связан с их темой: вместо «Плача» получилась пляска.
В ту же эпигонскую эпоху, лет на восемь раньше, в самый разгар дилетантщины, появился еще один «Плач», такой же пустопорожний и ловкий, но вдобавок подслащенный отсебятинами сентиментального стиля. [5, c. 238] Про Ярославну там было сказано, будто она «головкой» (!) склонилась на «грудь белоснежную» (?). И пела эта Ярославна такое:
Я касаткой по Дунаю В свою отчину слетаю (?),.
А назад как полечу, Так рукав бобровой шубы Я в Каяле омочу!
Раны Игоря святые, За отчизну добытые, Я водою залечу.
(Перевод Д. Минаева).
«Полечу — омочу — залечу» — эти три плясовые, залихватские «чу» меньше всего выражали тоску и рыдание.
А так как в то время в модных журнальных стихах (например, в «Библиотеке для чтения») процветала мертвая экзотика орнаментального стиля, это тоже не могло не отразиться на тогдашнем «Плаче Ярославны»:
Ветер, ветер, что ты воешь,.
Что ты путь широкий роешь Распашным своим крылом?
Ты как раб аварской рати (?).
Носишь к знамю благодати (?).
Стрелы ханских дикарей!
Эта цветистая фраза «раб аварской рати» кажется здесь особенно недопустимым уродством, так как в подлиннике это одно из самых простых, задушевных и потому не нуждающихся ни в какой орнаментации мест. [5, c. 239].
В эпоху модернизма «Плач Ярославны» зазвучал дешевым балалаечным модерном.
Утренней зарею Горлицей лесною Стонет Ярославна на градской стене,.
Стонет и рыдает,.
Друга поминает, Мечется и стонет в тяжком полусне (!).
Белою зегзицей,.
Вольнолюбой птицей К светлому Дунаю быстро полечу.
И рукав бобровый.
Шубоньки шелковой Я в реке Каяле тихо омочу!
(Перевод Г. Вольского 1908 г.).
Полусон, в который погрузил плачущую Ярославну ее переводчик, чрезвычайно характерен для декадентской поэтики. [5, c.239].
Таким искажениям был положен конец только в XIX веке, когда искусство перевода стало все сильнее сочетаться с наукой. «Изучая переводы и переложения советской эпохи, мы наблюдаем общий более высокий уровень их художественной культуры по сравнению с дореволюционными переводами. Почти каждый из них представляет собой серьезную работу в художественном, а часто и в научном отношении, на них нет той печати провинциализма, кустарщины, которая отличает многие дореволюционные переводы, особенно предреволюционных лет (1908—1916). Значительно вырос интерес широких масс нашего народа к „Слову о полку Игореве“. В нашей стране достигла высокого уровня теория и культура художественного перевода. К этим благоприятным условиям необходимо добавить значительно более глубокое изучение „Слова о полку Игореве“ современной наукой. Все это помогает советским переводчикам совершенствовать свои переводы». [Слово о полку Игореве. Поэтические переводы и переложения. Под общей редакцией В. Ржиги, В. Кузьминой и В. Стеллецкого М., 1961, с. 301].
В тридцатых годах «Плач Ярославны» переводился так:
Ярославны голос слышен.
Кукушкой, неслышима, рано кычет.
«Полечу, — молвит, — кукушкой по Дунаю,.
Омочу бобровый рукав в Каяле — реке,.
Утру князю кровавые его раны.
На суровом его теле".
Перевод Георгия Шторма — это не перепев, не пересказ, не вариация на данную тему, а максимально близкий к оригиналу подстрочник. Личность самого переводчика не выпячивалась здесь на первое место, как это было во всех переводах, которые цитировались выше. Георгий Шторм отнесся к тексту с объективизмом ученого: его перевод есть вклад и в «изящную словесность», и в науку. Таков установленный стиль переводческого искусства тридцатых — сороковых годов. [5, c.240].
Одновременно с Георгием Штормом «Слово» перевел Сергей Шервинский, который руководствовался таким же стремлением к объективной научной точности и все же дал совершенно иной перевод, резко отличающийся от перевода Георгия Шторма: более женственный, более лиричный и, можно сказать, более музыкальный.
В то время как у Шторма дана сухо рационалистическая стертая фраза: «Стяги трепещут», Шервинский сохраняет драгоценную метафору подлинника: «Стяги глаголют».
Перевод Шторма принципиальнее, основательнее, увереннее, но прозаичнее, жестче. И, тем не менее, оба переводчика равно стремились отрешиться от внесения в свой перевод каких бы то ни было субъективных моментов. Ни у того, ни у другого нет, конечно, ни одной отсебятины, ни тот, ни другой не пытаются каким бы то ни было образом «улучшить» подлинник, «украсить» его, «подсластить», как это было свойственно переводчикам прежнего времени.
И все же их переводы различны, как различны их индивидуальности. [5, c.240−241].
Такая же научно-художественная установка в переводе «Слова о полку Игореве», принадлежащем Ивану Новикову. Этот перевод тоже чрезвычайно типичен для недавней эпохи: никаких прикрас и вымышленных образов, сочетание поэзии со строго научным анализом текста. Главная задача переводчика: воссоздание древнего «Слова» путем максимального приближения к подлиннику — к его ритмике, стилю, словарю, поэтическим образам. Рядом с этим новым переводом большинство переводов, сделанных в XIX веке, кажутся дилетантскими" перепевами, вольными переложениями великого памятника. Иван Новиков не навязывает «Слову» канонических ритмов, не «украшает» его бойкими, звонкими рифмами, как это делали Гербель, Минаев и Мей. Он пытается реставрировать стилистику подлинника, восстановить присущее подлиннику движение стиха. И хотя написанные им комментарии свидетельствуют, что в основу его перевода легла большая исследовательская работа над текстом, эта работа не только не уничтожила поэтической прелести «Слова», но, напротив, дала ей возможность проявиться во всей полноте. [5, c. 241].
«Плач Ярославны» в переводе Ивана Новикова таков:
Не копья поют на Дунае,-;
То слышен мне глас Ярославны;
Кукушкой неузнанной рано Кукует она:
«Полечу я кукушкой, Говорит, по Дунаю, Омочу рукав я бобровый Во Каяле-реке, Оботру я князю Раны кровавые На застывающем теле его».
По, естественно, и здесь объективность перевода — лишь кажущаяся (не является ли поэтическим произволом то, например, обстоятельство, что первые четыре строки звучат амфибрахием, две следующие — анапестом, а следующие— смешанным сказовым ритмом?).
И все же нельзя не признать, что объективно учитываемых отклонений от подлинника здесь гораздо меньше, чем в любом другом переводе «Слова о полку Игореве». Из всех сорока пяти переводов «Слова», сделанных за сто пятьдесят лет со дня первого напечатания текста, перевод Ивана Новикова наиболее соответствует буквальному смыслу подлинника и может служить превосходным подстрочником для всех изучающих «Слово». 5, c.241−242].
Но, конечно, новиковский метод интерпретации этого текста не может считаться единственным. Велик соблазн для советских поэтов — приблизить «Слово» к современной эпохе, сказать о нем «слогом теперешним». Этому соблазну поддался Марк Тарловский и создал чрезвычайно любопытное произведение поэзии, которое лишь условно можно назвать переводом. Скорее всего, это переложение «Слова» на тот многостильный язык, который выработан современной поэзией. Заголовки отдельных частей перевода нарочито вульгарны — это заголовки авантюрных кинокартин и романов: «Наперекор затмению», «Наперекор судьбе», «В ловушке», «Уроки прошлого», «Сон Святослава», «Сон был в руку», «Один в поле не воин», «Слава Донцу», «Гзаку досада» — и даже: «Единый фронт». Плач Ярославны звучит в этом переводе так:
Среди придунайских плавней Копья в дали рассветной Поют в ответ Ярославне, Кукующей неприметно…
Вот зорный плач Ярославны В Путивле с башни дозорной:
«О ветер, вихрун державный!
К чему твой порыв задорный?
К чему ты стрелы поганых Крылом, натянутым туго, Несешь, во мглах и туманах, На знаменщиков супруга?
Иль мало тебе, что струги Несешь на волну с волны ты, Что в небе пути для вьюги Заоблачные открыты?
Взамен веселья былого, К чему мне печаль бобылья, Тобой, государь, сурово Навеянная с ковылья?".
Перевод Тарловского не характерен для переводческих тенденций современной эпохи. Он стоит особняком, как курьез, которому никто не подражает. [5, c. 242−243].
Массовая же практика переводчиков тридцатых — сороковых годов ставила себе совершенно иные задачи: объективность, точность, отсутствие вымышленных образов и всяческих прикрас, эквиритмию, эквилинеарность и прочее.
Все эти принципы казались совершенно незыблемыми, покуда в 1946 году не появился чудесный, подлинно поэтический перевод Николая Заболоцкого. Хотя этот перевод не удовлетворяет тем требованиям, соблюдение которых, казалось, обеспечивает переводу максимальную точность, он точнее всех наиболее точных подстрочников, так как в нем передано самое главное: поэтическое своеобразие подлинника, его очарование, его прелесть.
Никогда ни в одном переводе разрозненные образы «Слова о полку Игореве» не были сведены воедино таким могучим лирическим чувством. Стих всюду кованый, крепкий:
Уж с утра до вечера и снова -;
С вечера до самого утра Бьется войско князя удалого, И растет кровавых тел гора.
День и ночь над полем незнакомым Стрелы половецкие свистят, Сабли ударяют по шеломам, Копья харалужные трещат.
Мертвыми усеяно костями,.
Далеко от крови почернев, Задымилось поле под ногами,.
И взошел великими скорбями На Руси кровавый тот посев.
«В соответствии с научным пониманием композиции «Слова», — говорит В. Стеллецкий, — переложение разделяется на три части и вступление… Заболоцким угадана мозаичность композиции «Слова», и все переложение, за исключением вступления, подразделяется на сорок пять различных по строению сложных или комбинированных строф… С большим тактом и вкусом вводит Заболоцкий в свое переложение отдельные строфы, написанные трех-стопным хореем с дактилическим окончанием и четырехстопным хореем… Таким образом, можно с удовлетворением сказать, что Заболоцким был найден новый и правильный путь поэтического вольного воспроизведения «Слова о полку Игореве». [Стеллецкий В. «Слово о полку Игореве» в художественных переводах и переложениях. М., 1961, с. 308 — 309].
«Плач Ярославны» звучит у Николая Заболоцкого так:
Далеко в Путивле, на забрале, Лишь заря займется поутру, Ярославна, полная печали, Как кукушка, кличет на юру:
«Что ты, Ветер, злобно повеваешь,.
Что клубишь туманы у реки,.
Стрелы половецкие вздымаешь,.
Мечешь их на русские полки?
Чем тебе не любо на просторе.
Высоко под облаком летать,.
Корабли лелеять в синем море,.
За кормою волны колыхать?
Ты же, стрелы вражеские сея,.
Только смертью веешь с высоты.
Ах, зачем, зачем мое веселье.
В ковылях навек развеял ты?".
На заре в Путивле причитая,.
Как кукушка раннею весной,.
Ярославна кличет молодая,.
На стене рыдая городской:
«Днепр мой славный! Каменные горы.
В землях половецких ты пробил,.
Святослава в дальние просторы.
До полков Кобяковых носил.
Возлелей же князя, господине,.
Сохрани на дальней стороне,.
Чтоб забыла слезы я отныне,.
Чтобы жив вернулся он ко мне!".
Здесь отчетливо видны все преимущества нового метода — сочетание научного знания с поэтическим чувством. Заболоцкий назвал свой труд переложением, но это переложение вернее воспроизводит подлинник, чем многие другие переводы, так как оно передает, лиризм великой поэмы. [5, c. 243 — 244] К мастерству переводчика Николай Заболоцкий всегда предъявлял самые суровые требования. «Если, — писал он, — перевод с иностранного языка не читается как хорошее русское произведение, — это перевод или посредственный, или неудачный.» [Заболоцкий Н. Заметки переводчика., М., 1959, с. 252].
Так, в ходе развития традиций стихотворного перевода поэты пришли к выводу, что буквальный перевод не может передать поэтического очарования подлинника и, что можно пожертвовать десятками второстепенных деталей ради того, чтобы стихотворение в его переводе звучало той же музыкой, какой звучит оно в подлиннике.
В следующей главе настоящей дипломной работы представлено теоретическое обоснование правильности этого вывода.