Переводы Э. Хемингуэя А. Вознесенским
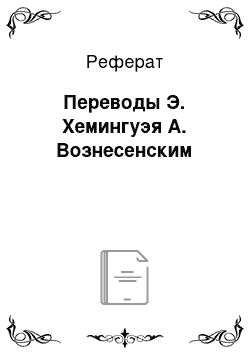
Говоря о любви и сострадание Хемингуэй, однако, не впадает в сентиментальность и идеализацию окружающих его безымянных героев. Он говорит о жестоких и грустных событиях просто, лаконично, с достоинством. В поэме есть строка, очень важная для понимания всей лексической системы произведения: Today no one uses slang because clarity is of the utmost importance — «никто не пользуется сейчас слэнгом… Читать ещё >
Переводы Э. Хемингуэя А. Вознесенским (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Поэтическое творчество Э. Хемингуэя практически незнакомо советскому читателю, хотя великий американский прозаик начинал свою творческую биографию как поэт — его первыми печатными произведениями были два стихотворения, появившиеся в мае 1922 г. в авангардистском безгонарарном журнале «Дабл Дилер». Первая тонкая книжечка с именем писателя на обложке, сборник «10 стихотворений и 3 рассказа», вышла в 1923 г. А в знаменитом чемодане, украденном у Хэдли Ричардсон на Лионском вокзале в 1923 г., по свидетельству самого Хемингуэя, было 30 стихотворных произведений. Правда, поэтическая активность начинающего автора не вызывала особенно бурных восторгов критики или слушателей, в связи с чем писатель позднее замечал, что со стихами ему не везет. Этот факт, однако, не помешал Хемингуэю в дальнейшем неоднократно обращаться к поэзии в поисках адекватной формы для выражения повышенно-эмоционального отношения к описываемому.
Одним из таких эмоционально-напряженных моментов был для писателя 1944 г.: караульная служба в Карибском море, ожидание в Лондоне высадки американских войск во Франции и, наконец, первые месяцы непосредственного участия в боевых операциях в Европе. Этот же год был годом возобновления знакомства с Мэри Уэлш, которое переросло в глубокое искреннее чувство и повлияло на всю дальнейшую судьбу Хемингуэя. Он посвящает Мэри две поэмы, хронологически отделенные друг от друга четырьмя месяцами, очень разные по содержанию и настроению. Первая поэма — исповедь тоскующего, оторванного от друзей и любимого дела, одинокого в чужом городе человека, который осторожно, боясь ошибиться, приближается к неожиданно обретенному, все более необходимому другу. Вторая — это послание женщине, с которой навсегда связана жизнь, любимой, верной и понимающей. Оба произведения развивают одну тему и воспринимаются в тесном единстве, как две части одного целого. Они были впервые опубликованы посмертно в журнале «Атлантик Мансли» в августе 1965 г., с коротким предисловием Мэри Хемингуэй, объясняющим обстановку и историю их создания.
И буквально следом, в сентябре того же года, в журнале «Иностранная литература» вышел в свет перевод поэм, сделанный А. Вознесенским. Первое прочтение переводов вызвало некоторые сомнения — неужели Э. Хемингуэй так похож на А. Вознесенского? Появись эти стихи в томике поэта, и их не отличишь от исконно «Вознесенских». Сопоставление подлинника и перевода превратили интуитивные сомнения в объективно доказуемые возражения. Прежде всего, нарушен порядок следования поэм — первая доставлена второй и наоборот. Цель этой перестановки осталась неясной, а ущерб художественной и смысловой целостности нанесен непоправимый — сдвинулись хронологические ориентиры, исказился истинный ход событий, полностью разрушилась созданная автором перспектива развития человеческих отношений, произведение сразу с ног встало на голову и в этом неудобном положении двинулось по страницам.
С целью хотя бы частичного, хоть и запоздалого восстановления истины, мы начнем сопоставительный анализ текстов с первой поэмы, которая называется «То Mary in London» — «Лондон. Мэри» и датирована маем 1944 г. Первым и самым существенным возражением является необъяснимое огрубление подлинника путем введения в перевод массы вульгаризмов, жаргонных и сугубо просторечных слов. Осуществляется это двумя путями: А. Вознесенский либо переводит нейтральную лексику при помощи единиц иного стилистического пласта, либо сам вводит эмоционально окрашенные элементы сниженного плана.
Примеров первого чрезвычайно много: «Му true headache» (верная мне головная боль) переводится — «башка трещит»; «sitting now here in the room» (сидя сейчас здесь в комнате") — «холостая конура». «…Sharing a jeep with three others Your choice between drunkards or Mars» (…в одном джипе еще с тремя, которых сам выбрал среди пьяниц и лжецов) — «…Так на джипике — среди этих вралей и хануриков».
Что касается «отсебятин» аналогичного характера, то их еще больше: «котелок раскалывается», «шатает череп от морского шума», «Он .был мужик что надо», «Плевал я на мигрень», «Время для ворья» — эти и многие другие строки просто придуманы А. Вознесенским.
В тексте Хемингуэя на 750 слов действительно есть два вульгаризма (кстати, они вполне стилистически адекватно переведены на русский язык), А. Вознесенский же насквозь пропитывает поэму жаргоном. Загруженность текста вульгарной и жаргонной лексикой полностью меняет тональность произведения. А ведь поэма не только посвящается любимой женщине, но и прямо адресована ей — «То Mary in London» (заглавие почему-то вообще выпало из перевода), и читатель справедливо недоумевает, почему предчувствие, начало любви заставляет писателя в столь грубой и вульгарной форме выражать свои чувства и переживания. Просветленность, нежность, благодарность изгнаны из перевода почти полностью, а ведь их немало: my dear, lovely, softly (дорогая, мягко, нежно…). «I watch the clock… jump… toward the hour when She will come… to cure all Loneliness» (Я слежу за стрелками… когда же они прыгнут на час, в который она придет… и вылечит одиночество) и мн. др.
Стихи написаны как некоторое подведение итогов прошлого перед вступлением в новый период жизни, в них много раздумий человека, оторвавшегося от привычного бытия и только нащупывающего новый путь. Это отражено как в выборе лексики, так и в построении поэмы. Рифма полностью отсутствует, термин «строфа» может быть введен лишь условно, ибо строфы здесь — это скорее отделяющиеся друг от друга пробелами абзацы разной длины, от 5 — 38 строк, с разным размером строки — от 1 — 11 слов, разные по ритмической организации. Новая строфа возникает при, полном переключении плана повествования — из настоящего в прошлое или будущее и наоборот.
Смятение и тоска героя по друзьям стихает к концу, к моменту свидания с любимой женщиной, которая возвращает ему силу, веру в себя и в будущее. Изменение настроения к концу отражается на структуре стиха — он становится более однородным по ритму, размеру и длине строки, четче делится на строфы. Иногда даже намечается рифма.
А. Вознесенский полностью меняет стихотворную конфигурацию: он не сохраняет авторского деления на строфы (у Хемингуэя их 7, у Вознесенского — 12), сливает две в одну или, наоборот, разрывает одну в две, пользуется произвольной, своей, метрикой, но, главное, что отражается на всей эмоциональной окраске поэмы, он зарифмовывает целые строфы и даже начинает поэму одной из них, таким образом, начисто снимая подтекст, заложенный в структурной организации поэмы.
Хемингуэй написал глубоко личное лирическое произведение, в котором не побоялся признаться в своих человеческих слабостях — робости, страдании от головной боли, тоске по друзьям и по дому; в переводе же герой — кремень, он от всего заслонится крепким словечком. Бытовые подробности, упоминаемые при этом, — название лондонского отеля, или получателя сданного с «Пилар» вооружения, или упоминание о разглядывания города «раз уж я здесь» — убираются из перевода, хотя они придают воспоминаниям точность и правдивость. И, наоборот, переводчик сам придумывает совершенно ошеломительные детали: так, самую нежную строфу Хемингуэя А. Вознесенский открывает таким нововведением ;
Двенадцать скоро. Время для ворья.
Но ты вбежишь, прошедшим огороша…
Ты, светлая, воротишь, что ушло.
Запахнет рыбой, трапом, овощами…
…When she will come… bring your heart back that was gone,.
To cure all loneliness, bring the thingsleft behind upon the boat ;
(Когда она придет И возвратит сердцу то, что ушло, Излечит одиночество И вернет все, Что осталось там, на корабле…).
Не говоря уже о полной стилистической несостоятельности избранных автором глагольных форм «вбежишь, огороша» и противительного союза, приравнивающего героиню к ожидаемому ворью, непонятно, почему переводчик конкретизировал «все, оставленное на корабле», в «рыбу и овощи», тогда как весь контекст поэмы не оставляет ни малейшего сомнения в том, что «все» — это, в первую очередь, дружба, надежды, вера в себя.
И уж совершенно непонятна аллегория, вложенная переводчиком в целиком им придуманную строфу, следующую непосредственно за «овощами»:
Так, загребая, воду возвращает.
(чтоб снова упустить ее!) ;
весло.
Как «так»? Как что? Как «ты, светлая»? Почему тогда такой пессимизм — «чтоб снова упустить ее»? Данное украшение является не просто лишним, не принадлежащим оригиналу, но и вредным, так как искажает смысл — вместо светлой веры, вселяемой героиней, перевод повествует о пессимистической уверенности в недолговечности надежд.
В переводе много неточностей, которые привели к искажению одних образовали к тому, что другие остались нераскрытыми и, следовательно, непонятыми русским читателем.
Так, например, «headache» — головная боль-все время называется мигренью. Выбранное А. Вознесенским слово само по себе не совсем удачно, так как за ним тянется привычная психологическая ассоциация со страдающей от мигрени светской дамой. За словом даже закрепился какой-то иронический оттенок. Но, помимо этого «атомистического» соображения об отдельно взятом слове «мигрень», есть возражение гораздо 'более существенное: «мигрень» — женского рода, Хемингуэй же, подчеркнуто одушевляя боль, постоянно сопровождающую его после ранения головы, многократно называет ее «he» — «он» — мой лучший, верный, неразлучный друг.
При этом возникает грустная параллель — два друга далеко, один — близко, и потому что он столь верен, не хочу его обижать и говорить, что он меня утомляет. При выборе слова «мигрень» эта параллель исчезает, так как появляется другая, усиливающаяся словами «по-изменяю ей чуток».
В переводе неоднократно повторяется фраза «дать огонька» в разных глагольных временах. О ее стилистическом несоответствии тону произведения мы уже упоминали. Но дело не только в перемещении эмоциональных акцентов.
Из-за неточности перевода непонятны и следующие строки:
«Все дело в практике. Практика. Практика и практика. Это необъяснимо». Что необъяснимо? «Все дело в практике» — это вполне объяснимо. У Хемингуэя слова «Это необъяснимо» стоят после такой строки:
«Practice make perfect make practice make perfect make practice». За этим построением стоит целая эпоха в жизни писателя-начало 20-х годов, Париж, литературный салон Гертруды Стайн и ее знаменитая фраза, поучающая начинающих литераторов: «Роза это роза это роза». Через полтора десятилетия главный герой романа «По ком звонит колокол» продемонстрирует полное освобождение своего создателя от ранних увлечений: «Лукавица это луковица это луковица», с удовольствием произнес Роберт Джордан и подумал «Камень это камень это скала это глыба это галька».
Взятая сама по себе строка «Дело в практике практика в деле дело в 'практике» непонятна, она нуждается либо в знании прошлого, либо в объяснении, которое в данном случае неуместно, поэтому автор, извиняясь, и говорит — «Всем людям я не могу этого объяснить». То есть при скрупулезном следовании подлиннику все становится на свои места — за загадочной фразой следует извинение за ее необъяснимость, в переводе же А. Вознесенского действительно «все необъяснимо».
Недоразумение возникает и в средине первой строфы — автор вполне определенно говорит, начиная поэму: «Я… приехал в новый город». Между подлежащим «я» и сказуемым «приехал» стоят шесть строк, вмещающих развернутые причастные обороты о желании автора выбрать лучшие слова, о необходимости большого везения при отборе истинно необходимых фраз. То есть, «я в новом городе ищу слова для свой поэмы» — это не фигура речи, где под «городом» метафорически разумеется «словарь», а вполне реальный Лондон. А. Вознесенский же пишет:
«И теряешься ;
будто идешь по новому городу.".
От введения сравнительного слова «будто» глагол «теряешься» оказывается отнесенным не к конкретному ощущению человека в чужом городе, а к писательскому ощущению неуверенности, растерянности перед словом.
Примеров подобного свободного обращения с текстом оригинала множество. Собственно, вся поэма-это один длинный пример. Поэтому, по-видимому, было бы целесообразнее назвать произведение не переводом Э. Хемингуэя, а стихами А. Вознесенского, навеянными мотивами Э. Хемингуэя.
Вторая поэма окончена Э. Хемингуэем через четыре с лишним месяца после окончания первой. Она написана в ином эмоциональном ключе и, соответственно, свидетельствует об изменении мировосприятия автора, вызванном его непосредственным участием в боевых операциях американской армии, в результате которых ему пришлось быть свидетелем многих смертей. Если в первой поэме внимание автора было сосредоточено на интроспективном созерцании собственных щемяще-тоскливых переживании и воспоминаний, на сопоставлении трех временных планов — завидного прошлого, одинокого настоящего и смутно вырисовывающегося будущего в сугубо личном аспекте, то вторая поэма полна горечи за других, уже убитых и тех, кто идет и пойдет на смерть. Автор — один из них, и его гневная скорбь носит личный, не отвлеченный характер; однако «любовь и сострадание» — слова, многократно повторяемые в поэме, перестали относиться к кругу объектов, непосредственно связанных с личностью автора, они приобретают гражданственное и гуманистическое звучание, включая в. орбиту своего действия все светлые силы, выступившие на борьбу с врагом.
Говоря о любви и сострадание Хемингуэй, однако, не впадает в сентиментальность и идеализацию окружающих его безымянных героев. Он говорит о жестоких и грустных событиях просто, лаконично, с достоинством. В поэме есть строка, очень важная для понимания всей лексической системы произведения: Today no one uses slang because clarity is of the utmost importance — «никто не пользуется сейчас слэнгом, так как чрезвычайно важно выражаться ясно». Соответственно, употребляемая лексика носит нормативный характер-это, в основном, нейтральный лексический слой с очень незначительным количеством слов из специальных сфер употребления — так, в поэме встречаются два вульгаризма: whore повторяется четыре раза в одной и той же метафорической фразе old whore Death — старая проститутка Смерть и fucking, которое цитируется автором в качестве единственного оставшегося крепкого словца, употребляющегося не в номинативном, а в сугубо эмоциональном значении. Из другого специального лексического пласта — терминов — взяты некоторые слова и выражения, характерные для военной документации. И последним исключением из нейтральной лексики является поэтизм bourne — область, граница. В остальном, как уже было сказано выше, словарный состав поэмы относится к нейтральной литературной лексике. Это придает произведению строгость и объективность. Но это же и заставляет автора искать источник эмоционального воздействия в построении стиха. Структура поэмы значительно сложнее ее лексики: 196 строк не разделены автором на строфы или периоды (как в первой поэме), что заставляет читать и воспринимать произведение «на' одном дыхании» и придает ему ощутимую завершенность и стройность, несмотря на значительную ритмико-интонационную вариативность отдельных строк. Так, можно говорить о трех основных формах, свободно чередующихся в поэме: рифмованный стих, белый стих и неритмизованная проза. Переход от одной формы к другой строго обусловлен содержанием и является сигналом переключения из одного плана повествования в другой — например, тяжелый марш солдат подчеркивается рифмованной организацией стиха; а проза, которой передается официальное сообщение о гибели рядовых и офицеров, создает эффект аутентичности сообщения, непричастности автора к его созданию.
В зависимости от намерений автора варьируется и длина строк — в начале преобладают короткие строки, состоящие из 1 — 3 слов (из 3−20 букв), далее идет целый массив прозаически длинных строк из 15−19 слов (из 70−80 букв), затем опять короткие и т. д. Помимо ритмико-интонационного (или, вернее, в дополнение к нему), создается чисто зрительный эффект восприятия полупустой или полностью закрытой текстом страницы.
Чередование форм изложения, длины строк и графического заполнения страницы создают разбиение произведения на части, выделяющие смысловую завершенность и поэтому играющие не орнаментальную или сугубо формальную роль, а несущие и смысловую нагрузку.
Таким образом, сам по себе отбор лексики и соответствующих структур играет чрезвычайно существенную роль в экспликации авторской темы и настроения, в создании эмоционального произведения в целом.
Как же переданы важнейшие характеристики оригинала в переводе?
Перевод поэмы очень неровен. Здесь есть бесспорные удачи А. Вознесенского (например, строки 35−45, 75−80, 110−125), однако они, к сожалению, приобретают частный характер в сравнении с общим тоном и содержанием русского текста.
Обратимся к лексике. Как и в первом случае, она неоправданно огрублена, засорена вульгаризмами: мы уже говорили, что у Хемингуэя смерть четырежды называется старой проституткой — old whore. Отсутствие эпитетов и синонимического варьирования самой метафоры имеет вполне определенный смысл и создает вполне определенный эффект — повторяемость частично снимает номинативное значение словосочетания, делает метафору стертой, лишает ее броскости, вписывает в общий горько-суровый колорит поэмы. Вознесенский же для каждого употребления не только находит новый жаргонный синоним, но и снабжает его эпитетом — вульгаризмом: «дырявая задрыга, страстная лахудра, старая сука, старая блажь, мировая лахудра». К этому присоединяются такие нововведения переводчика, как «сучье раскаянье, лахудрова ухмылка, поохмуряли, поохмурят, хана Рождеству, старье и юноши — разом; зенитки харкают плазмой, все мура, брось скулеж, премся по бугру, торжественнейшая лажа, мы бортанули» (?) и т. д. Щедро рассыпанные по тексту, эти слова и фразы — не просто отсебятины, но отсебятины, кардинально изменяющие общую торжественно-серьезную тональность поэмы.
Такую же отрицательную роль играет и нарушение переводчиком морфемного состава слова — замена одного суффикса другим или присоединение уничижительного суффикса: «словцо» — об обещаниях верности, «книжица» — о стихах Киплинга, школьной награде Мэри.
Часть лексических замен и инноваций А. Вознесенского искажают смысловое содержание произведения. Название — «К Мэри» — ясно свидетельствует о наличие конкретного адресата у поэмы и, естественно, такие фразы, как «you used» или «you guessed», следует переводить женским родом глагола, переводчик же почему-то пишет в мужском: «ты повадился… гадай, пока гадается, товарищ…». Это лишает перевод конкретности, превращает поэму-письмо в поэму-абстракцию. И, наоборот, «you», относящееся не к адресату, а к самому рассказчику (что не-редко имеет место и в русском язьгке), переводится как обращение к Мэри, отчего искажается смысл целого восьмистишия (у Хемингуэя строки 112−119, у Вознесенского 130−133): автор говорит, что ноги, усталые, мудрые, осторожные ноги не хотят нести его на холм, где притаилась смерть: «making feet slowly go where they know better than to take you, feet are wise and feet are weary…» А. Вознесенский же переводит: «Взбираемся на высоту. Выше. Так тяжко двигаться. Так трудно тебя нести, Любовь моя. Ноги не слушаются…» Здесь же, по-видимому, компенсируя непереведенные строки оригинала, А. Вознесенский совершенно неожиданно вставляет полностью рифмованные 17 строк собственного сочинения, где есть среди прочих и такие интересные лексические соседи: «Нощно, денно, /Ноша бренна, /Нота бене!/ Нота бене!» Как видим, переводчик щедро пополнил словарь автора архаизмами и варваризмами. Жаль только, что перевод от этого никак не выиграл. Столь же щедр А. Вознесенский и в заключительной части поэмы, где на 16 авторских строк приходится 25 переводческих, обильно сдобренных жаргоном.
Так же, как и в первой поэме, подобное распухание текста в одной части компенсируется его усечением в другой, что ведет к искажению номинативных и эмоциональных значений, оставшихся после усечения слов.
Неудачный или неверный перевод отдельных слов, к сожалению, нередко нарушает создаваемые автором ассоциативные связи. Так, например, непонятно, почему многократно обыгрываемое Хемингуэем слово «Если» (в оригинале строки 146−156, в переводе — 181−193) переводится фольклорным «ежели»: в оригинале на повторе слова основана ассоциация с широко известным стихотворением Киплинга. В переводе ассоциация теряется, ибо официально принятый перевод ставшего хрестоматийным произведения — «Если», а не «Ежели», и фраза переводчика «…Но не „ежели“ из книжицы Киплинга…» повисает в воздухе.
Еще пример бессмыслицы, рожденной неряшливым переводом: у Хемингуэя, как уже говорилось, через всю поэму проходит образ Смерти, подкарауливающей бойцов ежечасно все 108 дней, прошедших с момента высадки американских десантных войск на Нормандском берегу, поэтому не выпадает из образной системы и строка «…the easy, dirt-mouthed smile we had denied so many days (D plus 108)"-продажная грязная улыбка, которую мы отвергали столько дней (день высадки плюс еще 108). У переводчика эта же строка звучит так:
…навстречу лахудроеой ухмылке. Которую столько раз Мы бортанули.
/С+108/.
Взбираемся на высоту…
Как видим, при переводе произошел ряд замен. Оставляя на совести переводчика «лахудрову ухмылку» и «бортанули», обратимся к лексически более невинным объектам: «раз» вместо «дней» и «С+108» вместо «Д плюс 108». Первая замена обессмысливает цифру, ибо 108 — это точный счет прошедших дней и введение слова «дни» строго обусловлено содержанием предложения. Замена английской буквы «Д» на русское «С» совершенно непонятна — для любого американца «Д» всегда имеет однозначное прочтение — «день высадки». А что означает «С»? Единственная смутная ассоциация — температурная — получает неожиданную поддержку переводом «plus» не словом «плюс», а символом «+», а позиционное положение выражения — на отдельной строке в скобках — превращает (C+l08) в формулу, как-то относящуюся к показателю то ли температуры, то ли высоты (?). То есть исходный авторский смысл потерян, новый не рожден.
Аналогичных примеров лексических искажений множество (например, строки 10, 33, 46, 60, 104 и мн. др.).
Весьма серьезные возражения вызывает также синтаксис и строфика поэмы.
Выше уже говорилось о произвольном изменении длины строки. Столь же произвольно соотношение длины подлинника и длины перевода. В подлиннике 196 строк, в переводе — при наличии значительного количества сокращений текста — 235. Разрастание размера при усечении смыслового содержания оригинала связано с переводческими нововведениями. Не имеющие смысловой связи с текстом подлинника, они, по-видимому, призваны отразить его эмоциональный строй, однако в связи с сугубо целенаправленным отбором лексических средств отражают индивидуальность переводчика, а не автора.
Разбиения поэмы на строфы в подлиннике нет. Это усиливает впечатление цельности произносимого автором внутреннего монолога, является композиционным приемом скрепления отдельных, на первый взгляд разрозненных, мыслей в единое и стройное целое. А. Вознесенский по необъяснимым причинам дробит перевод на 16 очень разных по длине строф. Разрывы между созданными таким образом кусками усугубляются изменением ритма при переходе от одного 'к другому. Почти вдвое чащ-е используется рифма.
Таким образом, все характеристики поэмы Хемингуэя подверглись коренной переработке и претерпели существеннейшие изменения в переводе. Творческая индивидуальность А. Вознесенского полностью подавила художественную индивидуальность писателя, перевод поэм которого был его задачей, в результате чего русский читатель получил не переводы стихов великого американца, а вариации А. Вознесенского на темы Э. Хемингуэя.