Образ казака и маркеры казацкой культуры в сказовой прозе 20-х годов XX века (на примере новелл И. Бабеля, Вс. Иванова и М. Шолохова)
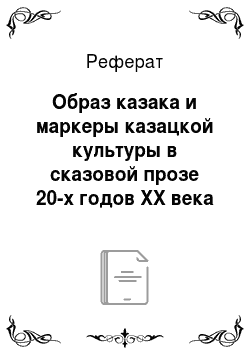
Сибирское казачье войско официально ведёт своё начало от казачьих поселений в Сибири с 1582 года. Как самостоятельное, войско было образовано в 1808-м. В отличие от потомков вольных боевых общин — Донского, Уральского, Терского войск — Сибирское было создано государством и с самого начала служило государству. У этой горстки служивых и так почти не было отдыха, а их еще гоняли на всевозможные… Читать ещё >
Образ казака и маркеры казацкой культуры в сказовой прозе 20-х годов XX века (на примере новелл И. Бабеля, Вс. Иванова и М. Шолохова) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Образ казака и маркеры казацкой культуры в сказовой прозе 20-х годов XX века (на примере новелл И. Бабеля, Вс. Иванова и М. Шолохова)
культура казак сказ символический В 20-е годы ХХ века происходил процесс максимального сближения литературы и фольклора. Это породило как «диалог» литературных и фольклорных тем и жанров, так и особое внимание к мироощущению, мировосприятию представителей разных национальностей, запечатленными в устнозвучащем слове, впоследствии воспринятом литературой. Интерес к жизни представителей нерусской национальности в русской литературе после революции стал едва ли не знамением времени.
Формирование и активное использование жанра литературного сказа в этот период позволило «включить» в канву повествования не только «диалог» между автором и рассказчиком-человеком из народных низов, но и создать «диалог национальных культур» в рамках русскоязычного текста.
На примере сказовых новелл И. Бабеля из цикла «Конармия», Вс. Иванова и М. Шолохова из цикла «Донские рассказы» мы постараемся показать, на каких уровнях выстраивается межкультурный диалог, ограниченный возможностями русского языка, и насколько приложима для исследования текстов разных авторов разработанная нами методика анализа «пограничных» текстов.
И.Э. Бабель представляет для науки довольно сложную задачу в плане определения его культурной принадлежности. Истоки его творчества, несомненно, имеют основу в философии и культуре иудаизма. Однако зачитывающийся Мопассаном в оригинале и пишущий только на русском языке Бабель как бы отвергает свое еврейство. По мысли некоторых исследователей (Е. Зихер, А. Кобринский, Я. Либерман, Ш. Маркиш, Г. Фрейдин и др.), Бабель — писатель бинациональный. И эта бинациональность должна была непременно отразиться в одном из главных произведений писателя — цикле «Конармия».
Противопоставляя авторское мышление и мышление рассказчика, бабелевский сказ дает возможность взглянуть на события «двойным взглядом»: и в этическим и культурологическом смысле. Лютов в «Конармии» сочетает в себе два мира: еврейский (мир генной, культурной памяти) и казацкий (мир, куда его ведет новая вера). Каждый из этих миров создается в новеллах цикла и в отдельности, и в совокупности, происходит своего рода удвоение культурно-национальной составляющей цикла. Связывает миры доминирующий в цикле мотив дороги. Казаки как самый мобильный род войск (конница) постоянно в движении, перемещении: от дома и обратно к дому. Как профессиональные военные они были готовы сняться с места в любой момент. Оставляя хозяйство на стариков, жен и детей, казаки нисколько не жалели ни чужого имущества, ни чужую жизнь. Дорога — один из символов казачества (непосредственно связанная с другим — конем). Причем дорога воспринималась как в прямом (физическом, пространственном) смысле слова, так и в метафорическом (пока ты в дороге, морально-этических запретов не существует). Отсюда грабежи, мародерство, изнасилования.
Практически вся Первая Конная армия состояла из казаков — особого военного сословия, где культурные доминанты складывались в процессе постоянной смены состояний: война/мир, дом/дорога. Казацкая субкультура при всей своей оригинальности формировалась под воздействием культуры русской, для которой идея простора, беспредельности, пути — основополагающие понятия. Рассказчику — еврейскому интеллигенту Лютову — приходится сталкиваться не только с начальным неприятием вольности и порожденной этим жестокости казака, но и с внутренним несовпадением ключевых архетипических понятий.
Уже в новелле «Мой первый гусь» квартирьер четко рисует схему поведения, при которой только и возможно подобие взаимопонимания между казаком и очкастым интеллигентом: «Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка.» Столь яростное неприятие очков и учености лежит в глубинных корнях казачества. Ученый человек не воин. Учиться можно и должно только военному делу. С другой стороны, казачество всегда было в некоторой оппозиции к государству. И противостояние государственной политике в области грамотности было своеобразным делом чести. См., например, историческую песню «Отказ казаков от подписки»:
От царя пришел указ,
В год учить детей три раз.
Старики же отвечали,
Громким голосом кричали:
«Не желам принять ученье,
Лучше пойдем на мученье!"1
Опять же грамотность ассоциировалась казаком с материальным достатком, который достается не тяжелым ежедневным физическим трудом, с одной стороны, а с другой — с изнеженностью, с образом «маменькиного сынка», не способного постоять за себя и свою родину. Это нашло отражение и в казачьем фольклоре.
Поэтому появление Лютова в очках, да еще кандидата прав, ученого человека в казачьей среде заставило не только активизироваться личному неприятию, но и спровоцировало своеобразный национально-культурный антагонизм. Когда начдив узнает, что Лютов грамотный, закончил университет, когда он кричит ему: «Ты из киндербальзамов и очки на носу», когда восклицает: «Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки», — он ведет себя так, как это свойственно многим казакам, за спиной которых стоит веками копившаяся ненависть к дворянству, интеллигенции и евреям, которые в большинстве своем получили хорошее образование.
Начинается и заканчивается цикл образом пути, движения. Даже в самых статичных новеллах «Конармии» этот образ присутствует, например, в «Письме». В этой новелле, с одной стороны, создается своеобразный диалог между топосом казачьего хутора, откуда родом Васька, и дорогой, по которой идет Первая Конная, т. е. страной, охваченной войной. С другой, воссоздается патриархальный мир, связанный с образами матери и коня Степана. Поэтому в тексте постоянно происходит сравнение привычного, «своего» мира с необычным «большим» миром, по которому вместе с армией идет Васька. «Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева здесь сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон»; «За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара, люди в ем очень красивые, речка способная до купания» и пр. «Маленький мир» казака Курдюкова оказался «вписан» в «большой мир» России.
Сказ о семейной трагедии Курдюковых также оказался «вписанным» в трагедию всей страны и не только сегодняшнюю. Тема, поднятая Бабелем в «Письме», активно разрабатывалась фольклором. Традиционные фольклорные символы соседствуют в письме с реалиями нового времени. С одной стороны, образ матери — символ дома, жизни; с другой — образ отчима — символ разрушения гибели.
Образ коня для казацкой культуры едва ли не центральный. Он — символ движения, но он же и символ жизни («конь — он отец, бесчисленно раз жизню спасает»). Лютов старательно фиксирует сам факт необычного отношения казака к этому животному. В новелле «Афонька Бида» воспроизведен прощальный монолог Биды над конем Степаном, больше напоминающем плач по погибшему человеку: «Прощай, Степан как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови При станичниках, дорогих братьях обещаю тебе, Степан».
Действительно, в сознании казака конь не средство передвижения, а часть самого воина. Понятна поэтому обида Хлебникова на Савицкого, забравшего коня («История одной лошади»; «Продолжение истории одной лошади»); понятна ненависть Тихомолова к рассказчику, загубившему Аргамака («Аргамак»). Однако Бабель пошел дальше. Он четко обозначил, насколько казак отождествляет себя с конем, насколько в казачьем сознании эти образы едины. Например, в «Чесниках» Сашка, скрестив свою кобылу с командирским Ураганом, замечает: «Вот мы и с начинкой, девочка» [выделено мной — А. П.]. В «Истории одной лошади» в один смысловой ряд включаются конь и женщина: «Облитый духами и похожий на Петра Великого, он [Савицкий. — А. П.] жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью». Все свои помыслы, поведение казак напрямую связывает с конем, отсюда и своеобразные обороты речи, фиксирующие эту связь (а язык, как известно, способ выражения мировоззрения, культуры), например: «Я еще живой, Хлебников еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут.»; «И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, родные братья, пять годов барин на мне долги ждал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках» («Жизнеописание Павличенки.»); «Жалко было жеребца [не человека! — А.П.]. Большевичок был жеребец, чистый большевичок Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста.» («Конкин») и пр.
Но не только архетипические образы коня, матери, песни становятся символами казацкой субкультуры. Языковой уровень тоже маркирует сознание и поведение казака. Для характеристики его речи Бабель в основном использует вставные фольклорные жанры: пословицы, поговорки, присловья (например, «Правда всякую ноздрю щекочет» («Мой первый гусь»; «Ладно, будешь моя, раскинешь ноги.», «Своя рогожа чужой рожи дороже» («Иваны») и пр.); сказку («Надеюся на вас, что вы не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конечно, был, самогон-пиво пил, усы обмочило, в рот не заскочило» («Соль»)); поминальный плач («Афонька Бида»)); и сказа, например, о пчеле и Христе («Путь в Броды»), о выборе коня отцом Тихомолова («Аргамак»); и частушки («Жизнеописание.»), и «игра в фуражечку» («Их было девять»); и похоронный плач («Афонька Бида»); и причитания, например: «Эх, кровиночка ты моя! Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая.» («Иваны») и пр. Зачастую герои Бабеля сами создают крылатые выражения по типу фольклорных, например: «Помрем за кислый огурец и мировую революцию» («Конкин»), «Сон бежал, как волк от своры злодейских псов» («Соль»), «Мы чистим для вас ядро от скорлупы», «Вы выймете палец из носу и воспоете новую жизнь» («Вечер») и пр.; и песни, например о соловом жеребчике («Путь в Броды»).
Симбиоз различных «языковых моделей мира» Бабель выстраивает на разных уровнях: от самого примитивного (включение иноязычного слова в массив чужой речи) до одного из самых сложных (создание инонациональных речевых сказов на русском языке).
В основном в массив русской речи включается или диалектное слово, характерное для украинской или казачьей речи, или «испорченное» слово. Например: «Лягал отдыхать», («Письмо»); «Братишка садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет.» («Мой первый гусь»); «.Я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь» («История одной лошади»); «Выкамаривал ничего себе, подходяще», «Юшка из меня помаленьку капает», «И кобылой моей загоняю я генерала в клуню» («Конкин») и пр.
Зачастую герои-казаки с помощью «народной этимологии» создают новые варианты слова, более емко характеризующие и культурное мировидение и ситуацию, например: «Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего», «Ты из киндербальзамов.» («Мой первый гусь»); «земельная вы и холоднокровная власть.» («Жизнеописание.»); «фармазонщик он, а не глухарь» («Иваны»); «Развесишь губы — тебя враз уконтрапупят» и пр. Включение в массив русской речи диалектного слова создает эффект присутствия чужого сознания. Пусть это слово еще не самостоятельно, но, прорываясь сквозь дебри чужого языка, маркирует и чужое, инокультурное сознание.
Образ песни также является одним из основополагающих символов казачьей культуры, песня казака раздольная, всеохватывающая. Логос русского народа (и его субкультуры — казацкой), как заметил Г. Гачев, это не только дорога, но и «песня, поэзия, мат, блатной язык — и безмолвие»2. Наверное, это раздолье как можно полнее находило выход в анархии революции. Афонька Бида пел не только о соловом жеребчике, попутно уничтожая пчел, он пел песню смерти в храме Берестечка: «Их было множество — Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую» («У святого Валента»). Песни Сашки Христа стали гимном дорогам войны: «Один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом» («Песня»). Тем самым создавался мотив разрушения, мотив хаоса.
И в этот мотив включалась не только песня, но и изувеченные, оскверненные атрибуты различных религиозных концессий: еврейская пасхальная посуда («Переход через Збруч»), «разрезанные пополам иконы» польского костела («Костел в Новограде», «опустошенный замок графов Рациборских» («Берестечко»), «разбитая рака» костела святого Валента («У святого Валента») и пр. Опьяненная свободой, разгулом страстей казачья вольница разрушает все на своем пути.
Жанр сказа позволил показать особенности говора представителей разных национальностей. Объединенные в один цикл, новеллы «Конармии», рассказанные от имени нескольких рассказчиков, стали своеобразным полем соположения различных, во многом даже взаимоисключающих, культур: еврейской и «антиеврейской», т. е. казацкой. Это и создало особый эффект восприятия стиля «Конармии» как разорванного (В.В. Эйдинова), совместившего несовместимое, запечатлев фрагментарность, «лоскутность» строящегося мира, в котором интернационализм станет декларированной доминантой.
В отличие от бабелевских казаков, казак Вс. Иванова не обладает мощью и внешней красотой. Прекрасно зная жизнь казахов и киргизов, Иванов знал и жизнь сибирских казаков, разительно отличающуюся от жизни кубанского и донского казачества.
Сибирское казачье войско официально ведёт своё начало от казачьих поселений в Сибири с 1582 года. Как самостоятельное, войско было образовано в 1808-м. В отличие от потомков вольных боевых общин — Донского, Уральского, Терского войск — Сибирское было создано государством и с самого начала служило государству. У этой горстки служивых и так почти не было отдыха, а их еще гоняли на всевозможные работы. Сменившись с поста, сибирский казак строил и ремонтировал укрепления, заготавливал для казны сено, дрова и строевой лес, сплавлял все это за сотни верст по Иртышу, перевозил казенный провиант и почту, присматривал за казенными складами, а в 1746—1770 годах даже пахал казенную пашню. О собственной запашке не могло быть и речи: казаку зачастую некогда было даже смолоть казенный паек зерна, и он отдавал за помол последние копейки казенного жалованья3. Неудивительны поэтому «худоконность» сибирских казаков того времени, бедность и ветхость их оружия и снаряжения. Неудивительна и ненависть к «немаканым» киргизам, от которых приходилось оборонять границы вопреки желанию заниматься хлебопашеством.
«Казацких» новелл у писателя немного, но в каждой из них образ казака строится как антипод образу «неказака»: киргизу («Дитя», «Лога», «Киргиз Тимербей»), где речь идет о сибирских казаках; русскому («О казачке Марфе», «Про двух аргамаков»), где повествование ведется об уральских казаках. Вс. Иванов отказался от острой фабульности своих рассказов, перенеся вес с внешнего на внутреннее, с действия на его осмысление. Ему важно показать не последствия поступка, а создать образ переживания. Поэтому писатель использовал традиционные для фольклора мотивы: вражда между братьями, выбор богатырского коня («Про двух аргамаков»), «отступничество» от уз крови ради богатства, т. е. мотив «погони за золотом» («О казачке Марфе»), мотив «кормления» неимущих («Лога») или подкидыша («Дитя»). Но эти мотивы по сравнению со своими традиционными фольклорными аналогами у Иванова переосмыслены. Для писателя вообще характерно не использовать народнопоэтические жанры, образы, сюжеты напрямую, скорее, можно вести речь о типологическом заимствовании. За исключением «Логов» на первый план в рассказах выходит трагедия матери, так или иначе потерявшей сына.
Рассказчиком истории семьи Железновых («Про двух аргамаков») стала Аграфена Петровна, мать двух сыновей, оказавшихся по разную сторону баррикад. Старая уральская казачка сохранила в своем повествовании не только диалектные формы речи, но и своеобразную «фольклорную память». Мотивы коня и дороги доминируют в этом сказе. Гиперболизируя образы аргамаков (кстати, совершенно не описав своих сыновей), Аграфена Петровна убеждает слушателя в том, что среди всех богатств ее предков конь — главное. Отсюда выстраивается и своеобразный образный ряд: кони — хозяйство — дети.
Рассказ о том, как росли вместе богатырские кони и их седоки тоже в традиции фольклора. Конь и дорога стали в центре конфликта между двумя братьями. Разные кони и разные дороги у них. Серко своей статью привлек внимание генерала, но не принес наград Егору. Игренька помог Митьке получить двух «Георгиев», хоть и статью был похуже. Но важным оказывается другой момент: лучший конь принадлежит тому, кто борется за народное счастье. Дороги братьев разошлись: один ушел к большевикам, другой держался старой веры: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! Имущество, грит, с кыргызами да другими собаками делить не хочу». Казаки всегда отличались истовой приверженностью к православию. И Митьша, хоть частично отступил от казачьего девиза («За веру, соборность, отечество!»), все же не может расстаться с глубинным стремлением казака иметь свою землю, жить богато и праведно. Но происходит и еще одна рокировка: Митьша и Егор меняются конями. Однако Серко предает своего нового седока, потому что хозяин недостоин его.
Образ коня настолько цельно связан в сознании казака с образом человека, что последний поступок Егора не жестокость и самодурство, а попытка «очистить» светлый образ Серко от «грязи», налипшей за то время, что он был под седлом Митьки: «И говорит Егор тому коню: „Конь ты, конь серый! Возил ты меня, возил и брата. И всю жизнь будешь ты напоминать об изменнике. Жалко мне тебя, но стыдно будет всем смотреть на тебя. Прощай!“ И убил коня».
Характерно, что мотив дороги доминирует и в новелле «О казачке Марфе»: сначала шесть сыновей ушли на германскую, а потом и гражданскую войну; затем и сама Марфа повторила их путь: сперва «долги» красным отдавала, воюя в кавалерии, а потом отправилась в путь, уводящий ее от семьи, принося себя в жертву младшему сыну.
Казачий колорит в основном создается Вс. Ивановым в новеллах с помощью диалектного слова и вставных жанров, созданных по типу фольклорных: пословиц, поговорок, легенд, сказов.
Своеобразный парафраз фольклорной легенды использует Вс. Иванов, чтобы подчеркнуть стать аргамаков в новелле «Про двух аргамаков» («И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру генерал оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: „^ким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?“ — „Нашим, грит, яицким“. И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня»). А в «О казачке Марфе» предание легендарного типа вводится, чтобы еще раз выделить народный подтекст происходящего: за кого бог стоит, тот и прав («Через всех казаков проскакал Егор к брату. «Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя и за все семейства наше казацкое! Помирай от моей руки». И вдарил его шашкой.
Потом что?.. Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли брат своего брата не пожалел, значит, за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит. Генеральские казаки и сдались").
Пословицы и поговорки живут в новеллах Иванова особой жизнью — это варианты фольклорных аналогов, созданные писателем, например: «судьба — не баба: слезой не возьмешь», «а дни тогда — что торопкий да далекий путь», «коли деньги без цены ходили, то слова что?», «ложка тяжелей топора станет» и пр.
Но в большей степени колорит казацкой речи подчеркивают диалектные слова, нигде не поясняемые автором, например: «разделить вас ильбо что?», «утиши, господи, их сердца», «месяц-то ноябрь был, убродный да лютый», «промчалась трашпанка мимо» и пр.
Сибирское казачество жило беднее уральского, оформилось гораздо позже и не так активно противопоставляло себя мужикам-крестьянам. Интересно посмотреть, что в фольклоре народов Сибири образы казака и образы русского, мужика не противопоставлялись, как это было, например, в донском и кубанском варианте. Казак в фольклоре народов Сибири помимо черт, характерных только для него, несет и комплекс черт, присущих ему в силу того, что он является русским.
В «Киргизе Темербее» Вс. Иванов использовал интересный прием: сцена расстрела показана глазами киргиза, но передана с помощью русской речи. Казак ассоциировался у Темербея с несколькими символами, противоположными культурным ориентирам киргиза: песней, русской речью, отношением к степи. Не случайно пробуждение Темербея связано с громкими звуками: «- Дьрынн!.. Дьрынн!..
Качавшийся в седле казак бил шашкой по стволу ружья и подпевал: «Волга-матушка широка, Широка и глубока.».
Эта песня совсем не соответствовала камерному настроению киргиза, она нарушала молчание степи, несла смерть, что еще не осознанно почувствовал Темербей. Степь, разбуженная звуками, не «приняла» казаков, им неуютно: «. Очень хотелось домой; надоела эта степь, горячее солнце, и хотелось тени». Солнце и степь стали свидетелями и молчаливыми судьями происходящего. Громкий звук песни и выстрелов нарушил не только величавую тишину степи, но и сломал налаженную жизнь Темербея: «Он почувствовал себя одиноким и в то же время связанным с людьми, совершающими убийство, а сказать „не хочу“ — не было силы. И показалось Темербею, что он словно ест дохлятину, и даже начинала щекотать горло тошнина».
Иванов смог противопоставить восприятие некоторых символических образов Темербеем и казаками, но, конечно, запечатлеть самобытность казацкой культуры писатель не смог, да и не хотел.
В новеллах же «Дите» и «Лога» такая задача, пусть периферийно, но автором ставится и воплощается. В «Логах» воссоздается топос сытого казачьего хутора, граничившего со степью. Определенная зажиточность, самодостаточность («У нас земля удойная, а город, ен все припрет сюды. Им бы бунтовать»), верность присяге, данной царю, призрение к инородцам — вот что доминирует в мировосприятии ивановского казака. Не имея возможности напрямую высказать свою позицию, автор прибегает к приему психологического параллелизма, заимствованного из фольклора. Если в начале рассказа связываются казаки и земля, пахота («Люди вокруг огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбитые»), подчеркивалась «приземленность» односельчан по отношению к Аксинье, которая томилась душой, то, начиная со второй части повествования, сопоставление душевных переживаний героини и природы были более опосредованы.
Впервые почувствовав любовь к Сеньше, Аксинья ушла домой, но часть ее души осталась с казаком: «Ушла, приминая траву, и трава увядала под ее ногой». Явная перекличка с фольклорной символикой. Увядшая трава — увядшее сердце. А желтеет и погибает трава только под ногой женщины. Не случайно, в конце рассказа, когда от тяжести разочарования гибнет душа героини, опять возникает образ травы: «Чертополох попал под грудь, переломился. Отдернулись под телом травы, и, хрустя, как травы, ломалось в груди.». Как символ смерти трава представлена и в любовной сцене: «. Сорвала Аксинья пучочек травки и легонько на глаза ему положила». Как символ увядшей души засохшая трава противопоставлена боярышнику, «укравшему» душевный покой у влюбленной женщины: «Пахнет боярышник ее сердцем, ее тоской, а лога жадные влажно дышат, прижимают к себе травы, колки березовые, чудесные подарочные грибы Пьет сердце и он, курчавый». Фольклорные ассоциации маркируют не только душевное состояние героини, но и показывают близость казацкой субкультуры к культуре русской.
Образы казаков-партизан нашли свое воплощение в рассказе «Дите». Два звероподобных образа создает здесь Иванов: «Монголия — зверь дикий и нерадостный» и партизаны, «злобные, как волки весной». Не случайно эпитеты, связанные с описанием казака, отражали жестокость, страх, например: «А когда садился на лошадь [Афанасий Петрович. — А.П.] - строжал. Далеко пряталось лицо, и сидел: седой, сердитый и страшный». Презрение казака к своей и чужой смерти, презрение к иноверцам, «немаканым», т. е. некрещеным киргизам и, одновременно, трогательная забота о приемном ребенке — материал исследования Иванова. Своеобразие же мировосприятия сибирца не становится центром внимания писателя, он лишь вскользь создает мотив движения, без которого немыслима жизнь казака.
Русских гнали немилосердно в степи Монголии, от этого их презрение к смерти («На камнях-горах оставили лишнюю слабость — кто повымрет, кто повыбит»), партизан гонят через горы белые, от этого презрение к местному населению, ибо «все чужое, не свое, беспашенное, дикое», не похожее на родную прииртышскую степь. Мотив дороги оказывается непосредственно соединен с мотивом насилия. Не сами казаки кочуют, их «гонят», как зверя; поэтому и в них нет жалости к жителям этого «нерадостного» края. Но «беленький» ребенок становится для казака символом будущего («Расти, ребя. Он вырасти у нас — на луну полетит.»), ради которого они воюют, поэтому в жертву этому будущему отдается другой ребенок — киргиз.
Вс. Иванов не создал цельный образ казака, но отдельные мотивы, элементы казачьей культуры запечатлел в своих коротких новеллах.
М. Шолохов все свои «Донские рассказы» посвятил миру донского казачества. Среди цикла выделяются несколько сказовых текстов, позволивших зафиксировать своеобразие устнопроизносимого казаком слова, построить специфическую модель поведения донца. Это рассказы: «Семейный человек», «Родинка», «Шибалково семя», «О Донпродкоме и злоключениях заместителя Донпродкомиссара товарища Птицына», «О Колчаке, крапиве и прочем», «Председатель Реввоенсовета республики».
На языковом уровне картина казачьего мира представлена очень рельефно. Шолохов обратился к фольклорной поэтике, ибо его герои плоть от плоти народа. Фольклоризм шолоховских рассказов носит двойственный характер: с одной стороны, в основе любого его повествования лежит случай, включенный в целый ряд ему подобных (трагедия семьи, противостояние новой и старой идеологии, крушение привычного быта), этот случай воспринимается рассказчиком и передается в соответствии с выработанными фольклором моральными критериями и нормами поведения; с другой стороны, рассказчик «включает» в свою речь элементы фольклорных жанров, которые в максимально концентрированном виде отражают народный опыт.
В основном это пословицы, поговорки, присловья или заимствованные из фольклора, или созданные по типу фольклорных, например: «горюшка хлебнул выше горла», «сердце у меня тут прикипело в грудях» («Шибалково семя»), «назови хоть горшком, да в печь не сажай», крапива «черту на семена росла» («О Колчаке»), «при них я проживал концы жизни в узелочек завязывал» («Лазоревая степь»), «голосок, как у черта волосок» («О Донпродкоме») и пр.
Также встречаются созданные по типу фольклорных (или калькированных из фольклора) эпитеты, сравнения и метафоры. Писатель использует в своих сказах и диалектизмы, характерные для донского казачества, например: «лазоревая степь», в смысле красная («В донском казачьем диалекте слово «лазоревый» не означает «лазурный». Прежде всего «лазоревый» ассоциируется с «лазоревым цветком», т. е. с тюльпаном. В своих произведениях Шолохов употребляет слово «лазоревый» как синоним слов «красный» и «желтый»4); «коханый» [любимый. — А.П.]; «слез, вижу — жива, двошит [т. е. дышит]»; «лохуны казакам выстирает»; «латку [заплатку] на шаровары кому посодит»; «ростом низенький, тушистый [в теле]» «родные курени»; «грыздь [грыжу] свою обратно впихивает» и пр. Все перечисленные приемы служат Шолохову с одной целью: создать иллюзию устно произносимого монолога человека из народа, диалектизмы же маркируют казачью речь.
С другой стороны, маркерами казачьего сознания выступают типичные для их субкультуры символы коня, дороги, дома-семьи. Дед Захар («Лазоревая степь») повествует о бесчинстве барина по отношению к коню и в параллель ставит безжалостность по отношению к женщине («все груди искусаны, кожа лентами висит»). Лошади же к людям, по деду Захару, куда как добрее: «Лошади, они имеют божью искру, ни одна на Аникушку не ступнула, сигают через» Казаки вечно в пути, их дороги существуют и в физическом плане: казачья масса перемещается с места на место, и в духовном: они всегда ищут правду.
Казаки Шолохова менее колоритны, чем казаки Бабеля, может быть, потому, что Бабель любовался неведомой для него силой, ужасаясь и восхищаясь духом этих людей. М. Шолохов же стремился запечатлеть самое страшное, что могло произойти с казаком: он оказался на распутье, семья и вековечный быт потеряли свою значимость, а поиски новой истины далеки от традиционных для них культурных корней. Шолохов смотрит на казака не со стороны, а изнутри, может быть, поэтому и мир его героев не носит некоего оттенка экзотичности, более того он не находится в столкновении с культурой иной по своим истокам и проявлениям, как у Бабеля. Русский язык с его диалектными вариациями соответствует языковому миру казака, поэтому так легко субкультура «включилась» в диалог с культурой доменом, не противопоставляя, а сопоставляя себя с русской культурой. Сказ с его диалоговыми возможностями, с возможностями запечатлеть речь нелитературную оказался наиболее удобной формой показа соположения близких, но все же не тождественных культур.
Примечания
- 1 Отказ казаков от подписки // Исторические песни XIX века. — Л., 1973.
- 2 Гачев, Г. Национальные образы мира: курс лекций / Г. Гачев. — М.: 3Academia, 1998. — С. 222.
- 3 Смирнов, А. Часовые империи. Сибирское казачье войско на службе отечеству / А. Смирнов // Родина. — 1997. — № 8.
- 4 Ермолаев, Г. С. Михаил Шолохов и его творчество / Г. С. Ермолаев. — СПб — Академ. проект, 2000. — С. 24.