Лекция 9. Творчество М. Горького
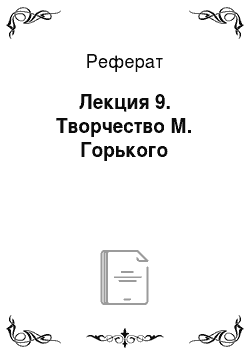
Оригинальность горьковского решения, «беспрецедентная для литературы дерзость» проявились в том, что свидетелем эпохи (за сорок лет!) выступил антигерой, почти всегда противостоящий авторской позиции. Это уже не «мир в личности» романтического по своим истокам искусства. А жесткое реалистическое видение, сохраняющее status quo «личностью в мире». Поданный только через восприятие Самгина «мир» тем… Читать ещё >
Лекция 9. Творчество М. Горького (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В начале 20-х г. г. Горький продолжает работать над автобиографической трилогией: создает «Мои университеты» (1923) и близкую им по содержанию серию «Автобиографические рассказы» (1923): ее составили «Время Короленко», «Сторож», «Рассказ о первой любви», «О вреде философии». Вскоре выходят в свет книги Горького «Заметки из дневника. Воспоминания» (1924) и цикл «Рассказы 1922;1924г.г.» (1925).Наибольший резонанс вызвала последняя, куда вошли «Отшельник», «Карамора», «Голубая жизнь», «Рассказ о необыкновенном» и др. Они отразили интерес писателя не только к реалиям действительности, к взаимодействию социального и природного в человеке, но и к опыту Достоевского, к философским концепциям эпохи, представленным именами Н. Федорова, Н. Бердяева и др.
Современники Горького — А. Луначарский, Д. Горбов — упрекали его в неопределенности авторской позиции (хотя и ценили новую прозу за притчевый, символический характер). Еще более суровой к писателю была налитпостовская критика, считая его поэтом «уродцев», изменившим своему революционному прошлому. Признавая художественное совершенство рассказа «Отшельник», великолепие образной изобразительности, давно невиданной в пореволюционной прозе, критика вменяла автору в вину выбор героя: «…Взят самый гнусный образец человеческой породы» При этом не учитывалась авторская сверхзадача объективно исследовать все «извороты» человеческой души.
Рассказ открывается лирической пейзажной зарисовкой:
" Лесной овраг полого спускался к Оке, по дну его бежали, прячась в травах, ручей; над оврагом — незаметно днем и трепетно по ночам — текла голубая река небес, в ней играли звезды, как золотые ерши" .
В отличие от сильных и мужественных романтических героев раннего Горького внешность Савела Пильщика подчеркнуто безобразен: «Старик среднего роста, плотный, но весь какой-то измятый, искусанный. Лицо его, красное, точно кирпич, безобразно, левая щека разрезана от уха до подбородка глубоким шрамом, он искривил рот, придав ему выражение болезненно-насмешливое, темненькие глаза изувечены трахомой — без ресниц, с красными рубцами на месте век, волосы на голове вылезли клочьями, одна — небольшая — на макушке, другая обнажила левое ухо…» .
По житейским и этическим меркам Савел — страшный грешник: растлил родную дочь, о чем автор не забывает, но в то же время повествователь с сочувствием воспринимает слова героя: «Всякий человек не всю жизнь плох, иной раз и плохой похвалы достоин. Человек — не камень — а и камень от времени меняется. И очень скоро за внешним уродством проглядывает, а затем и заслоняет его добрая, ласковая, обаятельная и человечная душа лесного человека — отшельник: «…Он казался почти красивым, красотою пестро и хитро спутанной жизни. И его внешнее безобразие особенно резко подчеркивало эту красоту» .
Савел прожил большую и интересную жизнь. В ней хватало всего: и работы («семнадцать лет бревна резал»), веселья и беззаботности («а я — веселый был, игристый, турманом жил, — знаешь, голуби есть турмана»), любви («бабы, девки любили меня, ну — как сахар…»), и обиды («…обидели меня, — в кровь обидели!»), и путешествия («был я в Киеве, и в Сибири был… Я — в… Курск… Я — в Царицын, а там на пароход, потом морем ехал в Узун (город в Персии — П.Ч.)… прошел на Новый Афон…»). Вынес Савел из жизни одно убеждение: «Все обман один, законы эти, приказы всякие, бумаги…» И потому из мира цивилизации уходит старик в мир природы, где все просто и естественно. Он оборудовал себе пещеру «хозяйственно и прочно, — на долгую жизнь» и живет себе тихо-мирно («я, дружба, просто тихий человек»), никому не мешая («никому не мешаю и никуда не лезу»), по мере сил своих служа Богу и людям («я полезный и ему (Богу — П.Ч.) и людям»). Старик осознает себя большим утешителем: «Да-а, дружба, не легко людям жить, — о-хо-хо! Не сладко (…) Вот — утешаю я их, н-да». Причем утешает сообразно своему опыту, исходя из того, что наиболее полезно человеку в данную конкретную ситуацию: «я всем правду говорю, кому какую надо (…) А которых — обманываю немножко, ведь живут и такие люди, которым нет уже никакого утешения, кроме обмана… Есть, дружба, такие… Есть…» .
Последнее откровение, не правда ли, очень близко напоминает нам Луку из пьесы «На дне»? Да, можно признать, что они братья по духу и крови по жизненной своей позиции. Но что удивительно, позиция самого автора, яростно и непримиримо относившегося к Луке и людям его типа, в данном случае обнаруживает совершенно иное отношение: он откровенно любуется стариком-отшельником, симпатизирует ему, восхищается умением обходиться с людьми… Отношение автора к герою проглядывает в лирически окрашенных кратких комментариях к повествованию старика: «Смеху его ладно вторил ручей. Тепло вздыхал ветер; по нежным бархатам весенней листвы скользили золотистые зайчики…» Символично не только то, что образ Савела напоминает нечто первобытное, родственное природе, но и то, что смех его, речь сливаются с природой, образуя нечто естественное, единое: «Его мягкий сиповатый голосок звучал певуче, неутомимо и родственно сливался в теплом воздухе вечера с запахом трав, вздохами ветра, шелестом листвы, тихим плеском ручья по камням. Замолчи он — и ночь будет не полна, не так красива и мила душе…» .
Речь старика всегда эмоционально окрашена. Это ощущается и по интонации героя, и по тем многозначительным эпитетам, подбираемым писателем для обозначения манеры общения старика с людьми: «с восхищением говорил», «умиленно сказал», «ласковый голос», «оживленно начал», «радостно продолжая сквозь смех», «певуче протянул», «певуче произнес» … Особенно восхищало автора в герое умение насыщать знакомые и избитые слова богатым смыслом, любовью к людям, неисчерпаемой нежностью. Так, слово «милая» Савелий умел произносить бесчисленно разнообразно: с умилением, с торжеством, с трогательной печалью, укоризненно ласково, сияющим звуком радости… Но всегда, как бы оно ни было сказано, слушатель чувствовал, что «основа его — безграничная, неисчерпаемая любовь». Стремление писателя разобраться в душе героя, какими бы грехами она ни была отягощена, очевидно и в других рассказах цикла. В советской критике наибольшее осуждение вызвал «Карамора», который даже Воронский назвал «неудачной вещью», вызывающей чувство недоумения и досады: «Нельзя так двойственно писать о провокаторах, нельзя, особенно у нас в России» .
В литературоведческом плане в «Рассказах 1922;1924 г. г.» современные исследователи (А. Газизова, Т. Пшеничук и др) отмечают маргинальность нового героя Горького, сложность субъективно-объективной организации текста, структурирующие и смыслообразующие функции мотивов.
«Рассказ о необыкновенном» вошел в цикл «Рассказы 1922;1924 г. г.» как заключительный: на этом автор настаивал при редактировании. Очевидно, произведение подводило определенный итог размышлениям писателя и заняло важное место в его творческой биографии. «Занят весьма сложным рассказом, — сообщал он, — и ничего не могу делать, ни о чем не думаю, кроме Якова…» Яков Зыков родом из рязанской деревни и выросший в Сибири под пером Горького вырастает в фигуру типическую. Критика увидела в Якове традиционные для Горького образ странника, искателя правды жизни, но перенесенную в условия гражданской войны. Здесь также сохранилась установка Горького на якобы документальную достоверность изображаемого. К Зыкову можно отнести сказанное Горьким о герое «Голубой жизни»: «…
Введен в рассказ для придания ему большей реальности". Именно в целях максимальной житейской достоверности автор предоставляет герою право самому поведать о своей жизни: авторское «вмешательство» проявилось лишь в начале, в подробнейшей портретной характеристике. Удивительно живо передано время революции с его парадоксальными контрастами, отраженными уже в первой фразе: «В одном из княжеских дворцов на берегу Невы в пестрой комнатке „мавританского“ стиля, загрязненной, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан». И то, что на княжеском паркете «притоптывает» в такт исповеди тяжелый рыжий сапог с каблуком широким, точно лошадиное копыто, раскрывает фантастическую реальность недавних лет. Словесная живопись горьковского портрета традиционна: запоминаются встрепанные волосы мочального цвета, подрезанные усы, напоминающие вытертую зубную щетку, «духовная косоватость взгляда» и «недоверие существа, многократно обманутого людьми» .
Автор замечает, что большеротое, зубастое — «щучье» — лицо этого человека не интересно, обычно для центральных губерний России. «Но не редко, — пишет автор, — где-то в глубине зрачка таких глаз сверкает холодное острие, как иглою, неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытый силой разума». Поэтому повествователь упросил Якова «рассказать его жизнь». Первое впечатление подтвердилось речью героя, авторское описание которой — интонации, жеста — заняло едва не целую страницу. Яков говорит, «расстегивая и вновь застегивая крючки кафтана., как будто хочет раздеться, встряхнуться, сбросить с себя какую-то внешнюю, накожную тяжесть» , — это великолепная метафора самообнажения внутреннего мира, передающее душевную расположенность повествователя к своему собеседнику.
Затем повествователь как бы сходит со сцены и слово героя звучит как сказ, достаточно отчетливо маркированный стилистически. «Война глотает людей, как печь дрова» , — образно говорит Яков. В то же время рассказ дает обобщающую картину народной жизни и «судьбы человека» первых десятилетий века. «Та серая фигура хромого человека — когда я еще читал! — а все еще ходит за мной» , — признавался М. Пришвин, свидетельствуя о жизненности и впечатляющей силе горьковского образа.
Перипетии сюжета определяются обычными для жанра рассказа-исповеди биографическими подробностями: раннее сиротство, батрачество, скрашенное дочерью хозяина, инвалидность, жизнь у доктора, глупость чиновника, из-за которой Яков оказался в тюрьме… Потом жизнь снова пошла по тому же кругу, оттеняющему духовную возмужалость и своеобразную внутреннюю работу мысли героя. Совет доктора читать книги падают на благодатную почву: «Суть книжки мне всегда легко давалась. Чужие мысли очень просто понять, когда свои в голове есть» , — заключает герой, и в его панегирике чтения явно выражено и авторское отношение к книге — «источнику знаний». Но знания эти не отвлеченные, они подкрепляют революционное нетерпение героя, которое, однако, революционером стал не сразу. Революцию 1905 года он воспринимает как «другую узду на людскую нужду»: «Революция была, а толку не родила; после нее еще хуже стало» , — говорит он. У Зыкова было типично крестьянское отношение к политике («Политические — мелкий народ». «Политические хотят власти, а нам нужна свобода души»). Только свержение царя и последующие события Зыков воспринимает как «великую радость» .
Этическая оценка Зыкова гражданской войны Горьким разделяется полностью, и герой явно выступает носителем авторской точки зрения. Это подтверждается всем складом внутреннего мира героя, его восприятия, а точнее, неприятия войны. Якова мучает, что война отбивает народ от его избяной жизни: «Скучно мне ночами — думаю, когда конец этому крутежу Людей жалко — много людей погибало от глупости своей, ой много». Это рассказчик, а не повествователь, раскрывает на собственном примере пагубность воздействия военного положения на психику людей: «Не в охоту это было мне, однако и я тоже винтовочку взял, иду… Стрелок я был никакой, охотой никогда не занимался, а однако распалило и меня; ружье — инструмент задорный, ты его только наведи, оно само стреляет» .
К этой мысли Зыков возвращается не раз, обнаруживая способность к саморефлексии и психологически тонкое понимание того, как война затягивает людей: «Хотя я человек не боевой, а тоже раззодорился, стрелял и колол с большой охотой» , — с искренней горечью признается он. Сарказмом исполнены его слова о ставшем привычкой военном быте: «Людей бьем — песенки поем». И как непреложная истина звучит его, по-горьковски точный афоризм: «Убивать людей — окаянное занятие». В доказательство того, что «война — занятие глупое и дорогое», «вредное занятие», Яков приводит историю Петьки, «набалованного» на убийства. Это пример того, когда проявляются самые агрессивные инстинкты, ставящие человека на грань психопатии: «У нас был парнишко один, Петька, так он до того избаловался, что, бывало, наберем пленников, он обязательно пристает — давайте, расстреляем! Просит Ивкова: дозвольте пристрелить! Глазенки горят, рожица красная. Миловидный был и с виду тихий. Запретит ему Ивков, а он все-таки застрелит пленника и оправдывается: — Это я — нечаянно!
В своих нелегких раздумьях о необходимости уничтожения зла и жестокости Зыков приходит к тем же выводам, что и доктор в рассуждениях о необходимости революционных перемен. В минуты, когда доктора «покидала осторожность», он мог обмолвиться:
" - Конечно, лучше бы все сразу к черту послать…
Однако сейчас же и прибавит:
— Ну — это невозможно!" .
И объяснял Якову: «Мы-де присуждены жить под властью прошедших времен, корни пустяков вросли глубоко, корчевать их надо осторожно, а то весь плодородный слой земли испортишь. Сегодняшним днем командует вчерашний, а настоящая жизнь обязательно будет командовать будущей…» Теперь Яков фактически повторяет аргумент доктора, говоря: «Тупая жестокость эта в кости человеку вросла, как тут быть?». Повторение аргумента подчеркивает его значимость и, одновременно, определенное изменение в духовном облике самого героя (раньше с доктором он абсолютно не соглашался). И все же вывод Якова категоричен: жестокостью «многие совсем неисцелимо заражены и живут ради того, чтобы других заражать. Нет, здесь ничего не поделаешь, бить друг друга мы будем долго, до полной победы простоты» .
С позиции сегодняшнего дня такой вывод героя весьма уязвим: жестокость порождает новую жестокость, и так — без конца. Очевидно, уязвимость этой стороны рассуждений Зыкова автор понимал, но «новый Горький» не спешит осудить героя, оставляя за ним право на собственное мнение, не нарушая объективности изображения характера, отразившего свою эпоху. Запутанность социальных отношений людей, приводящая к кровавым драмам, вот о чем болит душа и автора, и героя. Но проблема жестокости и насилия революции в рассказе не единственная и, очевидно, не главная, судя по его названию. Горький провидчески выявляет ростки будущих социальных невзгод.
Мотив необыкновенного — таланта, образования, профессионализма (выучки) — как лишнего, ненужного, вредного проходит через всю исповедь Зыкова, который проповедует буквальное равенство всех людей. «Все на свете надобно сравнять, особенно необыкновенное, — убежденно провозглашал Яков Зыков, — уничтожить, никаких отличий ни в чем не допускать, тогда все люди между собой — хотят, не хотят — поравняются, и все станет просто, легко…» Разумеется, Горький с его трепетным отношением к культуре, таланту, образованию с такими мыслями Зыкова согласиться не мог. Но проблема отношения к необыкновенному, как к «пустякам» волновала писателя не только ее социальными и политическими перспективами, а как явление народной философии. Русская литература первой трети века проявляла большой интерес к сектантству; не был исключением и Горький. Теория Зыкова не придумана им самим, она унаследована от старика сектанта, укоряющего сокамерника: «Ты себя от людей отделить хочешь. А беда-то, грех жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Где особенное, там и власть, а где власть — там вражда, непримиримость и всякое безумство». Встреча с сектантом заставила Зыкова по-новому посмотреть и на доктора, перед которым он раньше благоговел. Яков становится проповедником, собирающим вокруг себя много людей и, неверующий, он говорит, как по Евангелию, неся столь близкую крестьянству идею равенства и «упрощения» жизни. Задушевность заключительных слов героя, обращенных к повествователю: «Так-то, браток…» — не может не тронуть сердце. Автор приглашает читателя поразмыслить над крестьянской психологией, над народным восприятием революции и человеческого бытия в целом. Как подлинно классическое произведение, рассказ Горького обнаруживает и другие, подчас парадоксальные смыслы. Думается, в философии Зыкова, в его трактовке «пустяков» есть зерна пророческого предупреждения об избыточности цивилизации и ее саморазвивающейся индустрии, когда ради «пустяков» человечество губит основу своего естественного, соприродного существования.
Над своим «завещанием», как принято называть это самое значительное произведение М. Горького, он работал двенадцать лет — с 1925 г. до последних дней своей жизни и говорил: «Я не могу не писать „Жизнь Клима Самгина“ … Я не имею право умереть, пока не сделаю этого». К сожалению, четвертый том писатель подготовить к печати сам не успел; остался недописанным финал. Грандиозное художественное полотно, оправдавшее свое подзаглавие «Сорок лет» вобрало и синтезировало социальную проблематику всего предшествующего творчества писателя. Как заметил Луначарский, в «Климе Самгине» Горький «приводит в порядок весь свой опыт» («Писатель и политика»). Перечислим лишь некоторые из постоянных горьковских мотивов. Заявленное еще в «Вассе Железновой» и «Деле Артамоновых» сомнение писателя в перспективах русского предпринимательства завершается образом Варавки.
Понимание того, что для русской ментальности характерно трагическое противостояние личности существующему миропорядку (Фома Гордеев, Егор Булычев и др.) воплотилось в образе Лютова. Скептическое отношение к интеллигенции, претендующей быть «солью земли», но не способной что-либо изменить в народной судьбе и равнодушной к ней, идет от Горького-драматурга 900-х г. г. («Дачники», «Варвары», «Дети солнца») и реализовалась в главном герое романа и его ближайшем окружении (описание которого, кстати, вовсе не противоречит критическим суждениям о русской интеллигенции в знаменитых «Вехах»). Крушение народнических иллюзий, показанное в начале романа, восходит к образу Евгении Мансуровой в «Жизни Матвея Кожемякина». Идущая от «Мещан» и «Матери» тема пролетарского движения раскрыта в патетических картинах первой русской революции и образе Степана Кутузова, только последний подан с более объективной и подчас нелицеприятной позиции.
Подступами к итоговому роману справедливо считаются «Рассказы 1922;1924г.г.» с их не только социальной, но и экзистенциальной проблематикой. Но все это осталось бы лишь самоповторением, хотя и с важными дополнительными нюансами, если бы роман не стал большим художественным открытием, синтезирующим опыт и Достоевского, русской и мировой литературы первой трети ХХ века. Это сказалось в расширении тематического диапазона — в изображении крупным планом русского сектантства, в пристальном внимании к проблемам пола (о значимости этих тем для русской литературы начала века уже говорилось выше) — а главное, в новых принципах художественного пересоздания жизни. Адекватному прочтению романа в советском литературоведении мешала трактовка его как эпопеи, что разрушало художественную целостность повести. На деле «движущаяся панорама десятилетий», и события, и персонажи — а их более 800 — поданы Горьким лишь через поток сознания одного героя.
Такой гипертрофированный интерес к личности — характерная черта литературы серебряного века. Уже фамилия «Самгин», заключало в себе «самость», опору на себя, желание быть самим собой. То, что социальные вопросы ничтожны рядом с трагедией индивидуального бытия — кредо Самгина — автором с порога не отвергается. Напротив, экзистенциальные мотивы его раскрытия делают образ Самгина нелицеприятно правдивым, объективно раскрывающим многие стороны человеческого характера. Вопреки утвердившемуся в советском литературоведении мнению Луначарского: Самгин «является во всем антиподом авторской личности». Горький-человек в отличие от Самгина шел навстречу истории, но считал своим писательским долгом типизировать судьбу тех «средних» людей (а их большинство), кто видел в истории насилие над собой и предпринимал попытки, большей частью безуспешные, от нее укрыться.
Оригинальность горьковского решения, «беспрецедентная для литературы дерзость» проявились в том, что свидетелем эпохи (за сорок лет!) выступил антигерой, почти всегда противостоящий авторской позиции. Это уже не «мир в личности» романтического по своим истокам искусства. А жесткое реалистическое видение, сохраняющее status quo «личностью в мире». Поданный только через восприятие Самгина «мир» тем не менее, сохраняет свои очертания, благодаря удачно найденному приему: «…Только Самгин показан „изнутри“, все остальные — „извне“. Внутренние процессы сознания Самгина даны непосредственно, внутренний мир других героев — только в его восприятии и в прямой речи диалога. Как думает — все остальные показаны только как они действуют и как говорят» Сюжетные и фабульные связи романа завязываются и развиваются так, будто художественный мир творится без прямого авторского вмешательства, как бы сам по себе, объективно возникая из существующего хаоса. Эти связи возникают, говоря словами Горького, в «атмосфере мысли». Отсюда определение романа как философской прозы.
" Жизнь Клима Самгина" - это идеологический роман в самом высоком смысле этого слова, раскрывающий насквозь идеологизированную жизнь общества в ХХ веке. В идейных спорах героев прозвучало более 70 имен философов и политиков, более чем на 100 страницах упоминается Лев Толстой, на стольких же Достоевский и Леонид Андреев. Размышляет Самгин и о «Вехах», и о «развенчанном» Горьком. Активизация общественной жизни требует от человека социально-политического самоопределения, и если в глубине души этого нет, то человек вынужден актерствовать, играть — таков объективный вывод писателя.
Но все это становится фактом искусства благодаря художественности воплощения творческого замысла. Идиостиль автора «Самгина» формируют, как показано в современном горьковедении, специфические особенности его поэтики. Своеобразна соотнесенность позиции героя и автора; ведущими представляются сквозные образы-лейтмотивы: развитие сюжета во многом определяют они, словесные образы, а не привычные для читателя логика характеров и событий. Необходимо также отметить двойничество героя, доведенное в картине сна до гротескного множества самгиных. Как принцип отражения и осмысления мира главным героем выступает зеркальность; сквозь социально-актуальный слой романа проступает мифопоэтический с его оппозицией Земля/Город, с новым пониманием сакрального и профанного пространства, центра и периферии. Горький был прав в своем утверждении, что сокровенный смысл романа могут постичь только потомки.