Проблематика и композиционные особенности «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина
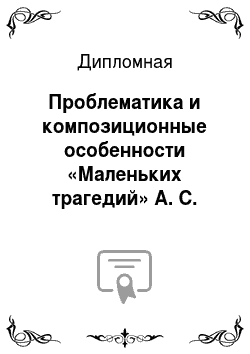
Пушкинским героям в высшей степени свойственна такая черта, как перенос вины на неумолимость времени вынуждающего его к передачи наследия. Альбер переносит вину на отца, а сам, появляясь на сцене, открывает трагический цикл словами, которые, есть ни что иное как формула одержания страстью: «Во что бы то не стало». Герцог, чья власть оказалась бессильна разрешить доверенный ей конфликт… Читать ещё >
Проблематика и композиционные особенности «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Интерес А. С. Пушкина е драматургии прослеживается на всех этапах его творческой деятельности, но ни в каких иных литературных жанрах не наблюдается столь резкой диспропорции между внушительным количеством замыслов и малым числом их реализации.
Сформулировав рецепт субъективистского противостояния «низким истинам», Пушкин внезапно понял таящуюся в таком подходе опасность волюнтаризма, опасность навязывания миру своих возвышенных схем. И появились «Маленькие трагедии». Кстати, маленькие вовсе не потому, что объемом эти произведения невелики. Маленькие они по причине того, что очень уж обыкновенные, проецируемые на каждого из нас — каждого, кто пытается навязать миру свою потребность в любви, разделении, справедливости. А навязывая, идет до конца и, идя до конца, становится монстром. Вообще-то поэт последовательно рассматривает в своих пьесах основные соблазны индивидуалистического сознания.
«Драматическое наследие Пушкина, — справедливо полагает Д. П. Якубович — трудно рассматривать вне остального его творчества. Пушкин не был драматургом и даже не был драматургом по преимуществу». Однако, как это было ясно уже современникам поэта, обращение Пушкина к драматургии обусловливалась существенными принципами его творческой манеры.
Великая заслуга в деле раскрытия для русского общества значения драматического наследия Пушкина принадлежит В. Г. Белинскому. Классические статьи его о Пушкине, сохраняя свое огромное значение и для нашего времени, несут, однако, на себе некоторые особенности, обусловленные временем и характером общественнополитической борьбы его эпохи.
«Талант Пушкина — считал Белинский, не был ограничен тесной сферой одно какого-нибудь рода поэзии: превосходный лирик, он уже готов был сделаться превосходным драматургом как внезапная смерть остановила его развитие».
«Пушкин рожден для драматического рода, — писал в 1928 г. И. Киреевский — он слишком многосторонен, слишком объективен, чтобы быть лириком; в каждой из его поэм заметно невольное стремление дать особенную жизнь отдельным частям, стремление, часто клонящееся ко вреду целого в творениях эпических, но необходимое, драгоценное для драматика».
У Пушкина его герои одновременно ужасающи и грандиозны. Они прекрасны потому, что ими владеет беспримесная, чистая страсть, не доступная никому. Страсть, с которой мы сталкиваемся, в истоке своем благородна и несчастна: в чем-то — в золоте, в славе, в наслаждении — герой видит непреходящую ценность и служит ей со всей истовостью души. Они идеализируют свой мир и себя. Они проникнуты верой в свое героическое предназначение, утверждая свое право на удовлетворение желаний, логически убедительно и даже поэтически убеждают в обоснованности своих позиций. Но их правота односторонняя: они не утруждают себя попыткой осознать жизненную позицию другого человека. Вера героев в свое избранничество, в абсолютную оправданность собственного взгляда на мир как единственно правильного вступает в непримиримый конфликт с реальным миром. Мир представляет собой сложную систему общественных отношений, которая неизбежно подавляет малейшую попытку посягнуть на ее устои. Индивидуалистическое самосознание героев и враждебный миропорядок являются основой конфликта маленьких трагедий.
Исследуя типичные европейские коллизии, Пушкин мыслит их автобиографически. Подоплека конфликта Барона с его сыном и наследником — отношения Пушкина с собственным отцом. Опыт собственного сердца Пушкин передал и Гуану, и Командору. Моцартианский тип и творчески, и личностно близок Пушкину, но и Сальери не во всех своих проявлениях чужд ему. В споре Священника с Вальсингамом слышен отголосок поэтического диалога Пушкина с митрополитом Филаретом. «Маленькие трагедии» наполнены огромным количеством и более мелких автобиографических штрихов. Пушкин признает свою личную причастность тому европейскому наследию, которое к началу ХIХ в. стало и русским. Личную причастность — а стало быть, и личную ответственность. Это и есть разрешающее конфликт признание собственной трагической вины и одновременно — осмысление ее как вины родовой. Оно происходит на уровне исторического осознания, реализуется в поэтике драм и становится личностным опытом преодоления индивидуализма, перехода от «я» к «мы» .
Статьи Чернышевского Н. Г., появившиеся в разгар острейшей борьбы представителей революционной демократии с либерально — дворянской критикой, стремившейся видеть в Пушкине наиболее полное выражение художественного идеала «чистого искусства», развивали основные положения статей Белинского и содержали ряд новых ценных суждений о драматических произведениях Пушкина.
Свою преемственность от Белинского Чернышевский подчеркивает со всей определенностью: «Критика, о которой мы говорим, так полно и верно определила характер и значение деятельности Пушкина, что по общему согласию, ее суждения до сих пор остаются справедливыми и совершенно удовлетворительными».
К настоящему времени «Маленькие трагедии» изучены более или менее подробно. Театральная природа и сценический фон их обследованы в работах С. М. Бонди, М. Загорского, С. К. Дурылина и других. Ряд специальных исследований посвящен проблемам музыкальной культуры, связанным с изучением творческой истории «Моцарта и Сальери». Высказывания о «Маленьких трагедиях» как и о «Борисе Годунове», наличествует почти во всех работах общего характера в творчестве Пушкина.
Цель дипломной работы — исследование «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина с точки зрения их проблематики и композиционных особенностей.
В связи с этим, работа имеет следующую структурувведение, две главы и заключение.
Глава 1. Композиционные особенности «Маленьких трагедий»
трагедия пушкин катарсис В центре внимания Пушкина — драматурга стояла проблема жизненной правды. «Основная тема всех маленьких трагедий — анализ человеческих страстей, аффектов» — писал С. Бонди.
«Маленькие трагедии» — условное название цикла, который составляют четыре драматических произведения: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы». «Маленькими трагедиями» Пушкин назвал их в письме к П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 г.- но он искал и другие варианты общего заглавия: «Драматические сцены», «Драматические очерки», «Драматические изучения», «Опыт драматических изучений». Замыслы трех первых произведений относятся к 1826 г., однако никаких свидетельств работы над ними до Болдинской осени 1830 г., когда и был создан цикл, не существует: сохранились лишь беловые автографы всех драм, кроме «Моцарта и Сальери».
Реализацию замысла «Маленьких трагедий» именно в 1830 г. Принято связывать с тем фактом, что в Болдино Пушкин познакомился со сборником «Поэтические произведения Мильмана, Боульса, Вильсона и Барри Корнуолла». Напечатанная там драматическая поэма Дж. Вильсона «Город чумы» послужила толчком к созданию «Пира во время чумы», а «Драматические сцены» Барри Корнуолла явились прообразом поэтической формы «Маленьких трагедий» — писал Н. В. Беляк.
Если расположить входящие в его состав драмы в порядке соответствующем хронологической последовательности описанных в ней эпох, то откроется следующая картина: «Скупой рыцарь» посвящен кризису средневековья, «Каменный гость» — кризису Возрождения, «Моцарт и Сальери" — кризису Просветительства, „Пир…“ — фрагмент драматической поэмы Вильсона, принадлежащего романтической озерной школе — кризису романтической эпохи, современной самому Пушкину» — так же писал Н. В. Беляк.
Создавая свой цикл, Пушкин мыслил не конкретными датами — но культурными эпохами европейской истории. Таким образом «маленькие трагедии» предстают как большое историческое полотно.
«Неразрешенный конфликт наследуется каждой следующей эпохой — и потому антагонист и протагонист каждой следующей драмы наследуют черты тех, чья коллизия не была преодолена в предыдущей». Барон и Альбер, Командор и Гуан, Сальери и Моцарт, Священник и Вальсингам — все они связаны историческим родством. Это противостояние стяжательства и расточительства, предметом которых могут стать и материальные блага, и духовные ценности, и небесный дар, и сама культурная традиция. Вплоть до последней драмы антагонист и протагонист не вступают в подлинное взаимодействие, они почти глухи друг к другу, ибо каждый из них строит свой индивидуалистический космос, основанный на той или иной сакральной идее. И законы этого космоса герой стремится распространить на весь мир — неизбежно сталкиваясь при этом со столь же экспансивной волей своего антагониста.
«Обилие источников, привлеченных Пушкиным к созданию „маленьких трагедий“, не покажется удивительным, если учесть, что они представляют собой эпическое полотно, посвященное великой европейской культуре».
" Скупой рыцарь" опирается на богатейшую литературную традицию изображения скупости, восходящую к Плавту и получившую свое классическое выражение в «Скупом» Мольера. Таит в своем сердце «обиду» барон Филипп. О его детстве и юности в трагедии ничего не говорится. Но поскольку барон, отчетливо помнил все, что связано с молодым герцогом, его отцом и дедом, ни разу не обмолвился ни о своем деде, ни об отце, можно предположить, что он, лишившись родителей, воспитывался при Дворе из милости. По словам молодого герцога, Филипп «был друг» его «деду». Филипп не без гордости вспоминает, что отец нынешнего герцога «говаривал» с ним всегда «на ты».
Непосредственными источниками «Каменного гостя» послужила комедия Мольера «Дон Жуан» и опера Моцарта «Дон Жуан».
Сюжет «Моцарта и Сальери» был почерпнут Пушкиным не столько из печатных источников, сколько из устного общения: слухи о том, что Сальери признался в отравлении Моцарта, возникшие после попытки самоубийства, предпринятой Сальери в 1823 г., с новой силой вспыхнули сразу после его смерти Пушкину их могли передать такие его собеседники, как А. Д. Улыбышев, М. Ю. Виельгорский, Н. Б. Голицын и др.
В основу поэтики цикла положен строго выдержанный исторический принцип художественный универсум каждой трагедии строится по законам той картины мира, которую сложила и запечатлела каждая из изображенных в цикле эпох.
«„Маленькие трагедии“ — пьесы, рассчитанные, прежде всего на одного трагического актера, но актера очень крупного дарования и широкого диапазона, могущего держать зрителя в напряжении и в продолжение длинного монолога, и в стремительно развивающейся сцене, т. е. рассчитанные на трагиков типа блиставшего тогда Каратыгина или Мочалова».
«Первая сцена „Скупого рыцаря“ происходит в башне, вторая — в подвале, третья — во дворце. Это отчетливо заданные верх, низ и середина, формирующие устройство средневекового театрального действия в соответствии со средневековой картиной мира». В классическом средневековье пространственные координаты — они же и ценностные: верх — небо, низ — ад, середина — земля. Но Пушкин изображает момент, когда рушится отработанная система ценностей и человек ставит на место религиозного идеала рыцарского служения — самого себя. Переворот, совершившийся в культурном космосе, выражен в поэтике пространства трагедии. Небеса Барона, место его блаженства — под землей, башня же — ад Альбера, где он терпит танталовы муки, задыхаясь от нищеты в замке, наполненном золотом.
Как и в средневековой драматургии, главным формообразующим началом «Скупого рыцаря» является не фабула, не сюжет, а композиция. Драма построена как строго симметричный триптих: сцена — монолог — сцена. Три действующих лица — одно — снова три. События второй картины (в подвале) не продолжают событий первой (в башне) — они соотнесены именно композиционно, они взаимокомментируют друг друга по принципу симультанности, свойственной средневековым живописи и театру.
В «Каменном госте» двадцать один раз произносится слово «здесь», чем всякий раз акцентиpуется пространственное противопоставление. Оппозиция «здесь — там» становится основной формообразующей тягой трагедии. И перемена мест действия служит выражению предельной экстенсивности жизни героя, кoтoрый яростно рвется к будущему, стремясь подчинить себе время, пространство, обстоятельства. Это экспансия возрожденческой воли, это ренессансный антропоцентризм: человек поставил себя в центр мира и действует в нем как хочет. Но оппозиция «здесь — там», изначально заданная как горизонталь, подтверждающая свободу действий и передвижений героя, не верующего в другие измерения, в последней сцене трагедии разворачивается в роковую для него вертикаль: это вступает в силу попранный им закон католической Испании, закон непреложного наказания за грехи.
Время действия «Моцарта и Сальери» — конец XVIII в., когда просветительство, терпя крах, отступая перед сентиментализмом, романтизмом, все еще сосуществовало с ними. Способ этого сосуществования и воплощен в поэтике трагедии. Мало того, что рационалисту Сальери противопоставлен романтический характер Моцарта — в строгом соответствии с этой раздвоенностью культуры две сцены трагедии оформлены двумя противоположными способами.
Слово как полноценный представитель, как полноценный эквивалент реальности — это закон классицизма, закон просветительского рационализма, и это закон Сальери. Моцарт существует по законам романтической речи, трагически двусмысленной, заведомо и нарочито недоговаривающей, не посягающей на то, чтобы заместить собою всю многосмысленность бытия. В первой сцене монологи Сальери поглощают две трети ее стихотворного текста, они обрамляют и закольцовывают ее, ставят целиком под знак Сальери, в духовное пространство которого «незаконной кометой» врывается Моцарт. Эта сцена контрастно противоположна второй — раскрытой, незавершенной, оборванной на вопросе. Поэтика второй сцены организована по законам Моцарта, в ней никто не высказывается до конца, хотя именно в ней свершается таинство жизни и смерти.
Эквивалентом сальериевских монологов здесь служит музыкальная стихия, которая, по иерархии ценностей, выдвинутой романтизмом, есть верховное выражение сущности бытия. Это — «Реквием» Моцарта, для исполнения которого на сцене стихотворный текст расступается, высвобождая драматическое время. И хотя Моцарт садится за фортепиано и в первой сцене — там, как бы подвергаясь действию законов ее поэтики, он сначала пересказывает, перелагает в слово свою музыку.
Поэтика «Пира во время чумы» уже целиком организована по законам романтической эпохи. Прежде всего это поэтика фрагмента; с ней, по всей видимости, связана и причина, по которой текст трагедии соткан из чужого текста. Фрагмент ценился романтиками за то, что, лишенный границ и рамок, он оставался как бы не изъятым из мира, или же наоборот — «вмонтированным» прямо в мир. В работе Н.В. беляка пишется — в любом случае, в отличие от завершенного самодостаточного текста, фрагмент был связан с миром как бы единой системой кровообращения.
Глубокую созвучность «Маленьких трагедий» всей атмосфере тридцатых годов XIX века очень точно почувствовал еще Герцен А. И.
«Эта Россияписал он, — начинается с императора и идет от жандарма до жандарма, от чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом отдаленном закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы приобретает, как в дантовских ям ада повсюду силы зла, новую ступень разврата и жестокости… Страшные последствия человеческой речи в России, по необходимости придают ей особенную силу… Когда Пушкин начинает одно из своих лучших творений этими странными словами.»
Все говорят нет правды на земле, Но правды нет и выше!
Для меня так это ясно, как простая гамма…
Сжимается сердце и угадывается сквозь это видимое спокойствие разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию. Внутренний драматизм пронизывает всю атмосферу «Маленьких трагедий». Каждый образ, каждая деталь, каждая реплика ясны и определенны, и все они резко контрастны между собой.
Резко контрастны друг другу и развернутые эпизоды, параллельно развивающиеся сцены. Сравним диалог Ростовщика и Альбера, где Соломон хитро, но настойчиво подводит разговор к главной теме и диалог Скупого и Герцога, где Барон столь же хитро и столь же настойчиво стремится уйти от главной темы.
«Можно было бы сопоставить — замечает С. М. Бондю, — совершенно различные по характеру две сцены „Моцарта и Сальери“, в которых действующие лица меняются местами: в первой сцене царит мрачный Сальери, а Моцарт является в духе его характеристики, данный Сальери, веселым, легкомысленным „праздным гулякой“, между тем во второй сцене Моцарт колоссально вырастает: мы видим гениального художника, автора Реквиема, человека с поразительной чуткостью души, высказывающего серьезные и глубокие мысли об искусстве. Здесь же, наоборот, он грустит, а Сальери старается всячески развеять эту грусть».
И в этой атмосфере, как бы лишенной полутонов, перед нами каждый раз возникает такой клубок противоречий, такой накал страстей, который должен неминуемо и немедленно разрешиться катастрофой, взрывом!
Однако внутренний драматизм не исчерпывается напряженностью ситуации, в которой оказались действующие лица произведения. Сущность этого драматизма заключается в том, что герои «Маленьких трагедий» все время стоят перед необходимостью выбора между двумя возможными нравственными решениями. И принимаемое решение тем более значимо и грозно по своим последствиям, чем большее противодействие вызывает поступок героя и его антагонисты.
Пушкин в своих драматических этюдах прежде всего исследует состояние человека в момент выбора им пути. Но для Пушкина как для драматического автора характерен синтез психологической и действенной характеристики персонажей. Ситуации, в которые поставлены его герои, уже в момент поднятия занавеса накалены до предела. По сути дела, все герои «Маленьких трагедий» стоят на грани жизни и смерти. Они еще могут задуматься, прежде чем принять решение, но приняв его, они тем самым отрезают себе все возможности отступления. Остановиться, свернуть с раз избранного пути им уже не дано — они вынуждены идти по нему до конца.
Конечно, отношения между героями, обусловленные их характерами и теми обстоятельствами, в которые герои поставлены, являются движущей силой конфликта пьесы — таков один из основных, самых общих законов драмы. Однако, чтобы эти отношения переросли в прямое действие, необходим достаточно сильный импульс, внешний или внутренний толчок. Этот толчок определяется не только уже сложившимися между действующими лицами отношениями, сколько взаимосвязью между характерами героев и обстоятельствами, в которых они действуют. Характеры героев, побуждая их к новым поступкам которые в свою очередь, ведут к возникновению новых, каждый раз все более напряженных ситуаций.
Если вчитаться в текст «Скупого рыцаря», не трудно заметить, что начало его, хоть и свидетельствует о до предела обострившихся отношениях между Альбером и старым Бароном, еще не предвещает трагической развязки. Приблизительно треть первой сцены — разговор Альбера с Иваном до прихода ростовщика — представляет собой экспозицию, рисующую картину унизительной бедности, в которой живет молодой рыцарь. И лишь с приходом Соломона начинается хитрый диалог, в котором каждый из собеседников преследует свои цели: Альбер — немедленно достать деньги для будущего турнира, ростовщикускорить смерть старого Барона и тем самым с лихвой вернуть все данное ранее молодому наследнику сокровищ, хранящихся в подвалах замка.
Предложение Соломона обратиться к аптекарю и является толчком, т. е. совершить действие, которое приведет к гибели Барона. Таким образом, лишь саамы конец сцены первой является драматической завязкой трагедии. Точно так же и первый монолог Сальери не дает нам никаких оснований подозревать его в намерении отравить Моцарта. Это решение вызревает в нем лишь к самому концу сцены первой, после того как он услышал игру слепого музыканта и новое творение Моцарта.
Моцарт и Сальери находятся как бы в разных измерениях. Прямого столкновения между ними не происходит и не может произойти. Пушкин сознательно подчеркивает это своеобразием драматургического конфликта (один нападает, но другой и не подозревает о нападении).На длинные и холоднорассудочные монологи Сальери Моцарт отвечает музыкой.
В «Каменном госте» перед нами опять «гуляка праздный» и вдохновленный поэт. Но это уже не гениальный Моцарт, что знает радость упорного и глубокого труда, а лишь «импровизатор любовной песни» — Дон Гуан, тот Дон Гуан, которого чуть ли не вся Испания знает как «бессовестного развратника и безбожника». Новый поворот, новое смещение драматургического конфликта, исследующего трагическую судьбу героя, вступившего в противоборство с «ужасным веком». И мы можем проследить закономерности изменения самой основы, драматургической сути этого конфликта.
В «Скупом рыцаре», как уже установили, между Бароном и Альбером нет идейного спора их поединок над сундуками с золотом так обычен в мире чистогана, в мире денег, где
…юноша в них видит слуг проворных И не жалея шлет туда, сюда.
Старик же видит в них друзей надежных И бережет их как зеницу ока.
А идейный спор Сальери с Моцартом мучителен и упорен, но он ведется в душе одного Сальери. Моцарт и не подозревает об этой борьбе, он просто своим поведением, своим творчеством опровергает все хитроумные доводы Сальери. Дон Гуан же бросает прямой вызов миру ханжества и лицемерия.
В последней из «Маленьких трагедий» возникает принципиально иная ситуация. Там герои вовлекались в катастрофу в результате пира, в этом была их трагическая ошибка и трагическая вина. Здесь же пир является прямым драматургическим следствием катастрофы. В сущности он ничего в судьбе героев не меняет и изменить не в силах. Тема пира как торжества, как высшего напряжения нравственных сил героя проходит через все «Маленькие трагедии», но пир в них каждый раз оборачивается для героя гибелью, этот пир, оказывался непосредственной драматургической причиной катастрофы.
Хочу себе сегодня пир устроить:
Зажгу свечу пред каждым сундуком И все их отопру, и стану сам
Средь них глядеть на блещущие груды, ;
говорил скупой рыцарь. Но ведь именно созерцание «блещущих груд» порождает в нем чувство страха и неуверенности, болезнь будущего и боязнь наследникаграбителя несметных сокровищ. Моральное поражение Барон терпит именно в этой сцене, прямое столкновение с Альбером лишь добивает его.
Высший пир искусства утверждает Сальери в необходимости отравить Моцарта, но несет и ему самому моральную гибель.
Все герои обречены на гибель. Они это знают. Осознание неизбежного рождает в людях ординарных фаталистическое примирение с судьбой, с неотвратимостью рока. Этот фатализм может быть очень разнымтут и бездумная беспечность молодого человека, предлагающего выпить в честь уже погибшего Джексона «с веселым звоном рюмок, с восклицанием», и самоотверженное великодушие нежной Мери, и черствый эгоизм Луизы, пытающейся самоутвердится в человеконенавистничестве, но «нежного слабей жестокий, и страх живет в душе, страстьми томимой» — пишет Д. Устюжанин.
Тема нравственного боя проходит через все «Маленькие трагедии».
Полный боевого задора, юноша находящийся в расцвете сил, принимает вызов старика, готового обнажить меч дрожащей рукой. …Беспечный Моцарт, даже не подозревающий о коварстве Сальери… Статуя Командора и бесстрашно глядящий в лицо судьбы, но сразу же осознавший всю бессмысленность сопротивления Дон Гуан…
Но вот в «Пире во время чумы» человек и Смерть столкнулись на равных. Сила духа героя реально противостоит Чуме, которая, кстати сказать, теряет в гимне Председателя черты рока — убийцы и приобретает иныевоительницы, по своему даже привлекательной.
Первые реплики Священника: «Безбожный пир, безбожные безумцы!" — заставляют нас вспомнить и Монаха из «Каменного гостя», и Сальери и старого Барона.
Тема «безумца — расточителя» так же проходит через все «Маленькие трагедии». Так называли и Альбера и Моцарта и Дон Гуана. Однако к Вальсингам эти слова подходят, пожалуй, меньше, чем к кому бы то ни было. Да и слова о разврате, которые с таким упорством повторяет Священник, находят не такое уж прочное основание в тексте трагедии".
В самом деле, в чем видит разврат Священник? В «ненавистных восторгах», «бешеных песнях», раздающихся средь «мертвой тишины», «мольбы святой и тяжких вздыханий».
Священник, как и Вальсингам, стремится «ободрить угасший взор», но лишь для того только, чтобы подготовить обреченного к смерти. И голос Священника, весь строй его речи — это голос самой смерти, как бы звучащий из-за гробовой доски. Священник беспрестранно напоминает об умершихот имени погибших.
Знаменательно обращение Священника к имени погибшей Матильды в качестве последнего, решающего аргумента в споре с Вальсингамом? Образ Матильды — воплощение чистой и самоотверженной любви — прямо смыкается с образом Дженни из песни Мери. Однако между Вальсингамом и Эдмондом нет и не может быть столь же тесной внутренней связи. Вальсингам не идет по пути Эдмонда, он не бежит, с тем чтобы эпически посетить — крах возлюбленной после того, как минует опасность.
«Пир продолжается. Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость» — гласит заключительная ремарка «Маленьких трагедий».
Глава 2. Проблематика «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина
Психологизм «Маленьких трагедий» никогда не оспаривался пушкинистами. Так С. Бонди писал о них: «Основная тема всех маленьких трагедий — анализ человеческой души, человеческих страстей, аффектов». И в дальнейших его рассуждениях глубина психологии пушкинских шедевров сводилась им к изображению «скупости» как «страсти, к собиранию накомплению денег в „Скупом рыцаре“, а зависти» в «Моцарте и сальери» «как страсти, способной довести охваченного ею человека до страшного преступления». В таком толковании Пушкин выглядит регистратором внешних симптомов явления. Современные же исследователи чаще всего рассматривают «Маленькие трагедии», то как «историю нового времени, взятую в ее кризисных точках, все трагической ипостаси, как грандиозный переход от счастья к несчастью».
Пушкина волнует «судьба культуры», но, прежде всего его волнует «судьба личности» и то, почему судьба богато одаренной личности становится в этом мире трагической. Пушкину важны были не сами аффекты — скупость, зависть, сладострастие. Он понял, что аффекты — это «ключ», которым открывается тайна души человеческой. «Тайна же, по Пушкину, заключается в том, что человек и не подозревает, какой вулкан страстей дремлет до поры до времени на дне его души». «Обида» порождает гордыню, которой они, как щитом, надеются защититься от обидевшего их окружающего мира. Гордыня выталкивает человека в одиночество, в изоляцию (монастырь, подвал, трактир, кладбище и т. д.). Там и зреют грандиозные проекты мести «страшному миру». Там рождается жажда «власти великой», к которой ведут разные пути — деньги (власть над миром), слава (власть над душами), страсть (власть над телами)" - пишет Звонникова Л. А. в своей статье.
Пушкинским героям в высшей степени свойственна такая черта, как перенос вины на неумолимость времени вынуждающего его к передачи наследия. Альбер переносит вину на отца, а сам, появляясь на сцене, открывает трагический цикл словами, которые, есть ни что иное как формула одержания страстью: «Во что бы то не стало». Герцог, чья власть оказалась бессильна разрешить доверенный ей конфликт, виновниками полагает лишь обоих конфликтующих. Сальери переносит вину на небеса, на Моцарта, в конце концов — на толпу. Вальсингам переносит вину на несостоятельность всех прежних ценностей перед лицом чумы. Вплоть до самого финала цикла герои думают, что конфликт — между ними и миром, между тем как основной трагический конфликт — в них самих, в принципиальном внутреннем противоречии их страсти, их сознания, их личности, их индивидуально выстроенного космоса. Трагический агон — это движение к цели во что бы то ни стало, это завоевание счастья любой ценой, это манифестация оргиастического начала. Поэтому античный герой в результате обязательно узнает себя как «козла» — нарушившего закон, перешедшего меру. Пушкинский герой изначально манифестирует себя именно как «козла» и упорствует в своем праве и состоятельности на этом пути, полагая это законом, в принципе отрицая закон общей меры, закон объективного. А объективный порядок культурного космоса, даже уничтожая героя, не кладет границ его страсти. Атом трагического парадокса остается в мире и как щепотка бродильных дрожжей перестраивает его структуру" - отмечает Фомичев С.А.
Для каждого из трагических героев цикла был объектом переноса вины, собственная личность — объектом служения. Священник оказывается единственным, кто выправляет это колоссальное искажение, порожденное секуляризованной культурой: служение он несет миру, вину принимает на себя — таков итог его встречи с тем, кто в своем отпадении оказался наследником грандиозных подмен, которые церковь не сумела исправить. И только благодаря Священнику у Вальсингама остается шанс: он встретился с той нормой, с той правдой большого мира, неподменной культуры, которая является единственным залогом разрешения трагического конфликта.
Опознавая в себе зерна трагических конфликтов, Пушкин преодолевает извечный механизм порождения трагедии: механизм переноса вины. Трудно переоценить значение этого акта в мире, где конфликты уже унаследованы, где виноваты все, а следовательно, как бы и никто, где каждому так легко отказаться от вины, перенести ее на мир, на историю, на других, а значит, отказаться от последнего шанса на очищение, на выход из трагического пространства.
Итак, понять законы трагического сюжетообразования, не стать трагической жертвой, не идти дальше путем героя, порождающего трагедию, переместиться, выйти к другому образу жизни и образу действий — такова была задача, которую решал Пушкин в Болдине осенью 1830 г., накануне женитьбы. Автобиографически, кровно, личностно причащаясь к тому, что сделано предметом драмы, усматривая в судьбах своих героев искажение своей собственной природы, поэт проходил через очистительное действие трагического жанра: через признание трагической вины. На индивидуализме как качестве собственной души и как явлении культуры было не только поставлено клеймо, по отношению к нему было проделано нечто неизмеримо большее. Четыре культурных космоса тетралогии, казалось бы, изолированы один от другого; строящие их и действующие в них трагические герои, казалось бы, независимы друг от друга. Но цикл как целое обнаруживает, что эти индивидуалисты, родства не помнящие, подвержены непреложным законам наследования и преемственности. У всех у них общий культурный предокБарон, первый, чье отпадание от рода определило ход новоевропейской истории. И он же признан Пушкиным в качестве собственного культурного предка. А это означало, что история, расколотая индивидуалистическим сознанием, восстанавливалась, как история родовая и трагическая вина была понята и пережита как родовая вина. Это и был переход от «я» к «мы», открывающий возможности совершенно нового способа существования в мире. С ним-то и связан звучащий в болдинских письмах лейтмотивов отказа от счастья. Он вызван чувством, гораздо более глубоким, чем суеверие. Это отказ от трагического фона, это смирение гордого человека, это подлинная готовность его на пороге новой жизни признать иные пути и иные законы.
«Скупой рыцарь». Появление на сцене главного героя предшествует наше заочное с ним знакомство по разговорам Альбера со слугой и с ростовщиком Соломоном, из которых складывается, без особого сопротивления с нашей стороны, впечатление о Бароне как скупом до бессмысленности человеке. Правда слуга не произносит ни слова о старом хозяине, а Соломон с ним, повидимому не знаком, так что на самом деле «славу» Барону создает сын, а мы не безучастны, поскольку сочувствуем трудному положению сына. Предубежденные к Барону, мы с удивлением видим его во второй сцене наедине с самим собой совсем иным по темпераменту и мощи человеком и вынуждены внести существенные коррективы к тому, на что настроились со слов «одной стороны».
О том, что барон, его отец, богат, что отцовское «золото спокойно в сундуках/Лежит себе», пушкинский Альбер хорошо осведомлен. «Когда-нибудь, — загадывает он о своем грядущем наследстве, — Оно послужит мне, лежать забудет». Но подобные мечты не в состоянии подсластить ему горчайшую реальностью. А она как раз в том и состоит, что всякий раз он вынужден ломать голову в поисках средств для приобретения самого необходимого.
Ну вот, к примеру, — совсем недавно:
В последний раз Все рыцари сидели тут в атласе Да бархате; я в латах был один За герцогским столом. Отговорился Я тем, что на турнир попал случайно.
И тут же, словно нарочно, его постигает новая беда, несравнимая даже и с тем унижением: из только что состоявшегося поединка он вышел хоть и триумфальным, по мнению зрителей, победителем, но с пробитым шлемом и хромающим конем. А это для него равно чувствительному поражению, ибо победу свою он ни в грош не ставит рядом с испорченным и пришедшим в негодность рыцарским снаряжением. А точнее, изъясняет свой мощный удар, выбивший соперника из седла и заставивший его на двадцать шагов отлететь от коня, побуждениями, далекими и от представлений о рыцарстве: «Взбесился я за поврежденный шлем…», и от представлений о рыцарской чести: «Геройству что виною было? — скупость…»
То есть не пробей ему противник шлем, не было бы у Альбера повода для бешенства. И значит, не проявил бы он такое геройство, какое, если понимать Альбера буквально, должно быть свойственно тому (и немало интерпретаторов за это ухватилось), кого Пушкин охарактеризовал самим заглавием своей пьесы — «Скупой Рыцарь».
Что подобное заглавие — оксюморон, писали многие. И конечно, справедливо: рыцарство несовместимо со скупостью. Но о чем ведет речь Альбер? Что явилось причиной е г о геройства? Скупость? Он произносит это слово, но немедленно уточняет: «Да! заразиться здесь не трудно ею/Под кровлею одной с моим отцом». А такое уточнение, как показывает текст пушкинской трагедии, — очевидное доказательство самооговора: ни Альбер, ни его слуга Иван бацилл скупости в доме барона не подхватили. И дело не в том, что Альбер не священнодействует над сундуками с золотом, как его отец, и не занимается ростовщичеством, как Соломон, дело в том, что сама человеческая природа Альбера такова, что он и не сможет этим заниматься.
Потому и вскинется он в ответ на резонное утверждение ростовщика о том, что никому не может быть ведомо, когда он вступит в обладание отцовским наследством: «Барон здоров. Бог даст — лет десять, двадцать/И двадцать пять и тридцать проживет он», потому и выкажет при этом ничем и никем не испорченное простодушие:
…да через тридцать лет Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги На что мне пригодятся?
И никакие резоны ростовщика, что деньги неплохо иметь именно в пожилом возрасте, когда человек уже смирил страсти, всему знает цену и потому не станет попусту расточительствовать, Альберу не покажутся убедительными: перед его глазами пример отца, который служит своему золоту, по словам Альбера, не просто как раб, но как самое бесправное, самое угодливое существо, какие водились только в древнем пиратском Алжире, — «как алжирской раб», и который охраняет свое золото, опять-таки по словам Альбера, «как пес цепной»:
В нетопленой конуре Живет, пьет воду, ест сухие корки, Всю ночь не спит, все бегает да лает…
Нет, «скупым рыцарем» Альбера назвать было бы несправедливо: скупость — из презираемых им человеческих черт. Не скупость удесятерила его силы на рыцарском поединке, а сознание того, что заменить поврежденное противником снаряжение ему нечем и не на что.
Он и сам с нескрываемой горечью так и оценивает свое теперешнее положение:
О, бедность, бедность!
Как унижает сердце нам она! ;
и у нас нет оснований не доверять этой оценке, не верить этой его характеристике. Ибо разве не униженное бедностью сердце заставляет Альбера в ответ на восхищение слуги его мощнейшим ударом, выбившим из седла соперника: «Он сутки замертво лежал — и вряд ли/Оправился», — сворачивать на накатанную сознанием угнетающую его колею: «А все ж он не в убытке;/Его нагрудник цел венецианской,/А грудь своя: гроша ему не стоит…» А чем, если не унижающей сердце бедностью, вызвано Альберово сожаление: «Зачем с него не снял я шлема тут же!»? Что он не снял бы с соперника шлема, сам Альбер и свидетельствует, хотя утверждает вроде обратное: «А снял бы я, когда б не было стыдно/Мне дам и герцога». Ибо сама его проговорка «стыдно» показывает, что ничего подобного он делать не стал бы — стыд не уживется рядом с грабежом или мародерством! Снова мы сталкиваемся с нелестным для молодого рыцаря самооговором, основанным на той же горчащей досаде: он, Альбер, а не его соперник, в убытке, тому предстоит всего только отлежаться, а ему — где-то раздобывать денег на новое снаряжение, нового коня…
И уж с кем бы точно не стал бы иметь дело Альбер, если б не все та же бедность, так это с ростовщиком Соломоном.
Хотя поначалу приветствует его искренне и от души: «А, приятель!/Проклятый жид, почтенный Соломон,/Пожалуй-ка сюда…» Его «проклятый жид» нас смущать не должен: он не ругается, а говорит только о принадлежности Соломона к проклятому христианами народу, причем говорит шутливо, не зря же сразу за этим свидетельствует ростовщику свое почтение.
Но, глядя вслед уходящему Соломону, уже совершенно всерьез вспомнит о проклинаемом христианством Иуде, с которым сравнит ужаснувшего его ростовщика, у кого готов был взять деньги на любых условиях и у кого не возьмет их теперь ни при каких обстоятельствах:
Его червонцы будут пахнуть ядом, Как сребренники пращура его…
В свое время Н. О. Лернер решил, что «ядом» здесь описка Пушкина, что адом, а не ядом пахнут сребреники Иуды, ведь он получил их не за отравление 2. Вот и о червонцах Соломона известный пушкинист предложил писать, что они пахнут адом, «как сребренники пращура». Однажды (в 1935;м) с Лернером согласились: напечатали «адом» в VI томе Полного собрания сочинений Пушкина, изданного в «Academia». И, по-моему, сделали это напрасно. Чудовищный, злодейский поступок Иуды ядовит по своей духовной природе. Его поцелуй Учителя — знак для схватившей Христа стражи, за который Иуда и получил свои сребреники, — отравлен ядом предательства. Несомненно, это и имел в виду Альбер, уподобляя Иудины деньги деньгам Соломона.
Ростовщик ведь не сразу, не с бухты-барахты предложил сыну отравить отца. Человек, не склонный к риску, он много раз отмерит, перед тем как отхватить себе кусок. Тем более, что он хорошо знает щедрую, разгульную натуру Альбера, которого нередко ссужал под проценты, убежден, что «на бароновых похоронах/Прольется больше денег, нежель слез», и потому искренне желает своему должнику, от которого надеется очень хорошо попользоваться: «Пошли вам Бог скорей наследство».
И в этом его желание совпадает с Альберовым. Ведь тот потому и согласен на любые ростовщические проценты, «что мой отец/Богат и сам как жид, что рано ль, поздно ль/Всему наследую».
(Конечно, нам, знающим о деле Дрейфуса и о деле Бейлиса, живущим после Холокоста и помнящим советскую политику государственного антисемитизма, дико читать это «как жид», дико постоянное именование Соломона в пушкинской трагедии жидом. Но не будем, подобно отцам-основателям сионизма, обвинять Пушкина в антисемитизме. Пушкин не отходит от традиции своего времени, когда жид был не бранной кличкой еврея, а знаковым представителем торгового капитала, как правило ростовщического, как правило еврейского, ибо кроме как в торговцы и в провизоры евреям податься было некуда: рассеянные по миру, они не допускались чужими правителями не только на государственные, но и на обычные гражданские должности.)
Их желания совпадают, разночтения только в сроках. Не переживет же его отец, — беспечно отмахивается юный рыцарь от жида, не желающего, как прежде, ссудить его под будущее наследство. «Как знать? дни наши сочтены не нами…» — глубокомысленно и весьма справедливо отвечает тот. И тотчас же обращает внимание Альбера на отменное здоровье барона, вполне могущего прожить еще лет тридцать. «Тогда и деньги/На что мне пригодятся?» — наивно-простодушно, как мы помним, вопрошает богатый наследник. И ростовщик, хотя все так же глубокомысленно и так же справедливо заметит: «…деньги/Всегда, во всякой возраст нам пригодны…», — засечет, что молодой рыцарь совсем не прочь как можно раньше попользоваться отцовским золотом.
Но вывод, который сделает из этого своего наблюдения жид, разительно не совпадет с благородством Альбера, с его стилем поведения, которое нам привычно называть рыцарским вне зависимости от того, принадлежит или нет человек к этому избранному кругу.
Что Альбер — рыцарь по натуре, а не только по происхождению, доказывает, в частности, его реакция на рассказ Соломона о чудесных смертоносных каплях, которые делает его приятель Товий:
Что ж? взаймы на место денег Ты мне предложишь склянок двести яду За склянку по червонцу. Так ли, что ли?
«Смеяться вам угодно надо мною…» — отреагирует жид, совершенно искренне не понимая чистоты Альберового недоумения, — ведь он, Соломон, так доступно объяснил, как действуют капли Товия:
В стакан воды подлить… трех капель будет, Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе, Без тошноты, без боли умирает.
Но Альберу-то что с этих капель? Юному рыцарю нужны деньги, ради которых он и встречается с ростовщиком, а не яд — «взаймы на место денег»!
Однако выясняется, что заимодавец предлагает яд в месте с деньгами Барона: «Нет; я хотел… быть может вы… я думал,/Что уж барону время умереть».
«Я думал», — говорит жид о том, когда следует умереть барону, словно забыв о собственной рассудительности, которую демонстрировал совсем короткое время назад: «…дни наши сочтены не нами…», — а точнее, конечно, ничего не забывая, но лишний раз свидетельствуя, что произносил тогда не житейскую мудрость, а пошлость, в какую обращает любой жизненный постулат человеческая низость.
Низость и бесчестность ростовщика дают лишний повод Альберу укорить отца, заставившего сына вступить с жидом в деловые и чуть ли не партнерские отношения: «Вот до чего меня доводит/Отца родного скупость! Жид мне смел/Что предложить!», но и побудит рыцаря разорвать их с ростовщиком, не брать у жида денег, которыми он готов ссудить Альбера, чтобы откупиться от чудовищного своего предложения отравить барона.
С другой стороны, доверчивость Альбера, быть может, подчеркнута и значимостью имен персонажей пушкинской трагедии. Соломон (от древнееврейского «шалом» — «мир вам») — это желание (пожелание) здравствовать. Творец собственного благополучия, он несет благополучие другим. Товий переводится как «мое счастье бог», следовательно, главная черта обладателя этого имени — осчастливливать других. Вот в какую компанию завлечен доверчивый Альбер. Конечно, он не настолько наивен, чтобы не понимать цену Соломону. Недаром перебивает его, когда тот только начал разговор о своем приятеле Товии: «Такой же как и ты, иль почестнее?» Но связываться с вероломным криводушием, которое, как выяснилось, воплощают собой Соломон и Товий, он не стал бы ни при каких обстоятельствах. На это прямо указывает и его имя, которое переводится не просто как «благородный», но «блестяще благородный», то есть его благородство высшей пробы!
Разумеется, условия, в которые он поставлен, подвергают эту его черту серьезнейшим испытаниям. Его самооговоры свидетельствуют о его духовной усталости, но не о желании достичь вожделенной цели любыми средствами. Я говорю сейчас даже не о том, что он ужаснулся самой возможности отравить отца или не снял шлема с поверженного противника. Но то, что он не захочет больше иметь дело ни с жидом, ни с его деньгами, хотя имеет крайнюю в них нужду, доказывает его очевидную бескомпромиссность характера. То, что на свою просьбу дать ему вина он не просто услышит от слуги Ивана: «Вечор я снес последнюю бутылку/Больному кузнецу», но подтвердит, что это было сделано с его ведома: «Да, помню, знаю…», — знак характера человека, неравнодушного к несчастию других, готового поделиться с ними последним.
В конце концов он и вопрос о полагающемся ему, как рыцарю, содержании от отца хочет решить в строгих рамках закона, который в Средние века (и в пушкинской трагедии) олицетворял правитель:
…пойду искать управы У герцога: пускай отца заставят Меня держать как сына, не как мышь, Рожденную в подполье.
Конечно, не случайно, что после этих слов Альбера, заканчивающих I сцену, следует сцена II, обозначенная Пушкиным как «Подвал»: в бароновом подполье обитают не голодные мыши.
Правда, зная об отцовском золоте, Альбер вряд ли догадывается, где барон его скрывает. «Подвал мой тайный», — называет свое хранилище барон, и текст «Скупого Рыцаря» не оставляет сомнений, что Альбер даже не пытался обнаружить отцовский тайник: для чего ему это нужно?
Но тот же текст пушкинской трагедии показывает, что барон прячет свои «заветные сундуки» прежде всего именно от сына, с которым не ощущает никакого родства. Недаром, спустившись в подвал, дождавшись наконец-то сладостного момента высыпать в сундук очередную горсточку золота, которое собирает, как гном, — дублон к дублону, испытывая при виде своего богатства такое духовное возбуждение, что произнесет длиннющий монолог — на целую сцену — на 118 стихов, причем не все из них «белые»:
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава! ;
самой обретенной рифмой показывая, что достиг наконец полной гармонии с миром, барон на рифме же и поскользнется, едва только вспомнит, кому должен оставить свою державу:
Я царствую — но кто вослед за мной Приимет власть над нею? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой, Развратников разгульных собеседник! ;
потому что сразу же после этих слов рифма из речи барона исчезнет, чтобы уже никогда больше не появляться.
Вряд ли можно согласиться с Д. П. Якубовичем в том, что «белый стих трагедии именно в момент ее апофеоза превращается в стих рифмованный», потому что вряд ли справедливо объявлять апофеозом трагедии пребывание барона возле своих сундуков, которые он отпер, поставил перед каждым по горящей свече и упивается блеском золота, воображая себя неким властелином мира. Ведь не трагедия прославляет здесь своего героя, а он — себя сам. Он охвачен эйфорией, очень, кстати, недолгой, как недолго и непрочно его чувство гармонического единения с миром, которое сообщает барону накопленное им золото и которое то же золото отнимает у барона, напоминая о наследнике.
Потому и исчезает из его речи рифма, что гармонические связи барона с миром обрываются чуть ли не сразу же после их возникновения.
Конечно, то, что они вообще у него возникают, доказывает, что барон способен пусть ненадолго, но взаправду утвердиться в собственном ощущении: «Я царствую…» Его, кстати, и зовут Филиппом — весьма распространенным в августейших семьях именем. Но сколько отвлекающих обстоятельств поджидают барона на пути к его сладостному ощущению собственного всемогущества! И сколько потащат вниз, не давая ему толком утвердиться на троне! И о тех, и о других он расскажет в своем длинном монологе, раскрывая и собственную низость, позволяющую ему отбирать у людей последнее или не брезговать краденым, и собственную скупость, которой он, урожденный рыцарь, перещеголял даже презренного жида Соломона, и его стойкую неприязнь, нелюбовь к сыну, которого он в том же монологе уличит в ужасающем, с его точки зрения, грехе — мотовстве будущего наследства и в связи с этим вознесет к небу стонущее, чаемое, но несбыточное:
…о, если б из могилы Придти я мог, сторожевою тенью Сидеть на сундуке и от живых Сокровища мои хранить как ныне!..
Я думаю, что не случайно барон этими словами заканчивает свой монолог, подытоживая все, что он сейчас произнес. И итог этот недвусмысленно показывает, что не так уж преувеличивал Альбер, характеризуя отношение отца к золоту: уж если тот и после смерти готов защищать свое богатство от любых посягательств, если мечтает явиться из могилы и воспрепятствовать живым воспользоваться его деньгами, то это ли не лучшее свидетельство в пользу того, что он служит своему золоту, «как алжирской раб», что он охраняет его, «как пес цепной»!
Вот почему, по-моему, нет правоты в утверждении Г. А. Гуковского, что скупость барона — его сублимированное, так сказать, властолюбие. Прежде, в молодости, пишет Гуковский, барон «жил при дворе герцога и был близок с герцогом, первым среди равных баронов…», теперь «власть стал захватывать денежный сундук». Иными словами, эволюционировав из блестящего боевого рыцаря в нелюдимого скупца, барон сохранил былую свою любовь к власти, которую ныне подпитывает и укрепляет в нем его золото.
Но, во-первых, внешне полные приязненных воспоминаний слова герцога: «Вы деду были другом; мой отец/Вас уважал. И я всегда считал/Вас верным, храбрым рыцарем…» — могут еще указать, как подметил В. Э. Рецептер, на «постепенное отдаление барона от властвующей династии», но не дают никаких оснований предполагать в бароне особого властолюбия. А во-вторых, скупость — черта вовсе не обязательно благоприобретенная, барон мог и в молодости быть скуповатым и, скорее всего, был им, ибо невозможно представить, что страсть к накопительству захватила его вдруг, внезапно, а не накапливалась в нем исподволь, выдавливая из его души человеческие чувства и освобождая в ней пространство для нечеловеческих.
А главное, потому и краток так момент его эйфории: «Я царствую», — что он не ощущает себя полновластным владыкой своих подданных. «Лишь захочу», — говорит барон о собственных возможностях приобрести на свое золото все что угодно. «Я свистну», — говорит барон о том, что кто угодно отзовется на его зов, чтобы выполнить любые оплаченные им поручения. Но ни хотеть что-либо приобретать, ни давать кому-либо поручения, за которые нужно будет платить, барон не станет. О чем и сам объявит, утверждая эту свою позицию на незыблемом, как ему кажется, теоретическом фундаменте:
Мне все послушно, я же — ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно Сего сознанья… ;
но который на поверку окажется удивительно зыбким: в следующей же сцене (а она, заметим, названа Пушкиным «Во дворце» — наверняка в контраст «Подвалу», царству барона) он явится к герцогу как к своему сюзерену, которому обязан быть послушен и будет послушен, пока герцог не заговорит с ним о достойном содержании, которое, по рыцарским обычаям, барон должен назначить своему сыну. Но и объявить герцогу о своем непослушании барон не решится: умрет как раб у ног своего господина, не посмевший ему перечить и в то же время не исполнивший его приказа, ибо исполнить его оказалось в буквальном смысле слова свыше жизненных сил барона.