Экфразис как способ воплощения пасторальности в ранней лирике Георгия Иванова
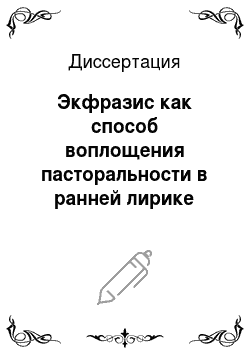
Изучение пасторали долгое время находилось на периферии отечественного литературоведения. Т. В1 Саськова, анализируя причины неразработанности этой проблемы в нашей литературной^ науке, приходит к выводу, что это было следствием суммарно-негативных оценок, инерция которых еще не преодолена до сих пор. В художественном наследии прошлого советское литературоведение привлекали внимание, главным… Читать ещё >
Экфразис как способ воплощения пасторальности в ранней лирике Георгия Иванова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- ГЛАВА 1. Своеобразие поэтики экфразиса в ранней лирике Г. Иванова
- 1. 1. Поэтическая интерпретация живописи в контексте «усадебного текста»
- 1. 2. Символика цвета у Г. Иванова (на примере сборника «Сады»)
- ГЛАВА 2. Традиция живописной пасторальности в восприятии и творческой интерпретации Г. Иванова
- 2. 1. Г. Иванов и Жан Антуан Ватто
- 2. 2. Совокупный опыт Гейнсборо, Лоррена, Ван Дейка и Кустодиева в интерпретации Г. Иванова
Современная русская культура сейчас уже немыслима без Г. Иванова, по свидетельству многих, лучшего поэта русской эмиграции. Это имя вернулось к нам в 90-х годах XX века и стало поистине открытием. Его зрелые стихи потрясают как простотой языка, так и глубиной своего трагизма. Творческое наследие поэта еще ждет своего исследователявсе, что написано о нем до сих пор, касается главным образом его эмигрантской лирики. Раннее же творчество в работах литературоведов практически не затрагивается, так как во многом имеет репутацию юношеских опытов, тогда как настоящий Г. Иванов, с этой точки зрения, родился только в эмиграции.
Долгое время ранняя лирика Г. Иванова воспринималась как нечто «второсортное» в противовес «первосортности», зрелости лирики эмигрантской. До сих пор встречаются подобного рода характеристики его петербургской поэзии. Например, И. Роднянская в статье «Возвращенные поэты» пишет о значимости именно поздней лирики поэта, «отказавшегося от прежней манерности и решившегося искренне и правдиво передавать жизнь души» (115. С. 21).
В работе Н. А. Кузнецовой «Творчество Георгия Иванова в контексте русской поэзии первой трети XX века» дан широкий обзор критических высказываний современников поэта и литературоведов, в большинстве своем подтверждающих нашу мысль о недостаточной изученности ранней лирики Г. Иванова, следствием чего явилась тенденция считать петербургскую поэзию затянувшимся периодом ученичества, неким тупиковым путем, который поэт, будучи зрелым мастером, впоследствии отверг. В указанной работе автор делает очень важный вывод, ставший для нас отправной точкой в исследовании: «Мир Георгия Иванова един как хронологически, так и в его составляющих, говорить о перерождении поэта нам не представляется возможным» (73. С. 11).
Развеивать миф о «двух разных Ивановых» начал еще В. Крейд, который в монографии «Петербургский период Г. Иванова» (69) впервые дал серьезную характеристику ранним сборникам поэта, отмечая их самобытность. Главная особенность петербургского творчества Г. Иванова, по мысли автора, заключается в оперировании различными культурными моделями прошлого, что рождает новые смыслы.
Ряд современных литературоведов последовал по пути, проложенному американским критиком: В. Блинов, Е. Алекова, В. Заманская, А. Арьев, Е. Витковский и др. Но все же большинство работ посвящено именно эмигрантскому периоду творчества поэта, исследователей интересует больше зрелый, «экзистенциальный» (В. Заманская) Г. Иванов, хотя и учитывается факт эволюции творчества, определяются влияния, сформировавшие его художественное сознание. На наш взгляд, в научном осмыслении поэтического пути Г. Иванова уже в самом его начале имеется определенный «пробел», когда при верных указаниях на различные темы и мотивы в корпусе ранних текстов не показан механизм их функционирования, отсюда многие поэтические находки ускользнули от внимания исследователей, будучи затерянными в определении «подражательные». Иными словами, чтобы понять такую резкую смену тематики и даже миропонимания у позднего Г. Иванова, необходимо выяснить его истоки, основополагающую позицию, из которой он исходил в начале творческого пути.
Самое начало поэтической деятельности Г. Иванова осуществлялось в рамках эгофутуризма (И. Северянин) — этот период был весьма коротким. Прежде всего, несомненно влияние на его поэзию М. Кузмина, которого иногда называют предтечей акмеизма. В частности, В. Крейд отмечает, что «поэзия Кузмина была одной из ранних реакций на символизм» (68. С. 58). Но он же и справедливо подчеркивает, что этого влияния не стоит преувеличивать. Художественный вкус юного поэта только формировался, он пробовал себя в разном качестве, отголоски его встреч-бесед с совершенно разноплановыми поэтами (А. Блоком, Н. Кульбиным, Вяч. Ивановым, Н. Гумилевым,.
О. Мандельштамом и т. д.) мы найдем во многих его ранних стихотворениях. Поиск своего стиля, как это чаще всего случается, проходил в рамках освоения культурных традиций, и акмеизм в этом смысле стал для Г. Иванова, чувствовавшего свою кровную связь с Культурой, подлинным поэтическим лоном, хотя символизм, в его «блоковском варианте», тоже оказался ему не чужд.
Поэтическое мастерство Г. Иванова сомнению практически не подвергалось, но его интерес к интерьерным описаниям, живописи, разного рода предметам дворянского быта многим казался темой, недостойной пера серьезного поэта. Сам Г. Иванов никак его не объяснял, на выпады критиков или не реагировал, или отвечал в свойственной ему иронической манере, когда трудно понять, что в шутку, а что всерьез. Обилие обращений к живописным и скульптурным изображениям действительно характерно для его ранней лирики, их описание всегда отличается у него выразительностью, поэтичностью, вниманием к деталям, знанием культурной эпохи, которой принадлежит полотно или скульптура. Аналогии между его стихами и другими видами искусств, о которых он пишет, проводились неоднократно. Сошлемся на мнение Т. Ю. Хмельницкой: «Стихи — отточенные, ясные, мелодичные, как живописный интерьер или со вкусом сервированный натюрморт» (139. С. 46). Н. А. Богомолов объясняет этот интерес Г. Иванова именно его акмеистической выучкой: для этого течения были характерны сопоставления поэзии с изобразительными искусствами (живописью, графикой, скульптурой, архитектурой), тогда как враждебный ему символизм соотносил поэзию с музыкой. Г. Иванов, как пишет исследователь, «переносит это представление в стихи с поразительным старанием, так что любой желающий может выстроить замечательно цельные ряды оппозиций. Вот названия его стихотворений: „Книжные украшения“, „Литография“, „Скромный пейзаж“ .Примеры можно множить.» (19. С. 140).
Ранняя лирика Г. Иванова отчетливо выражает важнейшие поэтические тенденции начала XX века, прежде всего мысль об универсальности Слова, его уникальной способности творить «вторую реальность», а также теснейшую связь литературы с другими изобразительными искусствами. Его ближайшие соратники по «Цеху поэтов» Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам во многом еще тяготели к символизму, но уже их раннее творчество достаточно ярко продемонстрировало четкую поэтическую индивидуальность, несводимость к определенному течению, в том числе и к провозглашенному акмеизму. Ранний же Г. Иванов гораздо более последовательный акмеист, чем сам «мэтр» Н. Гумилев, его первые поэтические опыты свидетельствуют о несомненно акмеистическом стремлении запечатлеть в Слове мельчайшие оттенки увиденного, создать яркий зримый образ действительности. Отсюда в его ранних сборниках любовь к мелочам, скрупулезным описаниям, акцент на статических изображениях. Слово в представлении акмеиста должно быть зримым, выпуклым, максимально реализовывать эмоции, рожденные при созерцании мира. Сопряжение такой поэзии с живописью совершенно закономерно: у двух изобразительных видов искусств оказываются сходными принципы отражения действительности.
Интерес к «вещности» Слова характерен для всего акмеистического окружения Г. Иванова, но выражается у поэтов по-разному. Для Ахматовой характерна материализация как вещи, так и чувства, отражающего ее восприятие. Например, в ее ранних сборниках очень часто деталь костюма лирической героини «материализует» ее душевное состояние (хрестоматийные «перчатка», надетая не на ту руку, и «вуаль», под которой она «сжала руки», передают смятенное состояние, тревогу).
Центральный образ знаменитого «Камня» Мандельштама демонстрирует изменчивость, «текучесть» материи, способность ее к причудливым метаморфозам, что роднит ее со Словом, духовной субстанцией:
Кружевом, камень, будь, И паутиной стань: Неба пустую грудь Тонкой иглою рань.
Будет и мой чередЧую размах крыла. Так — но куда уйдет Мысли живой стрела?
82. С. 17).
Романтический мир ранних сборников Гумилева наполнен действием, энергией, изображенный им материальный мир помечен активным присутствием лирического героя, отсюда обилие «движущихся» описаний («бегущие линии», «летящие дымы пожара», «взлетающий фламинго», «мчащиеся обезьяны», «рычащие разъяренные звери» и др.). Весь мир пришел у поэта в движение, передавая душевный непокой лирического героя.
По сравнению с собратьями по перу, ранний Г. Иванов настолько подчеркнуто изобразителен, «плоскостей», живописен, что порой дает повод обвинить себя в эпигонстве. Его поэтическое мастерство, виртуозность описаний, классическое изящество стиха иногда удачно скрывают «незатейливое» содержание, откровенные литературные штампы. Из всех акмеистов он наиболее последовательно, добросовестно и тщательно разрабатывает основной художественный посыл течения — поэтизацию материального мира. Его первые поэтические опыты не лишены подражательства, круг тем неширок, главным образом это различные описания статичных объектов (сады, парки, фонтаны и скульптуры в них), традиционные для всякого юного поэта «подражания древним» (античные и восточные мотивы). Особенностью его художественного мира на тот момент станет принципиальная установка на «живописность» изображения, попытка передать словом увиденный пейзаж или скульптуру, причем в мельчайших подробностях. В раннем творчестве Г. Иванова акмеистические установки еще во многом определяют его мировосприятие, опоэтизированный материальный мир в его изображении имеет статус духовного, поскольку с усадебными пейзажами, интерьерами и отдельными их составляющими у лирического героя связаны ностальгические воспоминания. Природные объекты (цветы, деревья, ручьи и пейзажи в целом) равны для него по духовной ценности предметам материальной культуры (мебели, старинным картинам и сервизам). Думается, вполне можно говорить о так называемом «усадебном тексте» в интерпретации Г. Иванова, так как мир его ранней лирики демонстрирует типичные его приметы: описание дома и усадьбы и связанные с этим чувства ностальгии, утраты дворянской культуры. Идеализированное прошлое — главная тема ранней лирики поэта. Это отнюдь не «приукрашивание» действительности, а отражение особого идиллического миропонимания на заре XX века, когда духовная ценность определенной культуры определяется осознанием ее скорой гибели. Жизнь идиллии в совсем неидиллическое время — одна из излюбленных тем многих поэтов — современников Г. Иванова, из всех акмеистов он, пожалуй, был единственным, кто в период ученичества так целенаправленно и точно воспроизводил пасторальный дух русской усадьбы, особое настроение увядания, угасания огромной культурной эпохи, которая, тем не менее, прекрасна в своем умирании. То, что многие критики принимали у Г. Иванова за слащавость и даже пошлость, есть на самом деле живая реализация пасторали.
Термин «пастораль» мы употребляем в широком смысле, как «модальность», особый способ мирочувствования, главным в котором станет декларация гармонии человека и мира, воспевание счастливой жизни на лоне природы, особое умонастроение, некий комплекс эмоциональных представлений (безмятежности, влюбленности, тихой радости, покоя и пр.). В узком смысле это система жанров, точнее, некий метажанр с рядом характерных признаков, проявившийся в разных видах искусства. Н. Т. Пахсарьян указывает на такое разграничение как на исторически сложившееся, когда начинает расширяться сфера применения пастушеской тематики, что было связано с процессом «натурализации пасторали» (106. С. 51). У истоков такого понимания идиллии стоит, в частности, В. фон Гумбольдт, определивший ее еще и как «известное настроение ума», «способ чувствования», а идиллический, человек — это тот, «все существо которого состоит из чистейшей гармонии с самим собою,. с природой» (36. С. 244−245). При этом рождается понятие так называемого «идиллического хронотопа» как «сочетание человеческой жизни, с жизнью природы, единство их ритма» (известная формулировка М. М. Бахтина), как «безмятежная патриархальность и замкнутость „тихих“ событий в семейном кругу» (Н. Т. Пахсарьян).' В художественном слове пастораль проявила себя во всех литературных родах и в довольно большой^ группе жанров (эклога, поэма, роман, драма и др.). Оговоримся, что термины «идиллия», «пастораль» и «буколика», приучете различных терминологических расхождений у разных авторов, все же используются нами как синонимы.
Интерес к пасторальным жанрам, модальности и отдельным составляющим этой традиции наблюдается практически во всех эстетических системах и художественных направлениях. По справедливому утверждению историка литературы Н. О. Осиповой, анализирующей проблемы развития1 пасторали в русской культуре начала XX века, «пасторальный комплекс является^ одной из устойчивых метажанровых систем» (105. С. 100), легко вписывающихся в любое культурно-художественное пространство. Причина такой ее «живучести» во многом объясняется тем, что пасторальные ценности существовали всегда и являлись своеобразным «противоядием» энтропийных процессов в культуре.
Изучение пасторали долгое время находилось на периферии отечественного литературоведения. Т. В1 Саськова, анализируя причины неразработанности этой проблемы в нашей литературной^ науке, приходит к выводу, что это было следствием суммарно-негативных оценок, инерция которых еще не преодолена до сих пор. В художественном наследии прошлого советское литературоведение привлекали внимание, главным образом, идейные позиции писателей, а пастораль всегда интересовалась частной жизнью человека, социальные коллизии не входили в сферу ее интересов, что в свое время, и дало основание Г. А. Гуковскому сказать, что «самым неприятным, что оставило нам XVIII столетие в области искусства», были «лицемерная пасторальность и чопорное барство» (34. С. 3). Исследователь объясняет это и особой социокультурной ситуацией в России с ее гнетом крепостного права и давлением мощной бюрократической машины, что вызывало народную враждебность к искусству, творимому элитой общества и составляющему резкий контраст с общественной практикой. То есть, пока эстетическая ценность литературных произведений ставилась в зависимость от идеологических конструкций, пастораль воспринималась как низкосортное искусство с мелкими темами, «лакированным» изображением действительности. Эстетика тривиального, как справедливо считает Т. В. Саськова, нуждается в изучении, «игнорирование огромного историко-литературного пласта приводит к неполноте представлений о характере культурного процесса, к неизбежным смещениям, неточным расстановкам акцентов, искажениям в его понимании» (121. С. 9).
Трудность восприятия пасторальности современным читателем и даже исследователем обусловлена еще и тем, что классическое литературное наследие XIX века, занявшись глобальными проблемами, буквально затмило XVIII век, интереснейший культурный период, иллюстрирующий уникальное соединение в рамках пасторали барочных, классицистических, рокайльных, сентименталистских и предромантических стилевых течений.
Актуальной проблема взаимодействия стилей станет в начале XX века, и интерес к пасторали вспыхнет снова совершенно закономерно. В эпоху рубежа XIX—XX вв.еков, когда русская культура, по словам Н. О. Осиповой, вступила на путь «мощного синтеза художественного и философского мышления» (105. С. 99), пастораль оказалась созвучна времени своей идеей возврата к мифологическим культурным моделям. Ситуация надвигающегося хаоса, обострив потребность в гармонии, насущно требовала возврата пасторали на первый план.
Как убедительно доказывается в докторской диссертации Т. В. Саськовой (121), пастораль была достаточно хорошо освоена русской художественной культурой XVIII—XIX вв.еков (рассмотрено на широком историко-литературном материале от Ломоносова до Пушкина). В XX веке этой традиции отдали дань А. Белый, М. Кузмин, Вл. Нарбут, Б. Лившиц, Ф. Сологуб. Известны также маскарады К. Сомова, гравюры А. Бенуа, постановки С. Судейкина на пасторальную тематику. Художники Серебряного века, ратовавшие за идею возврата к мифу, дали вторую’жизнь «галантному» восемнадцатому веку с его маскарадностыо, склонностью к условности, иллюзорности и утонченной чувственности. Получили новую жизнь идиллии, пасторальные элегии и песни, эклоги (характерные для пасторальной традиции жанры), ожила сама атмосфера изысканной театральности, переменчивости настроений, легкой эротичности.
Изучением пасторальности в русской литературе XX века плодотворно занимается Н. О. Осипова, ее статьи посвящены анализу с этой точки зрения романа Д. С. Мережковского «Юлиан Отступник» и поэзии первой трети XX века (105, 104).
Интересна работа литературоведа Л. А. Сугай, обнаружившая не привлекавшей прежде внимания исследователей живописной пасторали К. Сомова полемику «пушкинского» и «гоголевского» направлений в литературе (128).
Предмет особого интереса современных литературоведов — пасторальная драматургия. В 1920;х годах был предпринят ряд попыток реанимирования театральных постановок, считавшихся в пролетарской России явным анахронизмом. Причина этого в том, что, по утверждению Т. Н. Фоминых, пастораль, «скомпрометировавшая» себя «связью» с великосветскими балами, празднествами и развлечениями, «в культурном сознании 1920;х годов воспринималась как готовая жанровая форма художественного изображения жизни господствовавших раньше классов, как орудие разоблачения порочного образа жизни эксплуататоров» (137. С. 94). Подобная травестийная обработка пасторали была предпринята С. С. Заяицким в романе «Красавица с острова Люлю» (1926) и в его авторской инсценировке (1928). Как пишет первый исследователь этой пьесы Т. Н. Фоминых, автор, работая с пасторальным жанром, «актуализировал прежде всего его сатирический потенциал» (137. С. 95). Она же занималась изучением пасторальной традиции в комедии П. Муратова, известного искусствоведа, переводчика и прозаика начала XX века, «Приключения Дафниса и Хлои» (1926). Интереснейший комментарий к балету С. Судейкина по гоголевской «Женитьбе» представила J1. А. Сугай: анализ либретто как «наивной ретроспекции» идиллии (128). Но исследований не так много, видимо, определенная инерция в этом вопросе в отечественном литературоведении действительно существует.
Специальных исследований по проблеме влияния пасторальной традиции на формирование художественного сознания Г. Иванова нами не обнаружено, но большинство литературоведов и критиков отмечали идиллическое восприятие им действительности в раннем творчестве. Практически все указывали на красоту и гармоничность его поэтического языка, но бесконфликтность его ранней лирики большинством критиков, как современников поэта, так и нынешними, воспринималась как серьезный недостаток. Для А. Блока, например, гладкость и «безмятежность» его стихов означала их бессодержательность. «Слушая такие стихи,. можно вдруг заплакать — не о стихах, не об авторе их, а о нашем бессилии, о том, что есть такие страшные стихи ни о чем, не обделенные ничем — ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем — как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя» , — так сказал он о поэзии Георгия Иванова. И добавил, рецензируя в 1919 году его книгу стихов «Горница»: «Это — книга человека, зарезанного цивилизацией, зарезанного без крови, что ужаснее для меня всех кровавых зрелищ этого века, — проявление злобы действительно нечеловеческой, с которой никто ничего не познает, которая нам — возмездие». (16. С. 377) Столь резкая оценка во многом обусловлена тем, что символист Блок, весьма сдержанно относившийся к только что появившемуся акмеизму, не мог принять акмеистических, а порой и откровенно эпигонских, на тот момент, стихов поэта. В середине XX века Г. Иванов занимает, по словам.
Р. Гуля, «грустное и бедное, и в то же время почетное и возвышенное место первого поэта российской эмиграции», которое он «заслужил тем, чем заслуживают все большие поэты». (35. С. 194).
Блоку вторит JI. Н. Лунц, давая отклик на только что вышедшие «Сады»: «В общем, стихи Г. Иванова образцовы. И весь ужас в том, что они образцовы» (79. С. 49). В. Ходасевич, рецензируя «Вереск» и отдавая дань мастерству поэта, тем не менее, пишет: «Его поэзия загромождена неодушевленными предметами и по существу бездушна даже там, где сентиментальна» — ориентацию на декоративность в сборнике он характеризует так: «Это не искусство, а художественная промышленность — беру это слово в благородном значении. Стихи, подобные стихам Г. Иванова, могут и должны служить одной из деталей квартирной, например, обстановки. Это красиво, недорого и удобно» (140. С. 512).
Е. Эткинд в работе «Кризис символизма и акмеизм» признает справедливой оценку В. Жирмунского (статья «Преодолевшие символизм» — живой отклик на рождение акмеизма): «Предостережение Жирмунского было суровым: в самом деле, опасность смысловой облегченности грозила акмеистам. К счастью, творчество Гумилева, Ахматовой и Мандельштама она миновала. Однако Жирмунский оказался прав по отношению к другим: Городецкому, Нарбуту, Зенкевичу, отчасти (все-таки отчасти! — А. X.) Георгию Иванову» (148. С. 481).
Думается, отсутствие научного интереса к функционированию пасторального комплекса в поэзии Г. Иванова объясняется как общей литературоведческой тенденцией в этом вопросе, о чем говорилось ранее, так и сравнительно небольшим количеством серьезных работ по его лирике вообще. Изучение этой темы таит немало интересного, особенно это важно, с нашей точки зрения, для осмысления его раннего творческого наследия, с нашей точки зрения, несправедливо обойденного вниманием исследователей.
По нашим наблюдениям, своеобразие преломления пасторальной традиции у Г. Иванова заключается в том, что в его стихах присутствует прежде всего «живописная» пастораль: словесные описания творений художников, работавших в этом жанре, создание собственных идиллических пейзажей в их духе, вообще стремление запечатлеть мир как некую буколическую картинку.
Для проведения параллелей между живописным искусством и словесными изысканиями Г. Иванова воспользуемся очень точной и емкой категорией «экфразиса», восходящей к культуре античности, разрабатывавшейся в эстетике Ренессанса, классицизма, барокко, других художественных систем и ныне активно употребляющейся при анализе межвидовых связей в искусстве, особенно — при описании специфики живописи средствами поэзии. Исследователи по-разному его трактуют. Л. Геллер, автор вступительной статьи сборника «Экфрасис в русской литературе», предлагает использовать его не только в узком смысле, как «украшенное описание произведения искусства внутри повествования, которое он прерывает, составляя кажущееся отступление» (30. С. 13), но и в широком смысле, как воспроизведение одного искусства средствами другого. Этот термин, по утверждению того же автора, «одновременно техничен и историчен, он заставляет обратить внимание на укорененность явления в традиции, а следовательно, на эволюцию связанных с ним приемов, топосов, жанров. И этот же термин указывает на прерывность традиции, на ее историческую необязательность, а значит, на особую значимость тех моментов, когда она возрождается» (30. С. 13). Экфразис известен со времен греко-римской риторики, там он понимался как «украшенное описание произведения искусства внутри повествования, которое он прерывает» (30. С. 5) — характерный пример — описание щита Ахилла в «Илиаде» .
Известная мысль о живописи как «немой поэзии» и поэзии как «говорящей живописи» иллюстрирует тот диалог, который они завели еще в античности.
Как отмечает Л. Геллер, русская литература издавна пользовалась экфразисом, перед которым стояли важные художественные задачи. Вспомним «Арабески» и «Портрет» Гоголя, «Запечатленный ангел» Лескова, описание картины Клода Лоррена у Достоевского, поэзию постсимволистов. Л. Геллер отличает это понятие от «взаимосвязи искусств» и так называемой интермедиальности. Исследователь последней Ганс Лунд (30. С. 6−7) предлагает различать три ее формы (не вдаваясь в подробности, рассмотрим по существу):
1. комбинация (взаимодействие литературы и пластических искусств).
2. интеграция (словесные произведения в визуальной форме).
3. трансформация (предмет изобразительного искусства передается словами).
Последняя форма и есть экфразис в узком смысле, в котором мы и намерены его использовать. В более широком смысле о нем говорят как о передаче специфики одного вида искусства средствами другого.
Ролан Барт в связи со спецификой литературного описания отмечал, что при любом его виде автор сначала мысленно преображает его в живописный, словно помещая в раму, и потом уже начинает описывать как объект, отделенный от прочего мира границей рамы (30. С. 8). То есть описательное слово в литературе изначально экфрастично.
Совершенно справедливо, на наш взгляд, высказывается JI. Геллер по поводу необходимости пересмотра экфразиса как «копии второй степени», так как этот интеллектуальный акт, представляя «перевод чувственных восприятий и интуитивного знания на язык искусства», есть значительно более сложный уровень, чем снятие копии с действительности (картина). Поэтому следует различать лирический пейзаж, в тексте стихотворения не связанный с картиной, и собственно экфрастический пейзаж, передающий ее словами, хотя у них может быть общий стилистический инструментарий. В экфразисе в слово переводится не объект, а его восприятие, не образ картины, а ее видение литератором. Писатель Мишель Бютор, в своих произведениях часто прибегающий к экфразису, резонно подчеркивал, что у картины и у ее описания разные логики и динамики (30. С. 11).
Слово в экфразисе может быть подвижным и передавать динамику, даже когда описывает статичный объект (например, описание чайного пара над чашкой, рождающего причудливые, тут же исчезающие фигуры в стихотворении М. Кузмина «Фузий в блюдечке», 1917). Также слово может акцентировать наше внимание на статичности объекта: почти всегда так будет в экфразисе Г. Иванова.
Нетрудно заметить, что ближайшее акмеистическое окружение поэта тоже использовало экфразис в своей художественной практике. Для Ахматовой с ним связана прежде всего тема Царского села, описание парков, садов и скульптур в них («Царскосельская статуя»). Мандельштама отличает пристрастие к описанию архитектурных сооружений («Айя — София» и «Notre Dame», «Адмиралтейство»). Гумилев любил «писать» «словесные портреты» воображаемых персонажей («Портрет мужчины», «Царица», «Русалка»).
В работе Р. Мниха «Сакральная символика в ситуации экфразиса» анализируется специфика этой категории в интерпретации акмеистов. Автор опирается на мысль В. Топорова о наметившемся в 10-х годах XX века противостоянии двух поэтических систем: ориентацию на непрерывное, изменяющееся (процесс), стремление растворить слово в тексте (отсюда связь слова с музыкой) у символистов и тяготение к дискретному, четко ограниченному и самодовлеющему (вещность, предметность), подчеркивание «скульптурного» и «архитектурного», стремление к слову, которое сохраняет свою независимость у акмеистов (91. С. 91−92). Особенно ярко это проявляется у Ахматовой и Мандельштама.
Например, в стихотворении Ахматовой «Царскосельская статуя» экфразис, по точному наблюдению Р. Мниха, связан прежде всего с темой воспоминания: творческая память автора. в ситуации экфразиса «открывает действительность» вечной каменной статуи и одновременно соотносит судьбу ожившей таким образом статуи с судьбой лирической героини" (91. С. 94).
Мандельштамовский «Камень» «архитектурен» по самой своей природе, экфрастические описания сооружений зодчества служат живым доказательством могущества Слова в изображении материи.
Мало представителен в этом плане Гумилев, чьи «словесные портреты» лучше квалифицировать как психологические, так как они более походят на рассказ о персонаже, нежели на описание статичного объектау каждого из его героев своя драматичная судьба, и это в большей мере интересует поэта, чем фиксация внешнего облика.
У Г. Иванова экфразис играет несравнимо большую роль, чем у его единомышленников по «Цеху поэтов», что видно хотя бы по количеству стихотворений с описаниями скульптур, живописных полотен, архитектурных строений и предметов интерьера. В своем ретроспективизме и экфрастическом стремлении запечатлеть в слове красоту статического объекта он близок именно Ахматовой и Мандельштаму, подтверждая свое акмеистическое «происхождение», но отличается от них ярко выраженным пасторальным началом, для которого экфразис стал оптимальной формой выражения.
Проблемами экфразиса на материале литературы XX века занимались Р. Мних (91), И. А. Есаулов (48), Е. Берар (14), М. Рубине (117). Участники проведенного недавно симпозиума поэкфразису в Лозанне коллективно пришли к выводу о том, что экфразис может быть принципом религиозным, философско-эстетическим, эвристическим, семиотическим, культурно-историческим, межтекстовым, поэтическим, тропологическим. Мы, в свою очередь, предлагаем рассматривать его в контексте ранней лирики Г. Иванова4 как способ воплощения пасторальности, что еще не входило в спектр литературоведческих изысканий по творчеству Г. Иванова.
Пастораль в XX веке имеет сложную судьбу, так как век, начавшийся кроваво и жестоко, совсем не идиллический, и Г. Иванов не был бы настоящим поэтом, если бы не заметил этого. Пасторальное настроение, роднящее между собой все ранние сборники поэта, осложнено у Г. Иванова иронией, постоянно подвергающей сомнению истинность идиллических идеалов. Иронический взгляд помогает поэту сохранить веру в «правдивость искусства», оставаться реалистически трезвым и искренним художником. Правда, юному поэту не всегда это удается, особенно это заметно в самых первых сборниках, «Вереске» и «Лампаде», когда он увлекается описательством и не замечает «картинности», искусственности образов, но уже в «Садах», последнем петербургском сборнике, ирония станет заявлять о себе все чаще, а в эмигрантском творчестве займет главное место, станет характернейшей приметой его поэтики, обретет самые разные способы выражения, вплоть до едкого сарказма. Исследованию эволюции иронии в художественном мире Г. Иванова посвящена глубокая и содержательная диссертация И. Н. Ивановой, где автор, в частности, указывает на влияние М. Кузмина, чью ненавязчивую, примиряющую иронию, скорее несерьезность, и воспринял ранний Г. Иванов: «Пафос кузминской иронии, как и ранней ивановской, — любование миром с его „отрадным“, „милым вздором“ и стремление ничего не усложнять» (58, 34). Эту ироничность и в жизни, и в творчестве многие современники поэта не принимали, например, Ахматова, рассердившаяся на поэта из-за его «неправдоподобных» мемуаров «Петербургские зимы», но без ее учета ранний Г. Иванов отсутствием «серьезных» тем действительно порой напоминает апологета акмеизма.
Авторитетный исследователь литературы XX века Н. А. Богомолов, казалось бы, тоже присоединяется к этому мнению: «При чтении „Горницы“ (1914) и „Вереска“ (1916) нередко создается впечатление, что при всей умелости и мастеровитости поэта ему просто не о чем писать». Но далее автор отмечает то, что прошло мимо внимания современников поэта: «Поэзия Г. Иванова эпохи „Горницы“ и „Вереска“ все время балансирует на грани между серьезным описательством и тонкой самоиронией» (18. С. 143).
Таким образом, в нашем исследовании мы исходим из того, что характерный для ранней лирики Г. Иванова пасторальный комплекс экфрастически выражен и постоянно «корректируется» иронией, что придает идиллической тональности оттенок зыбкости, непрочности, но вместе с тем, превращенный с помощью экфразиса в «произведение искусства», он утверждается и «закрепляется» как культурная традиция и тем самым обеспечивает себе «долгую жизнь» .
Наличие идиллической составляющей во всех петербургских сборниках, ряд общих пасторальных примет позволяет нам рассматривать всю раннюю лирику поэта как единый культурный текст, в рамках которого мы отметим определенную эволюцию в интерпретации поэтом пасторали, с учетом изменения качества ее экфрастической выраженности и увеличения доли иронического компонента.
Актуальность исследования обусловлена возросшим в последнее время интересом к творчеству поэтов Серебряного века и к Г. Иванову в частности, а также необходимостью теоретического осмысления некоторых явлений поэтики, сложившихся в отдельных авторов указанного периода в связи с общей культурной установкой на принцип художественного синтетизма (экфразис). Помимо того, в последнее время наметилась явная тенденция к «реабилитации» идиллического как способа мирочувствования, продуктивность которого как культурной модели доказана самим временем.
Таким образом, объектом нашего исследования является корпус ранней лирики Г. Иванова, все петербургские сборники поэта как единый культурный текст идиллической тональности.
Цели и задачи работы: выявление пасторальности как общего умонастроения, объединяющего ранние сборники поэта в идейно-тематическое единствоопределение своеобразия поэтики экфразиса у Г. Иванова как способа воплощения пасторального начала в рамках «усадебного текста» — выявление механизма его функционирования в ряде интерпретаций поэтом творчества отдельных художников.
Методологической базой служит сочетание сравнительно-исторического и системно-типологического подходов к анализу ранней лирики поэта, которые были научно обоснованы в трудах В. Жирмунского, Ю. М. Лотмана, Л. Я. Гинзбург и др., а также структурно — функциональный принцип, выявляющий элемент художественной системы и его функции, в данном случае это экфразис как способ воплощения пасторальности. Использовался также принцип структурно — семантического анализа, в частности, в определении различной символики в лирике (цвета и пр.). Важная проблема взаимодействия слова и живописи как видов искусств в художественном мире раннего Г. Иванова обусловила обращение к ряду искусствоведческих и культурологических работ А. К. Якимовича, И. С. Немиловой, А. В. Повелихиной, Е. Ф. Ковтуна, Ю. К. Золотова, А. Д. Чего даева, J1. В. Никифоровой, а также к зарубежным авторам (Жермен Базен, Леонард Дж. Нортон). Учтен опыт исследования творчества Г. Иванова российскими и зарубежными учеными (Н. А. Богомолов, Е. А. Алекова, И. И. Иванова, Н. А. Кузнецова, В. Крейд, Р. Гуль, В. Марков и др.).
Теоретическая значимость работы состоит в изучении своеобразия экфразиса как художественной категории, выявление механизма его функционирования в лирике, а также определение специфики пасторали как особого способа мирочувствования конкретного автора.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы в курсе лекций по истории русской литературы (раздел «Русская литература рубежа XIX — XX веков») и на спецкурсах и семинарах по лирике Серебряного века.
Новизна работы состоит в том, что ранее пасторальность как главное умонастроение раннего Г. Иванова не была предметом отдельного изучения, равно как и поэтика экфразиса в качестве способа воплощения пасторального начала в петербургской лирике поэта.
Апробация работы. Отдельные положения работы были освещены на аспирантских семинарах, на заседаниях кафедры литературы СурГПИ, в докладах на научных конференциях в Москве и Сургуте. Материалы исследования отражены в 7 публикациях автора (2002 — 2004 г. г.).
Структура работы: диссертация состоит из двух глав, введения, заключения и библиографии.
Во Введении рассматривается историография вопроса, определяются теоретические положения, ставятся задачи исследования, а также обосновывается научная новизна темы и ее актуальность.
В первой главе выявляется своеобразие поэтики экфразиса в ранней лирике Г. И. Иванова: живописный подтекст рассмотрен в рамках «усадебного текста», выявляется роль цветовой символики.
Во второй главе определяется влияние творчества ряда художников на раннюю лирику Г. Иванова (западноевропейских Ван Дейка, Ватто, Лоррена и Гейнсборо и русского Б. Кустодиева) в контексте поэтики экфразиса как способа воплощения пасторальности.
В Заключении подводятся итоги исследования, намечаются дальнейшие перспективы изучения лирики Г. Иванова.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Таким образом, в своем обращении к живописи Г. Иванов не просто находит параллели литературы и этого вида искусства, перед нами интересная и очень плодотворная попытка осуществления нового синтеза искусств, провозглашенного в свое время символистами и реализованная поэтом в рамках акмеистического течения. В своих словесных картинах Г. Иванов использует почти художнические приемы в композиции, колористике, создании перспективы. «Живописные» способы освоения мира благодаря экфразису оказываются применимыми и к поэзии, обогащая ее новыми возможностями в выражении прекрасного.
Для Г. Иванова культура — единое семантическое поле, он творит свои словесные зарисовки, где в качестве красок могут выступать как живописные, так и литературные образы. Эстетическая игра с ними не афишируется поэтом, она спрятана в саму ткань художественного текста и не всеми сразу может быть обнаружена, поскольку ранние стихи Г. Иванова действительно завораживают своей «гладкостью» и лаконизмом. В едином пасторальном мире сближаются у поэта художники с совершенно разными творческими манерами. Роль литературного контекста в том, что сопоставление разновременных поэтических пластов «подсвечивает» художников, открывая в них способность к культурному диалогу с художественным словом. Драматизируя их, поэт тут же снижает патетичность иронией, вводя читателя в ситуацию «культурной игры», свойственной эпохе начала XX века.
Раннее творчество Г. Иванова отличается, прежде всего, своим ретроспективизмом, обращенностью к культурному наследию прошлого, ценность которого не подвергается им сомнению, несмотря на тенденцию активного пересмотра «духовного багажа» человечества отдельными поэтическими течениями (в частности, эгофутуризмом, с которым поэт вступил в свое время в кратковременный союз). Ориентируясь на эстетические принципы художников «Мира искусства», Г. Иванов создает свой пасторальный усадебный" мир, укрывая от разрушительного воздействия современности милую сердцу дворянскую старину. «Усадебный текст» его ранней лирики отразил общие для того времени ностальгические настроения, связанные с уходящей дворянской культурой, во многом объяснил пристрастие Г. Иванова к эпохе XVIII века, актуализировавшей пастораль как способ мирочувствования.
Пасторальный модус, во многом определяющий настрой ранней лирики Г. Иванова, таким образом, уравнивает как живопись и слово, так и различные художественные стили, сглаживает исторически сложившиеся между ними противоречия, «примиряет» их в едином пространстве культуры.
Способом воплощения пасторальности станет у F. Иванова экфразис как наиболее адекватная форма передачи взаимодействия поэзии и живописи, актуального для культуры Серебряного века синтеза искусств. Поэт разрабатывает словесные формулы для передачи живописного изображения, трехмерного по своей сути, являющегося копией действительности, на плоскость листа, чтобы затем оно возникло уже в мыслях читателя, став тем самым уже «копией копии» .
Синтез искусств, о котором мечтали символисты, должен был объединить литературу, живопись и музыку в некую новую структуру. Их порыв объясняется общими тенденциями в различных видах искусств того времени, и собственно литературные задачи уходят в таком случае на задний план, ведь речь идет о рождении новой философии. У Г. Иванова синтез совершенно иной природы, акмеистического толка, сохраняющий примат Слова, ибо его творения при всем богатстве живописных параллелей остаются поэзией. Г. Иванов включает живопись в систему поэзии, его лирику пронизывает вера в безграничные возможности поэтического слова.
Экфразис как категория, реализующая перевод специфических черт живописи в ранг словесного творчества, претерпевает у Г. Иванова качественную метаморфозу. Поначалу, следуя акмеистическим установкам, поэт почти буквально переводит живописный объект в поэтическую форму, экфразис, в привычном понимании термина, встречается достаточно часто: это узнаваемые описания скульптур, картин и предметов интерьера. Связь с «оригиналом» еще очень сильна, словно поэт не может от него отступить. Целью на данный момент для поэта является точное и скрупулезное «копирование» в словесной форме культурных объектов. Далее поэт обретает свободу пера, и, чувствуя рост собственного поэтического самосознания, начинает активно демонстрировать фактически безграничные возможности слова как универсального знака. Он свободно «рисует» словом уже воображаемые картины, и его картины оказываются богаче и интереснее, чем «копии с оригинала». Экфразиса в привычном понимании в последующих сборниках становится все меньше, это уже не собственно описания, а некие умозрительные полотна. Построенные по экфрастическим правилам, они не имеют, тем не менее, «оригинала» — теперь поэт в нем не нуждается, он более не зависит в такой степени от «источника», в какой зависел ранее. Тенденция к подражательству сменяется желанием сказать миру собственное слово, это видно из качественного изменения характера экфразиса. «Живописных» примет становится меньше, равно как и косвенных указаний на «рамки», статичные изображения сменяются более динамичными, в частности, «плоскостный» пейзаж обретает зримые, объемные формы (особенно явно это наблюдается в сборнике «Сады»), портрет становится более похожим на психологический рассказ о персонаже, пасторальное настроение продолжает доминировать.
Если в ранней лирике Г. Иванова идиллическое настроение остается основным, то в поздней лирике пасторальность уступит место экзистенциальному осмыслению действительности. Связанный с идиллическим началом экфразис практически перестанет проявлять себя в зрелых стихах, но их тесный союз в ранней лирике окажется, в целом, весьма продуктивным для дальнейшего формирования поэтического сознания у Г. Иванова.
Внимательное и вдумчивое прочтение ранних поэтических опытов Г. Иванова помогает понять, почему он, бывший долгое время на «вторых ролях» на поэтической сцене и часто обвинявшийся в эпигонстве, вдруг, после эмиграции, оказывается на уровне крупных величин. Экфрастически выраженное пасторальное начало в ранней лирике станет одним из его творческих истоков. Именно так оттачивалось его перо и формировалось художественное сознание. Экфразис научил его поэтической зоркости, точности в выражении собственных ощущений и переживаний от увиденного.
Ранние стихи не стали классикой Г. Иванова, не стали его «визитной карточкой», сам он впоследствии отказался продолжать писать в пасторальном духе, но его первый поэтический опыт навсегда вошел в него, сделал из него настоящего поэта. Вынужденная эмиграция, нужда и депрессия заставят поэта изменить жизненную и, следовательно, поэтическую позицию. В зрелых своих стихах он честно и порой цинично смотрит в лицо действительности, что резко контрастирует с идиллической тональностью его ранней лирики, но школа поэтического мастерства, пройденная им, превратит его впоследствии в настоящего мастера.
В качестве перспективы исследования обозначим возможность рассмотрения экфразиса как аспекта поэтики в лирике Г. Иванова 10−20-х годов XX века, определить ряд других его функций в контексте раннего творчества поэта. Кроме того, представляет интерес дальнейшая судьба пасторали в ее экфрастической выраженности в поздней лирике Г. Иванова, а также дальнейшие метаморфозы самого экфразиса. Проблемным является вопрос о соотнесении экфразиса и интертекста в широком смысле, не только как межтекстуального, словесного взаимодействия, но и как проявления синтеза искусств. Пасторальность — не единственная характерная примета ранней лирики поэтаперспективно рассмотреть и другие ее приметы, явившиеся истоками творчества Г. Иванова, большого поэта, наследника традиций великой русской литературы.
Список литературы
- Абызов, Ю. Рига глазами Георгия Иванова // Даугава. — 1987. — № 8. -С. 110−111.
- Алекова, Е. А. Поэзия Георгия Иванова периода эмиграции : проблемы творческой эволюции / Е. А. Алекова: дис.. канд. филол. наук. М., 1994.-249 с.
- Алпатов, М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства / М. В. Алпатов. М., 1963. — 645 с.
- Альфонсов, В. Слова и краски / В. Альфонсов. М. — JI.: Советский писатель, 1996. — 327 с.
- Антуан Ватто: альбом / сост. и вступ. ст. Ю. К. Золотова. JI.: Аврора, 1973.-231 с.
- Арьев, А. Власть речи // Звезда. 1999. — № 3. — С. 134−137.
- Ахматова, А. Сочинения: в 2 т. Т. 1. Стихотворения и поэмы. Изд. 2-е испр. и доп. — М.: Художественная лит., 1990. — 526 с.
- Багно, В. Е. Зарубежная архитектура в русской поэзии конца XIX -начала XX века // Русская архитектура и зарубежное искусство: сб. исслед. / ред. М. П. Алексеев и Р. Ю. Данилевский. JI.: Наука, 1986. -С. 156−188.
- Базен, Ж. Барокко и рококо / Жермен Базен. М.: Слово, 2001. — 286 с.
- Бахтин, М. М. Проблема текста : опыт философского анализа // Вопр. лит. 1976. — № 10. — С. 122−150.
- Белый, А. Поэзия слова. Пушкин. Тютчев. Баратынский. Вяч. Иванов. А. Блок / А. Белый. Пг.: Эпоха, 1922. — 134 с.
- Бенуа, А. Живописный Петербург // Мир искусства. 1902. — № 1. — С. 1−5.
- Бицилли, П. Г. Иванов: отплытие на о. Цитеру. // Современные записки. 1937. — № 64. — С. 458−459.
- Блок, А. А. Собрание сочинений : в 8 т. Т. 3 / А. А. Блок. М. — J1., 1960.-С. 377.
- Богомолов, Н. А. Комментарии к стихотворениям // Иванов Г. В. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. -М.: Книга, 1989. С. 526−538.
- Богомолов, Н. А. Талант двойного зренья // Вопр. лит. 1989. — № 2. -С. 132−167.
- Брагинская, Н. В. «Картины» Филострата старшего: генезис и структура диалога перед изображением // Одиссей. 1994. — № 4 — С. 282−283.
- Брагинская, Н. В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканской языкознание. Карпато -восточнославянские параллели. Структура балканского текста / Н. В. Брагинская. -М.: Наука, 1997. С. 259−283.
- Вейдле, В. В. Георгий Иванов // Континент. 1927. — № 11. — С. 359— 369.
- Вейдле, В. В. Петербургская поэтика // Вопр. лит. 1990. — № 7. — С. 108−127.
- Волков, Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. М., 1980. — 711 с.
- Воспоминания о серебряном веке. М.: Республика, 1993. — 558 с.
- Гаврин, В. В. Иносказание в портретной живописи второй половины XVIII века / В. В. Гаврин: автореф.. канд. искусствоведения. М., 2002. — 25 с.
- Глембоцкая, Я. О. Творческая рефлексия в контексте художественной циклизации (на материале русской поэзии XX века) / Я. О. Глембоцкая: дис.. канд. филол. наук. Кемерово, 1999.
- Гордин, А. Я. Распад, или перекличка во мраке // Знание сила. -1990.-№ 12.-С. 43−45.
- Гудимова, С. А. Символы культур / С. А. Гудимова. М.: РАН ИНИОН, 2002.-216 с.
- Гуль, Р. Б. Георгий Иванов // Критика русского зарубежья / сост., авт. примеч. О. А. Коростелев, Н. Г. Мельников М.: Олимп, 2002. — Т. 2. -С. 194−213.
- Гумбольдт, В. Язык и философия / В. Гумбольдт. М., 1985.
- Гумилев, Н. Стихи. Письма о русской поэзии / Н. Гумилев. М.: Художественная лит., 1989. — 446 с.
- Гурвич, И. Восхождение поэта // Вопр. лит. 1998. — № 5. — С. 36−53.
- Данилова, И. Е. Мир внутри и вне стен : интерьер и пейзаж в европейской живописи XV XX веков / И. Е. Данилова — Рос. гуманит. ун-т, Ин-т высш. гуманит. исслед. — М.: РГГУ, 1999. — 68 с. — (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 26).
- Данилович, Т. В. Культурный компонент поэтического творчества Георгия Иванова: функции, семантика, способы воплощения / Т. В. Данилович. Минск: БГПУ, 2003.
- Державин, Г. Р. Сочинения / Г. Р. Державин. JI.: Художественная лит., 1987.-504 с.
- Дмитриева, Е. Е. Жизнь усадебного мифа : утраченный и обретенный рай / Е. Е. Дмитриева, О. Н Купцова. М.: ОГИ, 2003. — 528 с.
- Докучаева, В. Н. Борис Кустодиев. Жизнь в творчестве / В. Н. Докучаева. М., 1991. — 206 с.
- Евангулова, О. С. Художественная «Вселенная» русской усадьбы / О. С. Евангулова. М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 304 с.
- Есаулов, И. А. Идиллическое у Мандельштама. // Творчество Мандельштама и вопросы исторической поэтики: межвуз. сб. науч. тр. Кемерово, 1990. — С. 38−56.
- Жирмунский, В. М. Поэтика русской поэзии / В. М. Жирмунский. — СПб.: Азбука-классика, 2001. 496 с.
- Зыкова, Е. П. Поэма о сельской усадьбе в русской идиллической традиции // Миф. Пастораль. Утопия: материалы науч. межрегион, семинара. -М.: МГОПУ, 1998. С. 58−99.
- Иванов, Г. В. Девять писем к Роману Гулю // Звезда. 1993. — № 3. -С. 138−158.
- Иванов, Г. В. Закат над Петербургом / Г. В. Иванов. М.: ОЛМА -ПРЕСС.-2002.-345 с.
- Иванов, Г. В. Петербургские зимы / Г. В. Иванов. Спб.: Азбука. -2000.-228 с.
- Иванов, Г. В. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 3 / Г. В. Иванов. М., 1994.-С. 475.
- Иванов, Г. В. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени / Г. В. Иванов. М.: Книга, 1989. — 574 с.
- Иванова, И. Н. Ирония в художественном мире Г. Иванова / И. Н. Иванова: дис.. канд. филол. наук. Ставрополь, 1998. — 181 с.
- Иванова, И. Н. Исторические судьбы русской поэзии // Интеллигенция в России: история и судьбы. Ставрополь, 1999. — С. 4415.
- Иткина, Е. И. Русский рисованный лубок конца XVIII начала XX века / Е. И. Иткина. — М., 1992. — 233 с. 61.