Быт больших коммунальных квартир г. Ленинграда (Санкт-Петербурга) в 1970-1990-е гг.: Стереотипы повседневного поведения
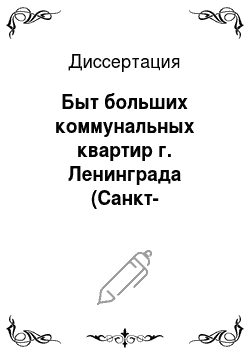
Появление коммунальных квартир в крупных городах стало результатом жилищной политики советской власти, реализация которой привела к перераспределению жилья: после упразднения в августе 1918 года частной собственности на недвижимость в городах большие квартиры в центральной части города перешли из рук представителей бывших обеспеченных классов общества в распоряжение государства. К началу 1930;х… Читать ещё >
Быт больших коммунальных квартир г. Ленинграда (Санкт-Петербурга) в 1970-1990-е гг.: Стереотипы повседневного поведения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Содержание
- Введение (3)
- Глава 1. Коммунальная квартира и семиотика пространства жилища. (20)
- 1. 1. Общий план коммунальной квартиры. Публичное пространство
- 1. 2. Приватное пространство: комнаты коммунальной квартиры
- 1. 3. Семиотические аспекты пространства коммунальной квартиры
- 1. 4. «Пустая комната» как феномен современной коммунальной квартиры
- Глава 2. Справедливость в распределении благ и усилий. Зависть и контроль сообщества за индивидуальной долей. (57)
- Глава 3. Чистота и гигиенические представления. (87)
- Глава 4. Отношения внутри коллектива соседей (105)
- 4. 1. Коммуникативная «прозрачность» пространства и проблематика приватной сферы индивида
- 4. 2. Этикетные нормы коммуникативного взаимодействия и их использование
- 4. 3. Авторитет и отношения власти в коммунальном коллективе
- 4. 4. Коммунальный коллектив и девиантное поведение
- Глава 5. «Параноиды жилья»: к вопросу о культурных детерминантах психопатологии. (168)
- 5. 1. Воровство
- 5. 2. Патологическая подозрительность и ее отношения к нормальным интерпретационным моделям, присущим коммунальной повседневности
- Глава 6. Фольклор коммунальных квартир. Представления жителей о местной истории. (195)
Предлагаемая работа представляет собой этнографическое исследование практик повседневного поведения и организации быта, характерных для т.н. «коммунальных квартир» — специфического для крупных советских городов типа жилища. Предмет исследования относится к сравнительно новой, но уже вполне сложившейся отрасли этнографии — этнографии города, однако угол его рассмотрения, как следует из подзаголовка («стереотипы повседневного поведения»), предполагает скорее социопсихологический взгляд на проблематику коммунальной квартиры как типа жилища, а также элементы семиотического подхода.
Появление коммунальных квартир в крупных городах стало результатом жилищной политики советской власти, реализация которой привела к перераспределению жилья: после упразднения в августе 1918 года частной собственности на недвижимость в городах большие квартиры в центральной части города перешли из рук представителей бывших обеспеченных классов общества в распоряжение государства. К началу 1930;х годов основным типом жилища в Ленинграде были квартиры, находившиеся в государственной (или ведомственной) собственности, где несколько неродственных семей проживали совместно, причем «жилплощадь» распределялась в соответствии с установленной «санитарной нормой», а жильцы, зачастую принадлежавшие к разным социальным группам, не имели возможности выбирать соседей. Распорядок жизни в таких квартирах формально регулировался официально утвержденными правилами, за соблюдением которых следил «квартирный уполномоченный», выбираемый из числа жильцов. Именно такие многонаселенные квартиры без квартирохозяина, находящиеся в государственной, муниципальной или ведомственной собственности, ниже имеются в виду под коммунальными квартирами (КК).
Совместное проживание в одной квартире большого числа жильцов означало, что в условиях тесноты и ограниченного доступа к бытовым удобствам общего пользовании люди находятся в постоянном контакте друг с другом. Это неизбежно влекло за собой выработку особых форм взаимодействия между соседями, специфических практик повседневного бытового поведения. Формы взаимодействия, призванные решать повседневные проблемы коллектива КК и его участников, возникали спонтанно — и действовали в рамках норм, продиктованных официальными правилами внутреннего распорядка в квартирах. Хотя формы поведения в коммунальном быту и претерпели определенную эволюцию на протяжении всего периода существования КК, в целом основные черты коммунального быта сохранялись вплоть до конца социалистического строя. В 1990;е годы в связи с целым рядом обстоятельств, среди которых резкое уменьшение плотности населения квартир, ослабление административного контроля и исчезновение его идеологической окраски, ухудшение работы коммунальных служб, а также ряд социальных факторов, в быту КК произошли существенные изменения.
Указанные явления и процессы представляют собой уникальный и практически незатронутый прежде материал для этнографического исследования. Ни организация пространства жилища, ни вещная среда, на фоне которой разворачивается повседневная жизнь обитателей КК, ни привычные способы реализации их бытовых потребностей, ни формы повседневного взаимодействия соседей — ничто из перечисленного до сих пор не становилось предметом специального исследования. Отчасти это объясняется тем, что феномен КК, будучи «изнанкой» социалистической действительности, едва ли был бы признан достойным предметом изучения в условиях известных идеологических ограничений, которых не избегли отечественные обществоведческие дисциплины в советское время. Между тем, в начале исследуемого периода (1970;е годы) в КК проживало более половины населения Ленинграда, а на 2000 год в Петербурге жителями КК являлись не менее одной шестой части жителей города.
Ниже в этом разделе мы укажем на научные традиции, составляющие дисциплинарный контекст исследования, определим проблемы, источники сведений, цели и задачи, а также кратко опишем структуру работы.
Проблематика современного городского быта в отечественной науке.
Быт и бытовая культура являются традиционным предметом этнографического и социологического исследования. Место этой сферы жизни в системе культуры получило в отечественной науке и теоретическое осмысление. Так, например, Ю. В. Бромлей дает быту следующее определение: «Сферу непосредственного потребления, удовлетворения материальных и духовных потребностей людей в нашей научной литературе принято обозначать термином „быт“. Соответственно относящиеся к этой сфере человеческой деятельности компоненты культуры представляется правомерным именовать бытовой культурой. Наряду с самой деятельностью и ее опредмеченными результатами бытовая культура включает, на наш взгляд, также нормы повседневного поведения, складывающихся в быту взаимоотношенийк бытовой культуре в широком смысле слова, очевидно, следует отнести и ту часть знаний, потребление которых непосредственно обеспечивает жизнедеятельность людей» (Бромлей 1973, 50)1.
Приведенное определение исчерпывающим образом характеризует объект нашего исследовательского интереса применительно к КК как типу жилища. В перспективе концепции этноса, предложенной Ю. В. Бромлеем, исследования быта видятся весьма значимыми, хотя и прикладными по преимуществу: быт оказывается средоточением важных этнических признаков. Нельзя не отметить, что большое место принадлежит здесь собственно семиотическим компонентам2, «значениям», которые и является для исследователя объектом моделирования.
1 Ср. более «бедное» определение в социологическом ключе: быт как «область личного потребления материальных и культурных ценностей и непосредственно связанного с ним труда» (Гордон, Клопов 1972, 10).
2 «. немалая роль в функционировании этноса как целостной системы принадлежит так называемым „значениям“ — стереотипам, фиксирующим типичные для его членов „понятия“, „знания“, „умения“, „нормы поведения“. Представляя „пограничную“ зону общественного сознания (на его обыденном уровне) и бытовой культуры, эти стереотипы выполняют важную функцию в воссоздании типичных для каждого этноса свойств» (Бромлей 1973, 94).
Аналогичный вывод, но применительно уже к бытовой культуре русского городского населения, делают О. Р. Будина и М. Н. Шмелева: «накопленный к настоящему времени опыт работы в области этнографической урбанистики позволяет утверждать, что бытовая культура городского населения обладает этнической спецификой» (Будина. Шмелева, 1989, 5). Поиск этнически специфичных черт составляет неотъемлемую часть этнографического изучения культуры. Однако, как представляется, при обращении не к широкой проблеме «этнографии города» в целом, а к такому узко очерченному предмету как КК, выявление этнической специфики имело бы смысл исключительно при условии сопоставления с аналогичным предметом, принадлежащим иной этнической общности, что в нашем случае не входит в задачу исследования. Рассматривая же быт ленинградской коммунальной квартиры как таковой, мы вынужденно выносим его этнические характеристики за скобки — ибо никак нельзя утверждать, что они специфичны именно для КК и не встречаются в других типах жилища (в отдельных квартирах, в общежитиях).
Более точно определяя объект нашего исследования в русле «этнографии города», можно сказать, что он относится к одной из форм организации домашнего быта, по сути своей связанного с типом жилища — в данном случае, городского. Наряду с домашним бытом выделяются и другие бытовые сферы, в равной мере обладающие свойствами традиционности, привычности, исторической и социально-культурной конкретности. Это формулируется в одном из наиболее ранних в отечественной науке развернутых определений: «С широкой точки зрения быт может быть определен как повседневный образ жизни людей, основывающийся на привычном распорядке, традициях, установившихся отношениях между людьми и иных явлениях, сложившихся в процессе общественной (в том числе производственной) деятельности людей, в их семейном и домашнем обиходе [.] закономерно говорить о быте общественном, производственном и домашнем (или, что шире, семейном). В быту находят свое проявление и в значительной мере определяют его три важнейших стороны жизни: материально-экономическая (формы и способы удовлетворения потребностей людей), общественно-культурная (формы и способы удовлетворения общественных и культурных запросов) и моральная, характеризующая взаимоотношения между людьми (в семье, на производстве, в процессе общественной деятельности). Во взаимодействии этих сторон складывается определенный уклад жизни, или тот повседневный образ жизни людей, который становится привычным для того или другого общества, народа, класса в тот или иной исторический период». (Анохина, Крупянская, Шмелева 1965, 16−17).
Отношения, в которые вступают между собой люди в домашнем быту, напрямую зависят от того, как устроен их дом и как организовано домашнее хозяйство: либо это отношения членов семьи, либо членов группы родственных семей, либо же — как в КК — особую роль начинают играть соседские отношения между людьми, не являющимися родственниками.
Изучение современного городского быта в отечественной науке имеет не очень давнюю, но весьма обширную традицию. Нельзя не отметить, что попытки обратиться к изучению отдельных групп городского населения предпринимались уже более века назад. Об уровне постановки этой задачи свидетельствует, например, разработанная В. Н. Тенишевем программа собирания соответствующих сведений (см. о ней Рабинович 1968).
Куда более традиционны исследования бытовой культуры в историческом разрезе (ср., например, классические работы И. Е. Забелина про домашний быт русских царей и цариц). На современном этапе и на новом теоретическом уровне этот угол зрения нашел свое воплощение в интереснейших историко-этнографических очерки М. Г. Рабиновича о русском феодальном городе (Рабинович 1978, Рабинович 1988) — в каком-то смысле, сюда же относятся и работы, представленные в сборнике под редакцией Н. В. Юхневой (Юхнева 1987).
Современные актуальные материалы о городском быте собирались и анализировались, начиная с 1920;х годов, в русле социологических исследований, преимущественно количественными методами и применительно к быту рабочихвпрочем, уже в начале века на эту тему появлялось значительное число публикаций статистического характера. Среди исследований двадцатых годов, появлявшихся на фоне широкой дискусси о формах построения нового, социалистического быта, встречались во многих отношениях выдающиеся работы (например, Кабо 1928, Струмилин 1926), по сей день остающиеся не только ценным источником сведений, но поучительными образцами в отношении методологии. Методики составления бюджета времени, полная инвентаризация домашнего имущества, бюджета расходов семьи и некоторые другие вошли в число социологических и этнографических методик.
В рамках этнографии обращение к современному городскому быту до самого последнего времени трактовалось как расширение устоявшихся дисциплинарных границ. Показательно высказывание С. А. Токарева в обобщающей статье, во многом определившей ход конкретных исследований в советской этнографии города: «.признание того, что быт рабочих может стать полноправным предметом этнографического исследования, означало принципиальное расширение сферы компетенции этнографической науки» (Токарев 1967, 139).
Этнографическое изучение быта рабочих начинается с пятидесятых годов, во многом по идеологическому заказу. Так прежде изучался быт советского села, так стали изучать городской быт рабочих. Задачей исследователей было, в частности, показать преимущество социалистического строя и прогресс, достигнутый на пути социалистического преобразования повседневности. Особенно активно работа в области городского быта, прежде всего, на материале отдельных групп рабочих (в единицу исследования выделялся трудовой коллектив), развернулась после публикации в журнале «Коммунист» анонимной рецензии «Журнал советских этнографов», перепечатанной затем в «Советской этнографии» (1963, № 4), где речь шла, в частности, о недостаточно активной работе в области этнографии современного рабочего класса.
В 1964 году сектор восточнославянской этнографии Института этнографии АН СССР развернул программу исследований в городах (см. Анохина, Шмелева 1966). Частично методы комплексного исследования были уже опробованы на изучении сельского быта (ср. Село Вирятино 1958), но городская специфика требовала разработки особого инструментария. Нельзя сказать, однако, что это были первые отечественные собственно этнографические исследования быта рабочих. Так, например, в начале тридцатых годов этнографы, работавшие при Русском музее в Ленинграде, привезли из экспедиций значительное число предметов материальной культуры, относящихся к быту рабочих, частью дореволюционному, частью современному — сейчас эта коллекция находится в фондах Российского этнографического музея в Петербурге. Однако систематическими эти исследования становятся в середине 1960;х.
Идеологическое задание, в принципе, не мешало собирать ценный описательный материал — оно лишь предопределяло выводы: сравнение прошлого и настоящего, бывшее лейтмотивом, всегда решало вопрос в пользу настоящего. Уже названия статей, многие из которых содержат рефрен «.в прошлом и настоящем», красноречивы. Низкий теоретический уровень обобщений отмечал, в частности, С. А. Токарев в уже цитировавшейся этапной статье, указавшей место подобных исследований в актуальном дисциплинарном поле этнографической науки: «Перед нами зачастую просто сырой описательный материал, или, если есть попытки обобщения, то они очень элементарны» (Токарев 1967, 140). Такого рода элементарные обобщения были, скорее, просто группировкой данных по тем или иным признакам. Так, в любом предмете, отражающем социальные отношения, можно обнаружить различия, коррелирующие с тендерной, возрастной и другими видами стратификацииуказание на такие различия (трактуемые как социальные в социологии и как этнические в этнографии) зачастую и до сих пор признается достаточным содержанием исследования.
Пожалуй, наиболее содержательные и интересные работы были посвящены быту рабочих Урала (Крупянская, Будина, Полищук, Юхнева 1974). Подведением промежуточного итога этнографических исследований в области рабочего быта стал сборник статей под редакцией В. Ю. Крупянской (Крупянская 1968), явившийся заметным событием в советской этнографии.
Активное изучение городского населения в целом, а не только рабочего класса, начинается со второй половины 1960;х. Сюда подключаются, с одной стороны, социологи, с другой — философы. Философское и социологическое осмысление проблематики быта и жилища также носило явные следы социального заказа, но и среди работ, обращавшихся к социалистическому образу жизни, встречались добросовестные научные сочинения, осмысленные по крайней мере в области историографии — ср., к примеру, вдумчивый исторический обзор проблематики в книге (Зуйкова 1977).
Комплексные исследования этнографии среднерусских городов относятся уже к 1970;м годам — прежде всего, это материалы экспедиций 1965;1975 годов, работавших в Калуге, Ельце и Ефремове, см. работу J1.A. Анохиной и М. Н. Шмелевой (Анохина, Шмелева 1977). В этом круге исследований также обращается внимание либо на этническую специфику, либо на судьбы традиционной культуры (Будина, Шмелева 1989), но разработанные методы комплексного описания локальных традиций дают содержательную интерпретацию большому числу параметров (в частности, особенности, связанные с профессиональной принадлежностью, образовательным уровнем, миграцией из тех или иных районов). Отдельным предметом исследования оказывается семейный быт (Шмелева 1989).
Вектор интереса исследователей постепенно меняется: например, в наблюдениях над организацией жилища описываются не достижения урбанизации, а обнаруживаются следы традиционной культуры — даже если об этом не говорится прямо. Так, в разделе «Массовое жилище в современном городе» совершенно справедливо замечено, что «в отношении домов, возведенных индустриальными методами, не приходится говорить о продолжении народных традиций в области конструкции дома, его планировки и т. д.» (Будина, Шмелева 1989, 87) — характерен, однако, сам фокус внимания исследователей. Они специально подчеркивают, что имеющиеся работы пока не учитывают важного аспекта темы: проблема «традиционности современного быта, культурной преемственности в нем как бы выпадает из поля зрения исследователей» (Будина, Шмелева 1982, 27- ср. также Будина, Шмелева 1987), эта проблема, по мнению авторов, является ключевой для этнографических исследований городской современности (Будина, Шмелева, 1989, 5).
Изучение коммунальной квартиры как феномена советской бытовой культуры.
Как писали в семидесятые годы исследователи советского образа жизни, «в социалистическом образе жизни. реализуются социальные, политические, идейные принципы и нравственные нормы социализма во всех сферах деятельности людей и в их ценностных ориентациях» (Гордон, Клопов, Оников 1977, 25). С этим утверждением невозможно спорить. Мы примем его с одной лишь поправкой: не праздничная и парадная сторона социалистического образа жизни, а его повседневная реальность для значительной части городского населения сводилась к обитанию в коммунальной квартире. Именно здесь мы, действительно, найдем квинтэссенцию советского бытаименно здесь, в условиях колективного проживания, проверяется на пригодность «моральный кодекс строителя коммунизма»: в отношениях коммунальных соседей мы увидим, с одной стороны, проявления коллективизма и взаимопомощи, а с другой, обостренную конфликтность, подозрительность, скрытую враждебность друг к друту. Не декларативно провозглашаемые, а реальные социальные принципы и нравственные нормы социализма воплощаются в практике коммунального общежития.
Явления, аналогичные коммунальным квартирам в СССР, известны, разумеется, и в других странах, ибо стесненные жилищные условия в сочетании с высокой плотностью населения и сравнительной бедностью отнюдь не специфичны для советских городов. Поскольку в настоящей работе мы не задавались целью проводить сопоставления, едва ли позволительно делать утверждения о сугубой самобытности коммунальных квартир как явления бытовой культуры. Однако из общих типологических соображений все-таки разумно предположить, что особенности жилищной и социальной политики советского государства привели к складыванию уникального комплекса культурных черт, наблюдаемых в организации быта коммунальных квартир. Уникальны, разумеется, не те проблемы, которые стоят перед людьми в повседневной жизниспецифичны, скорее, способы их решения в конкретных обстоятельствах, тактики поведения, формы, в которых воплощают в жизнь и интерпретируют в реальной повседневной практике полученные извне правила бытового распорядка.
В упомянутых выше работах по этнографии города мы не увидим сколько-нибудь подробного анализа коммунальной повседневности. Между тем, там встречаются отдельные указания на особенности коммунального быта. Так, в известной работе Л. А. Анохиной и М. Н. Шмелевой, посвященной городскому населению средней полосы РСФСР, коммунальным («общим») квартирам дано определение («общие квартиры, состоящие из нескольких комнат, в которых проживают семьи, обычно не связанные узами родства» — Анохина, Шмелева 1977, 207). Само явление не рассматривается в деталях — данному типу жилища посвящены всего четыре абзаца, где, однако, сформулировано очевидное, но весьма важное для нас положение о том, что в таких квартирах «число бытовых функций у жилых помещений., как правило, больше» (Анохина, Шмелева 1977, 220). Там же специально оговорен вариант проживания «подселенца» в отдельной квартире, что, заметим, фактически придает бытовым отношениям отдельные черты малонаселенной коммунальной квартиры — впрочем, самое главное отличительное свойство коммунальной квартиры, отсутствие квартирохозяина как источника порядка, в этих случаях отсутствует.
В другом исследовании по городской этнографии мы встречаем следующее наблюдение: «В условиях однокомнатной квартиры в многоэтажном доме, так же как и в односрубном неразделенном индивидуальном доме или в комнате в коммунальной квартире, приходится совмещать несколько зон в одном помещении. При этом имеет место как пространственное, так и временное (когда в разное время суток помещение имеет неодинаковое назначение) условное разграничение площади» (Будина, Шмелева 1989, 100) — здесь подмечены сразу несколько обстоятельств, ключевых для нашей работы. Во-первых, тот факт, что проблемы, пусть и специфическим образом решаемые в коммунальном быту, не являются уникальными именно для коммунальных квартир. Этим подчеркивается важность получаемых выводов для сопоставительного исследования. Во-вторых, пространственное и временное разграничение, безусловно, является важнейшим аспектом коммунального быта. Оно, однако, имеет место не только в комнате съемщика, но и в публичном пространстве, в местах общего пользования, где и разворачивается все многообразие соседских, а не родственных отношений внутри квартиры. Вот эти отношения — равно их объективированные, институциализованные формы, и определяемые тактиками повседневного поведения спонтанные формы — и являются основным предметам нашего исследования.
Упомянутые выше места в двух работах по этнографии города — по-видимому, и есть все то немногое, что сделано советской и постсоветской этнографией в области изучения КК. Послеперестроечная социология изучала КК гораздо активнее, и целый ряд опубликованных работ содержат не только ценные сведения из области социальной истории КК, но и обобщающие выводы. Прежде всего следует отметить диссертацию Е. Ю. Герасимовой, специально посвященную этой теме (Герасимова 2000), где с исчерпывающей полнотой и с опорой на архивные материалы прослеживается эволюция официального дискурса, показываются изменения реальной исторической ситуации, а также проводится анализ биографической информации, полученной в многочисленных интервью с жильцами КК. Поскольку эти интервью содержат показательный этнографический материал, в ряде мест мы ссылаемся на них в нашем исследовании.
Отдельные наблюдения о КК как явлении советской бытовой культуры и жилищной политики можно почерпнуть из западных публикаций — начиная с классической работы о жилищной политике в СССР (Sosnovy 1954) и кончая публицистической работой о советском образе жизни и мысли, где КК посвящена отдельная глава (Воут 1994).
Источники, сбор информации и методы анализа.
Основным источником послужили материалы собственных полевых исследований автора, проведенных с 1992 по 1999 год, в том числе методом включенного наблюдения. В период активного сбора материалов методами интервьюирования, наблюдения и фотографирования в 1997;98 годах, были обследованы 20 квартир в центральных районах С.-Петербурга. Население квартир на момент обследования составляло от 6 до 26 человек. С самого начала работы подтвердилась гипотеза о том, что имеются качественные отличия в организации быта больших и средних КК по сравнению с КК малого размера. Квартирами малого размера мы будем условно считать квартиры, где проживают три или два съемщикаобщее их население может достигать восьми или даже десяти жильцов, поскольку съемщики могут проживать со своими семьями, однако практически наиболее часто встречается ситуация, когда семьи в таких квартирах немногочисленны (так как одно из поколений семьи проживает отдельно), один или два съемщикаодинокие пожилые люди, а одна из комнат сдается временным жильцам.
Было решено сосредоточить внимание на материале, относящемся к преимущественно большим и средним КК, поскольку именно в таких квартирах можно наблюдать в развернутом виде формы организации коллективного быта и влияние «общественного мнения» квартиры. 12 квартир, попадающих в эту категорию, были обследованы более подробно путем повторных глубинных интервью с отдельными жильцами. Интервью, проводимые в форме свободной беседы, направлялись вопросами исследователя, но не были структурированы в соответствии с последовательностью рубрик вопросника.
При анализе данных, полученных при наблюдении и в интервью, эпизодически привлекались материалы публикаций, в основном нормативного и справочного характера, а также архивные материалы (по большей части, жалобы жильцов КК в советские органы, хранящиеся в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга).
Интерпретация полученных данных проводилась с опорой на методы семиотического анализа, восходящие, с одной стороны, к работам тартуско-московской семиотической школы (где эти методы применялись в основном к анализу русской культуры либо некоторых традиционных культур) и, с другой стороны, к работам ряда западных исследователей (К.Гирц, А-Ж.Греймас и др.), обращавшихся к широкому кругу этнологических и социологических вопросов. Была сделана попытка учесть методологические достижения семиотически ориентированных антропологов и социологов, уделявших особое внимание межличностному общению и проявлениям в поведении бессознательных культурных стереотипов (Г.Бейтсон, Э. Холл, Э. Гофман), а также определенные уроки постструктуральной парадигмы в социологическом исследовании повседневности (П.Бурдье, М. де Серто). Среди работ, определивших выбор методологии анализа, следует специально указать работы А. К. Байбурина, где впервые систематически применяются семиотические методы к анализу жилища (Байбурин 1983), а также обобщаются пути семантического анализа форм ритуального и этикетного поведения (Байбурин 1993; Байбурин, Топорков 1990).
Выявленные в ходе анализа фрагменты системы представлений жителя КК, стоящие за стереотипами его повседневного поведения, трактуются в рамках представления о культуре как совокупности знаковых систем, находящих свое выражение в текстах — в частности, в поступках, рассматриваемых как своеобразные поведенческие тексты. Поскольку закономерности строения этих систем зачастую скрыты от их пользователей, имеет смысл говорить о бессознательных стереотипах поведения. Раскрытие этих закономерностей требует специальных исследовательских процедур, в какой-то мере аналогичных тем, что используются в семантических и прагматических исследованиях в лингвистике. Данные наблюдений, будучи сопоставлены с различными мотивировками поступков, предлагаемыми информантами, позволяют выявить принципы интерпретации событий и поведения, которыми реально пользуются носители описываемой системы представлений.
Сложность заключается в том, что единая система представленийабстракция, использование которой возможно лишь с определенными оговорками. Очевидно, при таком подходе «неоднородности» предмета исследования, связанные с социальной, возрастной, тендерной и этнической стратификациями остаются за скобками — это может быть оправдано только тем обстоятельством, что нас в данной работе интересует специфика именно коммунального образа жизни, до некоторой степени стирающего различия между людьми: в квартире все — жильцы. Только в их жизни, что определяется проживанием в КК, и является нашим предметом. Все остальное — неспецифическое разнообразие форм поведения, выступающее лишь фоном для занимающих нас явлений.
Условно предполагается, что для определенного временного среза (первых двух десятилетий рассматриваемого периода, т. е. 1970;80 годы) указанная система представлений, несмотря на все неоднородности, может быть рассмотрена синхронно, как целостный механизм, которому соответствует термин «традиционное коммунальное мировоззрение». Нарастающая нестабильность и неоднородность этой системы в переходный период (1990;е) требует рассмотрения нескольких подсистем представлений. Процессы социального изменения приводят к появлению во многих квартирах временных жильцов, менталитет которых существенно отличается от «традиционного коммунального мировоззрения» постоянных жильцов.
Сбор полевого материала по данной теме именно в конце 1990;х годов был актуальной задачей, потому что большие КК как тип жилища постепенно уходят в прошлое (на 2001 год они практически исчезли в Москве, но все еще остаются в Петербурге) — по-видимому, к концу первого десятилетия XXI века подобные полевые исследования будут уже невозможны. Указанное обстоятельство повышает ценность полученного описательного материала.
Анализ материала позволяет сделать содержательные выводы о фрагментах системы представлений жителя КК в части, касающейся организации быта и взаимодействия с соседями. Особое значение имеют данные об изменении культурных стереотипов повседневности в переходный период после распада советского строя. Поскольку значительная часть взрослого населения сегодняшнего Петербурга так или иначе была причастна к практикам коммунальной повседневности (в форме проживания в КК или в общежитии), полученные выводы позволяют охарактеризовать повседневные поведенческие установки, актуальные для многих современных жителей города.
Цели, задачи и структура работы.
Основная цель работы — дать этнографическое описание стереотипов повседневного поведения жильцов больших КК С.-Петербурга. Несмотря на то, что в значительной мере работа, действительно, носит описательный характер, цель исследования состоит также и в анализе полученных данных. Собственно, само описание отчасти имеет интерпретативный характер, поскольку нацелено на воссоздание некоторой целостной картины — а значит, всякая упоминаемая деталь, хотя бы и касающаяся организации материальной среды бытового поведения, появляется в описании не вполне случайноона упоминается потому, что она «что-то значит», что-то может рассказать о системе представлений, рассматривается как носитель объективированных отношений между людьми.
Среди задач исследования — выявление представлений, определяющих специфичные для жителей КК формы поведения. Наблюдая поведение людей, способы использования вещей и пространства, а также получая в интервью информацию о мотивах и смысле тех или иных форм поведения, мы пытаемся соотнести эти данные между собой и построить модель системы представлений, стоящей за действиями и высказываниями людей.
Поскольку временные рамки материала, представленного в работе, охватывают период трех десятилетий, последнее из которых было отмечено серьезными переменами в повседневности КК, исследование по необходимости отражает диахронические изменения в изучаемой системе представлений. В отслеживании культурных изменений состоит еще одна важнейшая задача работы.
Отдельную задачу представляет собой разработка методики семиотического подхода к исследованию повседневного поведения. Тут мы сталкиваемся с проблемой семиотической огранизации поведения: семиотичность, несводимость к физической причинности и прозрачному прагматического интересу явно выступает вперед в ритуальных и церемониальных формах поведения, но неочевидна в поведении повседневном. Однако семиотичность повседневности состоит в следовании определенным нормам, принятым в коллективе (или в отклонении от них), что особенно рельефно проявляется в условиях публичности поведения. Таким образом, любой акт бытового поведения одновременно является реализацией определенной поведенческой нормы.
Указанную масштабную методологическую задачу невозможно решить исчерпывающим образом в рамках настоящего исследования, но применимость отдельных положений теоретического характера неизбежно оказывается проверена на конкретном материале.
Работа состоит из Введения, шести глав, Заключения и Приложения. Первая глава представляет собой попытку семиотического описания пространства КК как Среды бытового поведения. Во второй главе анализируется представления жильцов КК о справедливости распределения ресурсов и усилий между участниками коммунального сообществаописываются стратегии такого распределения, анализируется зависть как важнейшая составляющая эмоционального фона отношений соседей и принятые способы противодействия разрушительным последствиям зависти. Третья глава посвящена описанию гигиенических практик жильцов КК и, в частности, связи гигиенических представлений с идеей «своего» и «чужого» .
В четвертой главе поднимается целый комплекс вопросов, связанных с отношениями внутри коллектива КК. Здесь проанализированы категория приватности и специфическая конфигурация личностной сферы жильца ККхарактерные формы отношений между соседями, в т. ч. формы и функции конфликтовотклоняющееся поведение и институциализированные способы противодействия ему.
Результаты, представленные в предыдущих главах, позволяют дать содержательное истолкование специфической форме психического расстройства, встречающейся в КК: в пятой главе прослеживаются параллели между нормальными и патологическими моделями поведения.
Шестая глава посвящена обзору специфических аспектов компетенции жителя КК, которые касаются прежде всего представлений жителей об истории квартиры и дома и позволяют увидеть коммунальное сообщество как носителя своеобразного коммунального фольклора.
В Заключении обобщены наблюдения над изменениями в практиках коммунальной повседневности в последнее десятилетие, сделаны выводы о распространении ряда интрепретационных моделей, типичных для коммунального мировоззрения, на другие, не связанные с жилищем, сферы повседневной жизни, а также изложены некоторые методологические предпосылки исследования повседневности.
В Приложении приведен вопросник для этнографического обследования быта КК, а также представлены иллюстративные материалы.
Заключение
.
Подводя итоги представленному в работе рассмотрению повседневной жизни коммунальных квартир, прежде всего следует суммировать новые черты коммунального быта, давшие о себе знать в последнее десятилетие. Серьезные изменения в обществе в целом привели к существенных сдвигам в количественном и социальном составе жильцов, а это, в свою очередь, не могло не отразиться в организации взаимодействия в коллективе соседей, в новых подходах к решению бытовых проблем. Отметим, что диахроническое рассмотрение предмета изучения, отслеживание недавних сдвигов наряду с тенденциями будущих изменений окажется вполне в русле отечественной этнографической традиции, практически всегда обращавшейся к проблематике быта именно в плане сравнения «прошлого» и «настоящего» .
Итак, начиная примерно с первой половины восьмидесятых годов плотность населения в больших квартирах по ряду социальных и демографических причин проявляет тенденцию к устойчивому снижению. Это обстоятельство снижает напряженность соперничества соседей в использовании бытовых возможностей коммунальной квартиры: появляется больше места и больше времени. Наблюдается постепенное снижение остроты соперничества соседей в погоне за дополнительной жилплощадью. В частности, практически повсеместно появляются «пустые» комнаты, отводимые под места общего пользования. Распределение времени пользования ванной, туалетом, телефоном становится менее формализованным, исчезают письменные расписания пользования ванной. Организация очереди приобретает все более спонтанный вид.
Ослаблению конкуренции сопутствует и ослабление контроля коллектива за состоянием пространства в местах общего пользования. Следуя принципу минимального достаточного усилия, жильцы коммунальных квартир довольствуются все более запущенным техническим состоянием оборудования квартиры, чему способствует и распад системы технического обслуживания этого оборудования. Практически повсеместное исчезновение института формального лидерства в коммунальном коллективе отражает действительное положение дел: мало кто из соседей готов проявлять инициативу во внутриквартирных делах, если они не касаются его лично. Налицо «приватизация» образа жизни, сужение круга вопросов, относящихся к компетенции сообщества. Повседневная жизнь индивида, проходящая на глазах соседей, уже не является больше предметом всеобщей озабоченности — коллектив старается не вмешиваться в нее. Толерантность по отношению к образу жизни алкоголиков и наркоманов оказывается одним из следствий общего процесса обособления жильцов.
Отметим, что с толерантностью коллектива в отношении его членов коррелирует толерантность административных органов в отношении коллектива в целом и отдельных его членов. Так, например, жильцы нередко устанавливают сегодня параллельные телефоны в своих комнатах, не спрашивая на то разрешения.
Социальный состав жильцов претерпевает в последние годы серьезные изменения. Во-первых, становится заметным имущественное расслоение. Доходы «богатых» соседей могут на порядок превышать доходы «бедных» (к последним относятся, прежде всего, одинокие пенсионеры), однако они недостаточны для радикального изменения жилищных условий (например, приобретения отдельной квартиры в собственность), в чем прожившие долгие годы в коммунальной квартире люди могут и не испытывать внутренней потребности — в частности, потому, что занимаемая ими площадь сегодня зачастую довольно велика в расчете на одного человека и во всяком случае превышает «санитарную норму» .
Во-вторых, все более значительную часть населения квартир составляют «временные» жильцы, снимающие комнаты либо живущие на площади, собственниками или нанимателями которой оказываются их родственники или друзья. Последние могут жить отдельно, оставляя за собой права на комнату в коммунальной квартире. Временные жильцы отличаются от постоянных своим низким статусом в коллективе, имеют меньший авторитет в решении внутриквартирных вопросов. Нередко на них даже не возлагают ответственности за коммунальную уборку и другие квартирные дела, предпочитая компенсировать отсутствие этих обязанностей их денежным взносом в квартирную кассу. В глазах постоянных жильцов временные лишь условно оказываются членами коллективасправедливо считается, что они не способны относиться к квартире как к своему дому.
В-третьих, следует учесть, что в девяностые годы активность торговцев недвижимостью в области расселения коммунальнгых квартир открывала практически для каждого возможности переезда и «улучшения жилищный условий». В коммунальный квартирах остаются те, кого предлагавшиеся варианты расселения (и переезда) по тем или иным причинам не удовлетворили.
В главах работы прослеживаются особенности коммунального мировосприятия, которые, по-видимому, находят свое воплощение и в тех формах поведения современного русского городского жителя, которые не связаны непосредственно с проживанием в коммунальной квартире. Для таких форм поведения характерно сочетание коллективного контроля за поведением индивида и проявление «человеческого», неформального отношения к индивиду со стороны других участников коллектива. Специфические представления о гигиене и приватности, характерные в своем концентрированном виде для коммунального быта, получают свое выражение и вне домашнего обихода. Организация взаимодействия участников живой очереди, пользование общественным транспортом и общественными туалетами — вот лишь некоторые примеры реализации таких «коммунальных» по сути представлений в формах общественного быта, никак не связанных собственно с коммунальным бытом. В этом, как представляется, заключается значение наших наблюдений для характеристики современного городского жителя.
Одна из важных черт, мимо которой нельзя было пройти в такой характеристике, заключается специфической культурной установке, которая для внешнего наблюдателя выглядит как пренебрежение к быту и личному комфорту. Есть основания предполагать, что корни этой установки заложены коммунистическим идеалом коллективизма. Советский человек, несмотря на декларируемую «борьбу за культуру быта», развернувшуюся уже в начале тридцатых годов, был, тем не менее, ориентирован на пренебрежение к собственному удобству в быту теми романтическими идеями, в соответствии с которыми организация «мещанского» уюта мыслилась возможной лишь за счет времени и сил, требовавшихся на другие дела, имеющие общественную значимость и предоставлявшие индивиду возможность самореализации.
Представленные материалы о быте коммунальных квартир являются преимущественно описательными и не претендуют на масштабные теоретические обобщения. Между тем, целый ряд вопросов методологии исследования, касающихся особенностей предмета исследования, способов наблюдения и интерпретации заслуживают специального рассмотрения. Исследователь повседневности методом включенного наблюдения оказывается в особенной позиции включенное наблюдение, в отличие от интервьюирования, фотографирования и собирания коллекции артефактов, позволяет пережить субъективный смысл событий и действий. В дополнение к отстраненной позиции пристального наблюдателя, владение субъективным смыслом открывает доступ к некоторым иначе не видимым сюжетам.
В отличие от статистика и протоколиста, не вникающего в суть происходящего, а фиксирующего лишь внешние наблюдаемые формы фактов, исследователь-этнограф обязан установить этнографический факт, для чего требуется истолковать увиденное и услышанное, раскрывая некоторый особый смысл, иногда неочевидный самим людям, авторам наблюдаемых слов и поступков. Неочевидный и ему самому до тех пор, пока он включен в действие на правах рядового участника событий.
Среди самых частотных слов в изложении наших наблюдений — «обычно'», «как правило», «часто», «нередко», «иногда», «никогда». Оговорки о степени типичности отражают интуицию исследователя и могли бы, в принципе, получать и статистическое соответствие в рамках отдельных исследований. Но и в их отсутствие эти оговорки необходимы, поскольку любой приводимый пример служит иллюстрацией некоторой закономерности, которую не должны опровергать возможные единичные контр-примеры.
Поскольку одни наблюдения используются для объяснения других (и, тем самым, для конструирования факта), весьма существенно верно определить наблюдаемую сферу явлений. Чтобы очертить существенные моменты мировосприятия жильца коммунальной квартиры, мы должны отличать поведение, обусловленное причастностью к коммунальному общежитию, от поведения, не имеющего прямого отношения к проживанию в коммунальной квартире. Жилец нас интересовал именно как жилецне его жизнь и его представления о мире в целом, но какая-то их часть обусловлены именно тем, что он жилец коммунальной квартиры. К этой части жизни не относятся многие в остальном существенные для жизни вообще аспекты и события. Так, профессиональные занятия жильца, если он не выполняет работу на дому, не попадают сюдарождение, свадьба, учение в школе и уход в армию, празднования дня рождения и 1 мая, даже то, как человек умирает и какие ритуальные формы получает его смерть — все это лишь косвенно затронуто коммунальным общежитием. Собственно форма этих событий не определяется тем, что их главный участник живет в коммунальной, а не в какой-то друтой квартире. При этом, конечно, все эти события могут получать определенное значение для соседей, ведь им соответствует обретение или потеря тех или иных связанных с общежитием прав. Лишь в этой мере они и должны были интересовать наблюдателя, взгляд которого обязан искать специфически коммунальное, а не просто все что угодно, что можно обнаружить в коммунальной квартире.
Такой подход ограничивает взгляд наблюдателя преимущественно областью повседневности и тем, что обычно имеют в виду под сферой домашнего быта. К домашнему быту относится как раз та часть повседневного, которая напрямую зависит от организации жилища и отношений, в которые человек вступает у себя дома.
Независимо от своих убеждений и привходящих обстоятельств коммунальный жилец и окружающие его соседи ведут себя — и неизбежно взаимодействуют друг с другом — в пределах достаточно ограниченного крута положений, опираясь на вполне определенные способы понимания того, что они делают. Осмысленность поведения проявляется, в частности, и в том, что действие всегда включает в себя осознанный или неосознанный ответ на вопрос «что ты делаешь?» себя и относительно человека, с которым ты в данный момент взаимодействуешь. Встроенные в повседневное взаимодействие способы толкования диктуют более или менее однозначное определение контекста и смысла. Иными словами, человек обычно (если не преследует особых целей) стремится вести себя так, чтобы его поступки (его высказывания в том числе) с точки зрения окружающих могли быть истолкованы однозначно.
Включенному наблюдателю, берущему на себя груз истолкований не только обыденных, но и «пристальных», теоретических, требуется особая компетенция. Ему недостаточно увидеть обычный повседневный смысл и контекст в каждом поступке наблюдаемых людей. Цель наблюдателя состоит в усмотрении в тех же поступках и других горизонтов, лежащих дальше внутренней точки зрения носителя данной культуры. Ибо он желает увидеть за наблюдениями систему, в представлении себе которой носители ее никогда не испытывали нужды. Собственно, с опорой на наблюдения и на толкования, предложенные информантами в естественной обстановке и в искусственном жанре интервью, исследователь строит при помощи своего особого языка описания модель стереотипов поведения, многие из которых не осознаются их носителями.
При этом исследователю полезно осознавать статус своих выводов и построений — они, действительно, являются лишь моделью, позволяющей дать отчет о наблюдаемом материале в рамках определенной исследовательской парадигмы. У наблюдаемых носителей данной культуры тоже есть своя модель, но она носит прикладной характер и не выражается в виде развернутого текста.
Отсюда и указание в гл. 1 на тот факт, что мы пробуем создать «карту карты». Тем самым мы пытаемся избежать ошибки, о которой Пьер Бурдье говорит как о весьма серьезном упущении в науках о человеке, а именно: «помещать модели, которые ученый должен конструировать, чтобы объяснить [наблюдаемые] практики, в сознании [наблюдаемых] деятелей, представлять дело так, как если бы конструкции, которые должен порождать ученый, чтобы понять эти практики, чтобы объяснить их, оказывались принципом, эти практики определяющим» (Bourdieu 1994, 228).
Казалось бы, можно понимать такое построение «карты карты», то есть моделирование пространства и разворачивающегося в нем поведения, как установление системы закономерностей, набора правил, объясняющих наблюдения возможно более исчерпывающим образом и даже позволяющих что-то предсказать. Что это за правила? Казалось бы, нашем распоряжении оказывались в уже готовом виде эксплицитные регламентации повседневного поведения в форме, например, письменных инструкций. Кроме того, мы могли пользоваться высказываниями людей, где те объясняют, как следует делать то-то и то-то. Но эти инструкции и объяснения, эта встроенная в наблюдаемую систему метаинформация может служить лишь источником для наших выводов, а не частью собственно выводов.
Потому что категории, которыми пользуются наблюдаемые носители культуры, недостаточны для решения задач построения научной модели. Позиция исследователя изначально теоретична, она не призвана решить жизненные проблемы. Он сравнивает, находит сходства и различия, общее и специфическое. В этом смысле, даже не владея полнотой информации о своем предмете, он все-таки всегда знает больше туземца — он знает что-то еще. Более того, имея дело с распадом традиции, исследователь зачастую, как оказывается, и в самом прямом смысле знает о традиции больше информанта. Ведь расспрашивая коммунальных жителей, наблюдатель фиксирует не только то, что им известно, но и то, что им не известно, что для них не актуально (собственно, как раз то, что классифицируется им как «никогда» применительно к таким случаям) — и эти лакуны оказываются для него информативны, по ним он отслеживает культурные сдвиги и локальные отличия.
К тому же, предметом для наблюдателя повседневности оказывается, помимо прочего, нечто несводимое к эксплицитным установлениям, пусть и существующее в рамках этих установлений. Даже в тех случаях, когда инструкции обладают высокой степенью детализации, они не могут ставить целью дать исчерпывающую регламентацию жизни. Они содержат «самое главное». Это самое главное когда-то обнаружилось в диалоге жизни, то есть всех ее стихийно складывающихся практик, и власти, которой старалась придать порядку форму. В пору становления правил этот диалог был исключительно активен — например, в форме судебных прецедентов и печатных разъяснений юриста в ответ на письма трудящихся. Жильцов беспокоили острые вопросы, на которые они сами не могли найти ответа, потому что любой возможный ответ затрагивал интересы людей с противоположными интересами.
Часть правил оказывается конститутивными для коммунального быта (аксиомы), а другая часть — регулирующими (сюда относятся запреты и неаксиоматические предписания). Из-за того, что регулирующие правила не способны охватить все возможные ситуации и обстоятельства, оказывается, что наряду со сферой жизни, отраженной в эксплицитных предписаниях и запретах, а также в оговорках вроде «разрешается / допускается (делать что?)», повседневность в значительной мере состоит из того, что, с одной стороны, не является предписанным и, с другой, не запрещено, а потому допустимопостольку, поскольку не противоречит само собой разумеющемуся (и оттого не отраженному в правилах эксплицитно) здравому смыслу. Степень допустимости тех или иных практик различна, в зависимости от конкретных обстоятельств и особенностей местной рациональности, однако в любом случае эксплицитные запреты и предписания играют роль ориентиров при оценке тех или иных форм поведения.
Это возможно выразить в терминах нашего языка описания, где присутствуют категории запрещенного, разрешенного и предписанного. Так, например, применительно к образам приготовления пищи предписанным поведением будет приготовление пищи на плите в кухне, запрещенным — с некоторыми поправками на ослабление дисциплины в последние годы — установка электрической или газовой плитки в комнате, не запрещенным — что-нибудь вроде использования газовой плиты в кухне лишь для подогревания чайника, чтобы сопровождать чаем пищу, не требующую приготовления (способ питания алкоголика или холостяка), а не предписанным (принципиально возможным, но порицаемым) — скажем, питание в ресторане96. При этом вся сфера допустимого («не запрещенное + не предписанное»), не отраженного в эксплицитных предписаниях, может быть приблизительно ранжирована по степени неодобрительности взгляда окружающих. Взгляд этот ориентируется на предписанное и запрещенное.
Именно в сфере «допустимого», не противоречащего «нормальному ходу вещей» и содержится свобода выбора вариантов. Как раз здесь и разворачивается все многообразие коннотаций, усматриваемых участниками повседневных взаимодействий в действиях партнеров — и вкладываемых ими в собственные действияи именно эта сфера и оказывается в центре внимания наблюдателя повседневного поведения. В ней «пользователи» правил находят свои оптимальные траектории, пытаются схитрить и устроиться поудобнее97.
Сличая жизнь с правилами, мы можем увидеть еще один источник той относительной свободы, которую правила в себе заключают. Помимо того, что сеть правил не столь густа, чтобы исчерпать собою ткань жизни, сами предписания и запреты содержат слова, которые могут разным образом истолковываться и потому оставляют «зазоры». Отсюда неясность критериев применения того или иного правила. Так, например, употребляемые в «Правилах» термины «загромождать», «чистота», «тишина», «согласие всех проживающих» в принципе не могут иметь однозначной трактовки. Получается, что в добавление к правилам пользователи правил владеют еще и интуитивными принципами.
96 Применение подобной трактовки запретов и предписаний на основе т.н. «семиотического квадрата» было введено А. Ж. Греймасом, см., например, Greimas 1970,142−155.
97 Мишель де Серто проводит параллель с «построением собственных фраз на основе данного словаря и данных правил синтаксиса» (Certeau 1990, XXXVIII). То, что получено извне (свыше) в готовом виде — в частности, инструкции, воплощающие голос власти, — осваивается и обживаются по человеческой мерке повседневного существования и позволяет создавать собственные последовательности действий — реализаций системыпо отношению к культуре («языку») поведение оказывается «речью». применения этих правил — как частью того, что обычно имеется в виду под «здравым смыслом» .
То, что выходит за пределы допустимого, отклонения от «нормального хода вещей» можно было бы условно разделить на две группы. Первая объединяет нарочитые нарушения эксплицитных запретов — и, тем самым, частично являет собой зеркальное отражение нормы, как, например, поведение пьяных гостей, пришедших к квартирным алкоголикам. Такое поведение развивается в рамках более или менее установленных сценариев, хотя и достаточно вариативно. Другая группа предполагает не инверсию, а сдвиг закономерного поведения относительно нормативных условий реализации правил и презумпций. Как мы попытались показать, поведение субъектов, затронутых «параноидами жилья» (гл.5), осмысленно и поддается интерпретации, если учесть систематическую поправку, вносимую болезненным восприятием действительности. Показательно, что для соседей патологичность такого поведения долго остается невидимой, ибо патологический субъект своим поведением подрывает единую социальную реальность, всякий раз воспроизводимую нормальным ходом вещей.
Повседневное естественным образом выделяется по отношению к тому, что повседневным не является. Таков ритуали со сферой ритуального поведения как раз и возможно сопоставлять повседневность, чтобы выявить ее специфические черты. В сравнении с ритуальным поведением сфера повседневного не столь строго — и иным образом — структурирована, но и она, по-видимому, в достаточной степени закономерна, чтобы попытаться описать эти закономерности. Пусть и не в форме набора элементов и правил порождения поведенческих текстов (как это, по-видимому, возможно для описания систем ритуалов), такое описание повседневности реально скорее в терминах стратегий и тактик, выражающих склонность субъектов к тем или иным возможным линиям поведения (интерпретации).
Стоит указать на две проблемы, встающие на пути исследователя: одна из них касается неопределенности предмета, другая — соотношения высказываний информантов и той картины, которую выстраивает наблюдатель в своем описании предмета. Эти две проблемы связаны между собой. Вообще говоря, представления людей о том, как «правильно», о «нормальном ходе вещей», являются интуитивными, не целиком осознаваемыми, что применительно к повседневности, казалось бы, вполне объяснимо соображениями эффективности: чем более рутинны процедуры, тем более автоматизированы они должны быть. Задумываться и осознавать каждый шаг неэффективно. Между тем, составляющие повседневное поведение формы не поддаются исчерпывающей формулировке в виде набора правил не только самими людьми (органом, утверждающим правила, или авторами рукописных инструкций, или же информантами в ходе интервью), но и исследователем, блуждающим в сфере «допустимого» в поисках смыслов и пытающегося связать эти смыслы с системой запретов и предписаний.
Задача строгого описания здесь осложняется тем фактом, что сам предмет описания сущностно неоднороден. Это не та неоднородность, которая неизбежно всплывает при попытке описания некоторой живой эволюционирующей сложной системы. В такой системе имеются, наряду со стабильными элементами (иногда они кодифицируются внутри системы в качестве «нормы»), также и следы прошлых состояний, пережитки, равно как и новообразования, не получившие пока еще своего полного раскрытия. Все это оборачивается тем остатком «исключений», который всегда прилагается к грамматике, формализующей некоторое синхронное состояние. Собственно, синхронное состояние есть своего рода идеализация, закрывающая глаза на постоянно протекающие динамические процессы. Динамическая неоднородность предмета имеется и в нашем случае, становясь особенно заметной когда мы обращаемся к последним полутора десятилетиям коммунальных квартир, на протяжении которых происходят более интенсивные, чем когда бы то ни было за предшествующие пятьдесят лет, изменения.
Это и не та неоднородность, которой вынужденно пренебрегают, рисуя некую единую картину на основании и для объяснения ряда локальных вариантов. Локальные варианты только и даны нам в наблюдаемой действительности, тогда как единая система существует лишь в абстракции, хотя бы подобная абстракция и была принята самими пользователями этих локальных вариантов (так, значение словосочетания «коммунальная квартира» охватывает очень разные реалии — от двух семей, проживающих в трехкомнатной квартире в новостройках, до больших коммунальных квартир, к изучению которых мы обратились).
Сущностная неоднородность нашего предмета заключается в другом. Мышление и, шире, поведение человека в принципе неоднороднытак, например, в самом общем виде можно сказать, что формальная логика не отражает большинства ходов мысли человека, а потому в дополнение к ней ученому требуется постулировать особую мифологическую логику (или мифологические логики, мифо-логики), отражающую различные пласты мышления, которые находят себе применение в разных обстоятельствах. Логика повседневности может быть куда более эффективна, нежели высокая рациональность «научной» картины мира. Ведь автоматизация и рутинизация процедур предполагает не обстоятельные размышления о закономерной связи причин и следствий, а всего лишь элементарное владение информацией о том, что такие-то действия приводят к такому-то результату. Вопрос «почему?» и «как это получается?» не может ставиться по поводу всего на свете, достаточно того, что так все делают, так всегда делали и так у нас принято.
Повседневное поведение — как раз такая неоднородная система, состоящая, в свою очередь, из фрагментов нескольких систем, находящихся в сложных отношениях между собой98. Категории «ритуальное поведение», «этикетное поведение» и «бытовое поведение» призваны указать на эти системы, элементы которых в разных пропорциях и сочетаниях встречаются в повседневности.
Повседневное поведение трактовалось исследователями как сфера профанического, семиотически неотмеченного поведения между точками ритуального сценария99 — это справедливо не только для традиционного общества, до.
В иной перспективе о проблеме неоднородности в системе поведения см. Байбурин 1985.
99 Вопросы типологии форм поведения, соотношения ритуала и этикета, места повседневного поведения на шкале семиотичности обсуждались, преимущественно применительно к традиционной культуре, в работах, но и для современной цивилизации. Внимание семиотически ориентированных исследователей традиционной культуры повседневное поведение привлекало в основном постольку, поскольку формы повседневного поведения оказывалось возможным истолковать как проявление тех или иных стереотипов, присущих мифологической картине мира и находящих наиболее яркое выражение в ритуальных контекстах и в мифах. Применительно к традиционной культуре такое объяснение основывается, в частности, на большом количестве вербальных текстов, прямо или косвенно осуществляющих регламентацию повседневности (примет, пословиц, быличек). Именно в этом смысле Т. В. Цивьян говорит о мифологическом программировании повседневного поведения.
При сопоставлении ритуального поведения и повседневности неизбежно встает вопрос о том, насколько правомерно исследовать семиотическими методами повседневное поведение в современной культуре, где проявляется тенденция «к десакрализации поведения и его „материализации“ и соответственно к повышению степени профаничности не только ритуализованных форм поведения, но и самого ритуала» 100? По-видимому, в культуре такого типа «мифологичность» регулирующих повседневное поведение моделей должна пониматься в особом, расширительном смысле. Вместо содержательного критерия (объяснимости через более или менее стройную гипотетически восстанавливаемую «мифологическую картину мира») более действенным оказывается критерий скорее операциональный: «мифологично» то, рациональность чего наблюдателю неочевидна — и ставится наблюдателем под сомнение. «Мифологичность» местной рациональности может быть не сопряжена со сколько-нибудь когерентной мифологической картиной мира и может быть не выражена в корпусе фольклорных текстов101.
А.К.Байбурина (Байбурин 1993; см. также Байбурин, Топорков 1990), Г. А. Левинтона (Левинтон 1988) и Т. В. Цивьян (Цивьян 1965; Цивьян 1985).
100 Байбурин 1993, 19.
101 Справедливость последнего утверждения зависит, впрочем, от понимания того, что является фольклорным текстом.
Применительно к исследованию жилища и домашнего быта в коммунальных квартирах специфическим предметом исследования оказываются собственно формы этикетного поведения, определяющие взаимодействие соседей, и организация хозяйственно-бытовой деятельности, которая в условиях коммунальной квартиры по необходимости оказывается коллективной. Моделирование местных представлений о рациональных способах бытовых действий в некотором смысле сопоставимо с описанием фрагментов мифологической картины мира.
Вторая упомянутая проблема — соотношение высказываний информантов и того представления о предмете, который выстраивает для себя исследователь. Для него роль повествований информантов о случаях из жизни, обычаях, деталях биографии вовсе не может сводиться к компенсации лакун в наблюдении. Вероятно, в каких-то случаях правомерно, не имея возможности наблюдать некоторые реальные обстоятельства, восполнить этот недостаток сведений словами информантав конце концов, это один из немногих способов заглянуть в прошлое, и в этом качестве его ценность неоспорима, пусть и с поправками на особенности памяти.
Однако высказывания информантов дают нам ценный материал и совсем иного рода: мы получаем интерпретацию событий, поступков и обычаев, нам становятся доступны объяснения, почему следует делать так и почему неправильно делать этак. Собственно, имея такие мотивировки обычаев на входе, на выходе анализа исследователь получает их метаязыковое описание в виде системы и называет этот результат системой представлений носителей данной 102 культуры .
Как только мы касаемся мотивировок и мотиваций, неизбежно встает вопрос об их осмысленности. Наша способность понять мотивировки информантов (и перевести их на наш собственный язык) напрямую зависит от того, в какой мере мы разделяем с информантами систему представлений, лежащую за этими мотивировками. Мотивировки, совпадающие с теми, что привычны для нас и кажутся нам рациональными, будут истолковываться как отвечающие знанию действительных закономерностей окружающего мираостальным же будет приписан более или менее мифологический статус. Каталогизируя разнообразные (нередко противоречащие друг другу) мотивировки, составляя их парадигмы, исследователь определяет темы и категории, актуальные для носителей данной культуры, описывает принципы, лежащие в основе местной рациональности, и выводит некие более общие категории, частными проявлениями которых и будут признаны «мифологические» мотивировки.
В нашем случае значительная часть мотивировок получена наблюдателем не в ходе включенного наблюдения в естественных обстоятельствах, а в ходе интервью с информантами. Не говоря уже о том, что высказывания человека могут противоречить его собственному реально наблюдаемому поведению, есть два соображения, касающихся самого процесса получения такой информации, которые заставляют относиться к словам информантов с особой осторожностью. Во-первых, всякое высказывание информанта в интервью есть ответ на вопрос со стороны исследователя. Вполне возможно, что спрашивающий и отвечающий не только видят разное в одном и том же, но и говорят на несколько отличающихся языках — в силу того, что пользуются разной системой представлений. Поэтому различным может быть понимание выражений, обретающих свой смысл в контексте или имеющих особый само собой разумеющийся смысл в их несовпадающих системах (слова «здесь», «сейчас», «скоро», «хорошо», «нормально» иллюстрируют самые примитивные случаи возможных несовпадений). Так что информант мог иметь в виду не совсем то, что понял интервьюер, и наоборот.
Более того, не исключено, что такая форма поведения как развернутые ответы на вопросы постороннего (участие в интервью) может не входить в репертуар речевых жанров информанта. Тогда информант будет интерпретировать вопросы в контекстуальной схеме наиболее близкого речевого жанра — например,.
См. о противопоставлении мотивировок, предоставляемых информантами, и мотиваций как объяснений, «имеющих более глубинный характер» и сплетни (если позволяет характер отношений с исследователем) или общения с молодым и неумелым человеком, которого следует научить премудрости, или общения со специалистом в коммунальных тяжбах. В любом случае, информант начинает с того, что определяет для себя, что исследователь от него хочет, и сотрудничает с интервьюером в той степени и форме, в которой это ему диктует привычный речевой жанр, проецируемый на данную ситуацию общения. Информант преследует определенные цели и создает определенный образ себя в глазах интервьюера. Поэтому, например, ответ «не знаю» может вовсе не означать, что он действительно не знает.
Во-вторых, интервьюер может задавать вопросы, с которыми сам информант никогда не сталкивался, никогда не испытывая нужды на них отвечать. Даже если он не отказывается от сотрудничества — и даже если эти вопросы о том, чем он, казалось бы, практически владеет, он оказывается в затруднении, так как не имеет готового ответа и вынужден сходу его придумывать. Применительно к «бессознательным стереотипам» повседневности это случается тем чаще, что мы редко задумываемся, почему мы делаем что-то именно так, как делаем — самое простое объяснение состоит в том, что так принято и мы так привыкли, но такое объяснение пытливому исследователю видится недостаточным, ибо он всему ищет более «глубокое» объяснение. Между тем, ссылка на обычай сама по себе достаточно глубокое объяснение: она отсылает к данности миропорядка и указывает на отсутствие необходимости, в рамках этого миропорядка, прибегать к каким бы то ни было иным объяснениям. Или же на то, что объяснений принято избегать, ведь некоторые сферы жизни либо не подлежат открытому обсуждению, тем более с чужими, либо затрагивают чувства информанта в такой степени, что он сторонится разговора на данную тему.
Наряду с включенным наблюдением и интервьюированием в число наших методов входило наблюдение, направленное на вещи, имеющиеся в доме, и способы обращения с ними. Собственно, как раз вещная среда, обстановка жилища и делает жилище пригодным для жилья — и, соответственно, устанавливаемых исследователем, в работе: Байбурин, Топорков 1990, 18. инвентаризация этой вещной среды и описание способов обращения с вещами составляют существенную часть анализа быта.
Субъективное ощущение дома напрямую связано с набором вещей, к которым обитатель дома привязан. У «своих» вещей здесь есть свое место: они могут быть «на своем месте» или — что неудобно и порицаемо — «не на месте», чем определяется «порядок» и «беспорядок». Дом понимается как наиболее комфортное местопребывание (ср. «как дома»), что подразумевает удобство вещей и организации дома в целом, «уют», особенно в самой приватной части жилища, где место, в частности, дорогим сердцу безделушкам. Специфика коммунального уюта видится нам прежде всего в полифункциональности пространства и вещей, его наполняющих: зона, отведенная для рекреативной деятельности, неизбежно пересекается здесь с зоной «хозяйства», жизнеобеспечения (ср. о полифункциональности вещей в гл.1). Не вполне ясно, какой метод исследования позволил бы в наибольшей степени осветить этот важнейший «вещный» аспект жилища. Фотографирование и составление музейной коллекции, безусловно, способны зафиксировать искомую информацию, однако всякий раз ценой утраты контекста. Впрочем, абстрагирование и сопутствующая ему утрата реального контекста — неизбежная часть любого научного подхода.
Подводя итог, попробуем перечислить характеристики сферы повседневности в домашнем быту как предмета этнографического исследования. Эти характеристики, установленные в работе применительно к быту коммунальных квартир, но имеющие, по-видимому, более широкое значение, определены нами как.
— неоднородность как следствие сочетания элементов разной степени символичности;
— нормативность, основанная преимущественно на технически понимаемой (с внутренней точки зрения) функциональности;
— повторяемость («обыденность») и сопутствующее ей отсутствие у субъектов переживания важного и неординарного события;
— тенденция к высокой контекстуализованности взаимодействий субъектов — в частности, к редуцированному выражению этикетных моментов.
Основная специфическая черта бытовой повседневности коммунальной квартиры состоит в отсутствии границы между домашним (семейным) и общественным бытом, что обусловлено особенностями коммунальной квартиры как типа жилища.
Список литературы
- Анохина, Шмелева 1977: Анохина JI. A, Шмелева М. Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем. М, 1977.
- Анохина, Шмелева 1966: Анохина JI. A, Шмелева М. Н. Задачи и методы этнографического изучения культуры и быта русского городского населения. // Советская этнография, 1966, № 6 с.57−67
- Артемов В.А. Изменения условий жизнедеятельности городского населения. // Социологические исследования проблем города и жилища (1970−1980 гг.). Сб. статей под ред. Б. П. Кутырева. Новосибирск, 1986. С.69−77.
- Байбурин 1993: Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993
- Байбурин 1983: Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. JI, 1983.
- Байбурин, Топорков 1990: Байбурин А. К., Топорков A.JI. У истоков этикета. JI, 1990
- Баранов 1968: Баранов А. В. Социологические проблемы жилища // Социальные проблемы жилища. Сб. научных сообщений. Ред. Харчев А. Г., Верижников С. М., РужжеВ.П. Л, 1968. -с.7−18.
- Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М, 1973.
- Будина, Шмелева 1989: Будина О. Р., Шмелева М. Н. Город и народные традиции русских. М, 1989.
- Будина, Шмелева 1987: Будина О. Р., Шмелева М. Н. Проблема традиционности современной бытовой культуры русского городского населения. //Советская этнография, 1987, № 6. с. 15−26.
- Будина, Шмелева 1982: Будина О. Р., Шмелева М. Н. Традиция в культурно-бытовом развитии современного русского города.// Советская этнография, 1982, № 6 с.27−39
- Герасимова 2000: Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира как социальный институт: Псторико-социологический анализ (на материалах Петрограда Ленинграда, 1917−1991). АКД, 2000.
- Гордон, Клопов, Оников 1977: Гордон Л. А., Клопов Э. В., Оников Л. А. Черты социалистического образа жизни: быт городских рабочих вчера, сегодня и завтра. М, 1977.
- Гордон, Клопов 1972: Гордон Л. А., Клопов Э. В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и внерабочего времени. М, 1972.
- Громыко М.М. Историзм как принцип воспроизводства традиций в малых социальных группах. // Советская этнография, 1985, № 2 с.72−81.
- Жаркова 1991: Жаркова Н. Б. Доманифестный период поздних бредовых психозов с картиной инволюционного параноида. АКД. М, 1991, с. 19.
- Жислина 1967: Жислина Е. С. Клинические особенности бреда ущерба в позднем возрасте. АКД. М, 1967.
- Жилищная кооперация 1928: Жилищная кооперация, 1928, № 23/24, с.23
- Жилищное товарищество 1928: Жилищное товарищество Жилище и строительство, 1928, № 44
- Зуйкова 1977: Зуйкова Е. М. Быт при социализме. М, 1977.
- Кабаков 1993: Кабаков И. На коммунальной кухне. Новые документы и материалы. Париж, Galerie Dina Vierny, 1993. — 198 с.
- Кабаков, Гройс 1999: Кабаков И., Гройс Б. Диалоги (1990−1999). М, 1999.
- Кабо 1928: Кабо Е. О. Очерки рабочего быта. Опыт монографического исследования. М, 1928.
- Крупянская 1963: Крупянская Ю. В. Проблемы изучения современной культуры и быта рабочих СССР. // Советская этнография, 1963, № 4. с.28−34
- Крупянская 1968: Этнографическое изучение быта рабочих. По материалам отдельных промышленных районов СССР/ Сб. статей под ред Крупянской Ю. В. М, 1968.
- Крупянская, Полищук 1971: Крупянская Ю. В., Полищук Н. С. Культура и быт рабочих горно-заводского Урала (конец XIX начало XX в.). М, 1971.
- Крупянская, Будина, Полищук, Юхнева 1974: Крупянская Ю. В., Будина О. Р., Полищук Н. С., Юхнева Н. В. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила. 1917−1970. М, 1974. 319 с.
- Кутырев 1986: Социологические исследования проблем города и жилища (19 701 980 гг.). Сб. статей под ред. Б. П. Кутырева. Новосибирск, 1986.
- Левинтон 1988: Левинтон Г. А. Ритуал и ритуализованные формы поведения // Рациональность и семиотика поведения. Киев, 1988
- Леонгард 2000: Леонгард К. Акцентуированные личности. Ростов-на-Дону, 2000.
- Мазюта 1969: Мазюта М. А. Быт рабочего класса Советского Закарпатья (Историко- этнографическое исследование). АКД, Киев, 1969. 26 с.
- Маслова 1951: Маслова Г. С. Культура и быт одного колхоза Подмосковья. // Советская этнография, 1951, № 1, с.39−62.
- Медведев 1990: Медведев А. В. Бредовые и галлюцинаторные расстройства при поздних психозах, протекающих с картиной «параноида жилья». //Журнал невропатологии и психиатрии, 1990, 9: 62−66.
- Методологические проблемы 1971: Методлогические проблемы исследования быта. Сб. статей под ред. Харчева А. Г., Янковой З. А. (Социальные исследования, Вып. 7). М, 1971.
- Орлов 1968: Орлов А. В. Современный быт рабочей молодежи. АКД, Киев, 1968. 20с.
- Положение 1929: Об ответственных уполномоченных и о правилах внутреннего распорядка в коммунальных квартирах: Положение // Жилищное дело. Двухнедельный бюллетень Ленинградского союза жилкооперации. 1929, № 1, -С.7−8.
- Правила 1938: Правила внутреннего распрорядка в квартирах. Л, 1938.
- Правила, 1950: Правила пользования и содержания жилого помещения (Утверждены Министерством коммунального хозяйства РСФСР 3 октября 1950), М, 1950
- Правила 1963: Правила пользования жилым помещением. Л, 1963
- Пучкова, Мальгинова 1948: Пучкова В. М., Мальгинова А. И. Памятка квартиросъемщика. М-Л, 1948.
- Рабинович 1988: Рабинович М. Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М, 1988.
- Рабинович 1978: Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города. Горожане, их общественный и домашний быт. М, 1978.
- Рабинович 1968: Рабинович М. Г. Этнографическое изучение города в России в конце XIX начале XX в. Программа В.Н.Тенишева). // Труды института этнографии АН СССР, 1968, т.94.
- Рабинович, Шмелева 1981: Рабинович М. Г., Шмелева М. Н. К этнографическому изучению города. // Советская этнография, 1981, № 3
- Село Вирятино 1958: Село Вирятино в прошлом и настоящем. (Опыт этнографического изучения русской колхозной деревни). Труды ин-та этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая, Новая серия, том XLI. М, 1958.
- Сорока 1983: Сорока Т. Н. Современный быт металлургов Донбасса. АКД, Минск, 1983.
- Социальные проблемы 1968: Социальные проблемы жилища. Сб. научных сообщений. Ред. Харчев А. Г., Верижников С. М., Ружже В. П. Л, 1968.
- Струмилин Г. С. Рабочий быт в цифрах. М Л, 1926.
- Терентьев 1991: Терентьев Е. И. Бред ревности. М, 1991
- Терентьев 1981: Терентьев Е. И. К постановке вопроса о «первичной фабуле» паранойального бредового синдрома и «бредовом поведении» // Журнал невропатологии и психиатрии, 1981, 4. с. 575 — 581.
- Токарев С.А. О задачах этнографического изучения народов индустриальных стран. //'Советская этнография, 1967, № 5 с.133−142.
- Травин 1979: Травин И. И. Материально-вещная среда и социалистический образ жизни. Л, 1979. 117 с.
- Труфанов 1963: Труфанов И. П. Опыт этнографического изучения рабочих ленинградского завода «Электросила» им. С.М.Кирова// Советская этнография, 1963, № 4. с. 157−165.
- Труфанов 1973: Труфанов И. П. Проблемы быта городского населения СССР. JI, 1973.
- Харчев 1968: Харчев А. Г. Быт и семья в социалистическом обществе. JI, 1968.
- Цивьян 1985: Цивьян Т. В. Мифологическое программирование повседневной жизни //Этнические стереотипы поведения. JI, 1985
- Цивьян 1965: Цивьян Т. В. К некоторым вопросам построения языка этикета//Труды по знаковьм системам. 2. Тарту, 1965.
- Циркуляр 1935: Циркуляр Народного Комиссариата Коммунального Хозяйства и Народного Комиссариата Юстиции, No 158 от 4 июля 1935 // Бюллетень НККХ, No 14, 1935.
- Что должен знать 1925: Что должен знать каждый гражданин по вопросам советского жилищного права. JI, 1925
- Шахматов 1996: Шахматов Н. Ф. Психическое старение. М, 1996
- Шмелева 1989: Шмелева М. Н. Традиционные бытовые связи современной городской семьи у русских (по материалам центральных областей РСФСР). // Русские: семейный и общественный быт. М, 1989. с. 63−84
- Шмелева 1974: Шмелева М. Н. Об основных тенденциях развития материальной культуры русского городского населения в последнее столетие. //Советская этнография, 1974, № 3
- Штернберг 1977: Штернберг Э. Я. Геронтологическая психиатрия. М, 1977
- Штернберг, Концевой 1985: Штернберг Э. Я., Концевой В. А. Инволюционные (предстарческие, пресенильные) психозы. // Справочник по психиатрии. Под ред. Снежневского А. В. Изд.2-е. М, 1985.
- Штернберг, Пятницкий, Концевой 1979: Штернберг Э. Я., Пятницкий А. Н., Концевой В. А. О так называемом бреде малого размаха. // Журнал невропатологии и психиатрии. 1979, 4: 433−437.
- Юхнева 1987: Этнография Петербурга Ленинграда. / Под ред. Н. В. Юхневой. Л, 1987
- Anzieu 1985: Anzieu D. Le Moi-Peau, P, 1985.
- Bettelheim 1969: Bettelheim B. The Children of the Dream: Communal Child-rearing and its Implications for Society. L, 1969
- Boym 1994: Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. -Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1994. 356 p.240
- Bourdieu 1980: Bourdieu P. Le sens pratique. P, 1980.
- Bourdieu 1994: Bourdieu P. Raisons pratiques. P., 1994.
- Certeau 1990: de Certeau, M. L’invention du quotidien. 1. arts de faire. P., 1990.
- Greimas 1970: Greimas A.J. Du sens. Essais semiotiques. P, 1970.
- Eibl-Eibesfeldt 1969: Eibl-Eibesfeldt I. Love and Hate. N.Y., 1969.
- Russian housing 1993: Russian housing in the modern age: design and social history/ ed. by W.C.Brumfield and B.A.Ruble. Cambridge, N.Y., 1993
- Sosnovy 1954: Sosnovy T. The housing problem in the Soviet Union. N.Y.: Research program on the USSR, 1954. -300p.
- Spiro 1963: Spiro M. Kibbutz: Venture in Utopia. N.Y., 1963.1, 2, 3 — стулья4 — вешалка5 — занавеска6 — ковер на стене1. Схема 41J