Жизнь и творчество А. В. Кольцова
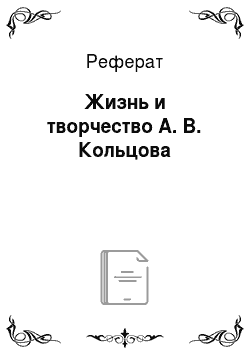
Начало вольности, протеста, порыва обычно связано у Кольцова с одним образом — образом сокола. Это и в «Стеньке Разине», это и в «Тоске по воле», и более всего в «Думе сокола». Сила «Думы сокола» и этого образа у Кольцова как раз в безмерности порыва. Вообще в песнях Кольцова есть чаще всего одно чувство и способность отдаваться ему до конца, ничего иного в это господствующее чувство… Читать ещё >
Жизнь и творчество А. В. Кольцова (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Введение
Начало жизненного и творческого пути Песни Кольцова Литературные отношения во второй половине 30-х годов Думы Философия природы Отношения с Белинским. Письма Кольцова Конец жизненного и творческого пути Литература
«Сила гениального таланта, — писал о Кольцове В. Г. Белинский, — основана на живом, неразрывном единстве человека с поэтом. Тут замечательность таланта происходит от замечательности человека как личности…» И такую оценку А. В. Кольцову давал не один В. Г. Белинский. Жизнь поставила князя В. Ф. Одоевского по отношению к А. В. Кольцову в положении «его сиятельства», покровительствовавшего и помогавшего А. В. Кольцову в его делах.
Рождение такого самобытного творчества, как кольцовское, при всей его уникальности определялось четкими — национальными и социальными — посылками и теснейшим образом связано со становлением всей русской литературы, шире — русской духовной жизни.
А.В. Кольцов обобщал результаты многовекового творчества народа и уже принимавшиеся ранее попытки выхода к такому творчеству из «ученой» литературы тоже. Не остался он чужд мировой традиции. Недаром такой знаток мировой литературы, как А. Н. Веселовский, заметил, что А. В. Кольцов и «в оправе мирового творчества сохранит при всей кажущейся скромности своих стихотворных средств независимое, выдающееся положение, завоеванное истинным вдохновением, великой народной связью, благородным идейным содержанием».
Отечественные исследователи (прежде всего В.Т. Тонков) установили, на какую широкую основу народной жизни и народного творчества опиралась поэзия Кольцова.
Начало жизненного и творческого пути
Внешне судьба Кольцова — обычная судьба купеческого сына. Родился он 3 октября 1809 г. Отец и творческого «достаточен», иногда даже и довольно богат. «Трижды, — вспомнит потом сын, — наживалось до семидесяти тысяч, спускалось и снова наживалось».
Весь распорядок подчинялся, по воспоминаниям многих, строгим и суровым правилам в старорусском купеческом стиле, и, конечно, «попереченья» хозяин не терпел.
Сами дела, которые вел отец и к которым очень рано подключился сын, были разнообразны. То, как выращивается хлеб, младший Кольцов узнал не со стороны, не наблюдателем, хотя, естественно, с сохой от зари до зари не ходил. Он с десяти лет был в круговерти сельскохозяйственно-промышленно-торговой работы. И основное занятие Кольцовых — все-таки прасольство, скотопромышленные дела. «В прасольстве было много казацкого, удалого, что так нравится русскому человеку», — рассказывает старый воронежский краевед.
Белинский недаром называл степь первой «школой жизни» для Кольцова, ибо «изучение действительности» во многом началось здесь же. Наверное, не случайно именно в степи Кольцов по какому-то наитию разом — как током ударило — ощутил себя поэтом.
Естественно, что и по географии переездов, и по характеру деятельности приходилось видеть много людей, вступать с ними в разные отношения, попадать в разные обстоятельства. «Кольцов, — подтверждает современник и очевидец, — часто приезжал на хутор, куда в праздничные дни приглашали из соседних деревень крестьянскую молодежь, устраивал хороводы и принимал в них участие. Кольцов сам пел песни и даже плясал». А позднее, с середины 30-х годов, Кольцов уже не только участник таких встреч, праздников, хороводов, но и наблюдатель, и собиратель, и этнограф. С 1837 г. он, по собственным словам, «начинает собирать русские народные песни пристально». Кольцов действительно знал русского мужика и, как говорил Белинский, сам был сыном народа в полном значении этого слова: «Он знал его быт, его нужды, горе и радости; прозу и поэзию его жизни, — знал их не понаслышке, не из книг, не через изучение, а потому, что сам, и по своей натуре, и по своему положению, был вполне русский человек».
А что до учения, то началась вечная для русских самородков стезя: самообразование. Собственно, первоначально даже не самообразование, а просто чтение книг. Книги, читавшиеся Кольцовым, — обычные той поры книги для чтения низов: Бова, Еруслан… Но уже попадалась и «большая» литература: роман Хераскова «Кадм и Гармония», сказки «Тысячи и одной ночи». Все это была проза. В пятнадцатилетнем возрасте Кольцов узнает, что есть и стихи. Получить книгу для жаждущего простолюдина было нелегко. Можно представить, какой же манной небесной оказалось для молодого Кольцова знакомство с книгопродавцем Дмитрием Антоновичем Кашкиным. На протяжении пяти лет кашкинская книжная лавка была для Кольцова и училищем, и гимназией, и университетом, а сам Кашкин — литературным пестуном, наставником и критиком.
Дома созрела первая любовь поэта. В семье Кольцовых давно жила в прислугах крепостная женщина (юридически у недворян Кольцовых оформленная, естественно, на чужое имя). У нее росла дочь Дуняша. Росла вместе с дочерьми Василия Петровича, почти в их семье. Молодой Кольцов и Дуняша полюбили друг друга. Хозяйский сын и прислуга — коллизия довольно обычная, с, увы, довольно обычным, хотя и драматическим, исходом. Конечно, хозяин никак и мысли не мог допустить, чтобы единственный наследник и продолжатель дела связал себя браком с неровней. Тут-то выяснилось, что патриархальная близость отношений господ и слуг еще ничего не значит. Во время одной из отлучек сына — молодой Кольцов уже самостоятельно вел дела — отец продал Дуняшу и ее мать в донские степи.
Нам эта история известна, прежде всего из воспоминаний Белинского, которому через много лет Кольцов рассказал о Дуняше: «Эта любовь, и в ее счастливую пору, и в годину ее несчастия, сильно подействовала на развитие поэтического таланта Кольцова. Он как будто вдруг почувствовал себя уже не стихотворцем, одолеваемым охотою слагать размеренные строки с рифмами, без всякого содержания, но поэтом, стих которого сделался отзывом на призывы жизни…».
Никакого систематического образования Кольцов не получил, он был взят из второго класса уездного училища. Но из этого еще совсем не следует, что он не был причастен к образованию, и именно к такому, какое получали молодые люди губернского города в учебных заведениях достаточно привилегированных. В частности, таким заведением была гимназия, в которой Кольцову не пришлось учиться.
Но существовал и гимназический литературный кружок. Кольцов, как вспоминает современник, «не только бывал на собраниях этого кружка, но и относился к нему с полным сочувствием». Кроме того, в Воронеже издавна была культурным центром, и подчас очень высокого уровня, семинария. В семинарии тоже существовали свои литературные кружки, более серьезные и просто более профессиональные сравнительно с гимназическими. Одним из самых замечательных участников кружка был Андрей Порфирьевич Сребрянский. Сребрянский сыграл большую роль в собственно литературной ориентации Кольцова.
В 1831 г. впервые в московской газете «Листок» были напечатаны стихи под фамилией Кольцова. В том же году стихи напечатала уже не маленькая литературная газетка «Листок», а «большая», настоящая «Литературная газета», во главе которой стояли Дельвиг, Вяземский, Пушкин. Стихотворение Кольцова, в ней помещенное, было настоящим и в его настоящем жанре: впервые с печатной страницы глядела кольцовская «русская песня»:
Я затеплю свечу Воску ярова, Распаяю кольцо Друга, милова…1
(«Кольцо»)
Другой замечательный уроженец воронежской земли, Николай Станкевич, а именно он переслал стихотворение в «Литературную газету», вполне понял, что такое подлинный Кольцов. Станкевич же способствовал и выходу в 1835 г. первой книжки Кольцова.
Белинский, разделив стихотворения Кольцова на три типа, относил к первому «пьесы, писанные правильным размером, преимущественно ямбом и хореем… Таковы пьесы: „Сирота“, „Ровеснику“, „Маленькому брату“, „Ночлег чумаков“, „Путник“, „Красавице“ … В этих стихотворениях проглядывает что-то похожее на талант… из них видно, что Кольцов и в этом роде поэзии мог бы усовершенствоваться до известной степени… оставаясь подражателем, с некоторым только оттенком оригинальности… Но здесь и виден сильный, самостоятельный талант Кольцова: он не остановился на этом сомнительном успехе, но, движимый одним инстинктом своим, скоро нашел свою настоящую дорогу. С 1831 г. он решительно обратился к русским песням». Третьим типом Белинский считал думы.
Песни Кольцова
Сейчас мы, говоря о кольцовском творчестве, обычно называем самую характерную его литературную форму просто песней. Сам же Кольцов почти неизменно подчеркивает: «Глаза» (Русская песня), «Измена суженой» (Русская песня) или чаще: «Русская песня» («Ах, зачем меня…»), «Русская песня» («В поле ветер…»), «Русская песня» («Так и рвется душа…»). Эта подчеркнутость — не только дань литературной традиции, но и свидетельство первоначального острого осознания национальной самобытности. Но отнюдь не абстрактные сами по себе начала народной жизни владеют поэзией Кольцова.
«Для искусства, — писал Белинский, — нет более благородного и высокого предмета, как человек, — и чтобы иметь право на изображение искусства, человеку нужно быть человеком… И у мужика есть душа и сердце, есть желания и страсти, есть любовь и ненависть, словом — есть жизнь. Но, чтобы изобразить жизнь мужиков, надо уловить… идею этой жизни». Именно «идею» жизни «мужиков» и выразила поэзия Кольцова.
Впоследствии Глеб Успенский писал как о главном всеохватывающем и всепроникающем начале такой жизни — о власти земли. Но у Успенского понятие «власть земли» раскрывается и как особый характер отношений с природой, так что слово «земля», по сути, оказывается синонимом слова «природа». Такие отношения зиждутся на особом характере земледельческого труда. В качестве одного из главных аргументов Успенский привел поэзию Кольцова как поэта земледельческого труда: «Поэзия земледельческого труда — не пустое слово. В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда — исключительно. Это — Кольцов»1.
Именно идея такого труда стала главной идеей поэзии Кольцова. Что касается «земледельческого труда исключительно», то здесь Успенский впадает в односторонность — поэзия Кольцова многим шире. Подобно Пушкину, Кольцов мог бы сказать, что и он в «жестокий век» «восславил свободу», ибо человек Кольцова — это прежде всего свободный человек, в подлинном смысле слова «землепашец вольный». Есть у Кольцова стихотворение, которое, может быть, наиболее полно выражает такую «идею» земледельческого труда. Это многими поколениями заученная, прославленная, хрестоматийная «Песня пахаря». «В целой русской литературе едва ли найдется что-либо, даже издали подходящее к этой песне, производящее на душу столь могучее впечатление», — писал в 1856 г. М.Е. Салтыков-Щедрин2.
Что же такое сама эта картина труда в «Песне пахаря»? Вроде бы пахота? Но ведь и сев? И молотьба? Все сразу. Потому что пахарь есть и сеятель, и сборщик урожая:
Весело я лажу Борону и соху, Телегу готовлю, Зерна засыпаю, Весело гляжу я На гумно, на скирды, Молочу и вею…
Ну! Тащися, сивка! (67)
Пахарь пашет, но знает, как будет сеять. И знает не отвлеченным умом, как будет собирать посеянное, жать и молотить. Он идет по пашне, но видит гумно и скирды. Он трудится на пахоте, а думает об отдыхе. И не в конце пройденной борозды, а в конце всех работ:
Заблестит наш серп здесь, Зазвенят здесь косы;
Сладок будет отдых На снопах тяжелых! (68)
В «Песне пахаря» — не просто поэзия труда вообще, да и вряд ли такая возможна. Это поэзия труда одухотворенного, органичного, носящего всеобщий, но не отвлеченный характер, включенного в природу, чуть ли не в космос, ощущающая себя в нем и его в себе.
В статье «Народные песни старой Франции» Анатоль Франс писал: «…Спору нет, жизнь землепашца сурова. Жалобы провансальского пахаря, погоняющего своих волов, неизбежно трогают нас, так же как жалобы его беррийского сотоварища. И все же для нас очевидно, что к этим жалобам примешиваются радость, удовлетворение и гордость…
Слишком уж мрачными красками рисовали нам быт наших сельских предков. Они много трудились и порою претерпевали большие бедствия — но они отнюдь не жили по-скотски. Не будем так же усердно чернить прошлое нашей родины".
И провансальская песня, и сиракузская буколика, и русская песня — все эти песни пахаря близки друг к другу, так как имеют один общий родовой корень — труд на земле. Как несущий духовное начало сам труд радостен и весел: «Весело на пашне… Весело я лажу… Весело гляжу я…». Труд этот органично связан с природой; потому-то и природа, одухотворенная, ощущается тоже как организм.
Герои Кольцова укреплены в труде, в природе, в истории, в традиции. Вот чем определены их сила и мощь. Это и укоризна современности, упрек, подобный тому, что бросил другой великий поэт того времени — Лермонтов: «богатыри — не вы».
Мир поэзии Кольцова — мир живущий. Живут люди. В унисон им живет природа. И они с природой как бы уравниваются. Богатырство героев Кольцова природное. Таково богатырство косаря, проявляющееся в труде («Косарь»). И природа — его мера или, вернее, безмерность. Сама степь, в которую уходит Косарь и которую он косит, — без конца и без края: не какие-то там десятины или гектары. Даже в народной песне, с которой связана кольцовская песня, есть ограничения и прикрепления: «Ах ты, степь моя, степь моздокская». У Кольцова своя география, его степь — чуть ли не вся земля:
Ах ты, степь моя, Степь привольная, Широко ты, степь, Пораскинулась, К морю Черному Понадвинулась! (87)
Но это и определение человека, пришедшего в ней «в гости», идущего по ней, по такой, «вдоль и поперек». Почти как сказочный богатырь: «Зажужжи, коса, как пчелиный рой»; почти как Зевс Громовержец (или Илья-пророк): «Молоньей, коса, засверкай кругом».
Это действительно «слуга и хозяин» природы, слушающий ее и ею повелевающий. Все это чудное богатырство возникает именно в момент труда. При этом слово Кольцова не просто говорит о природной силе, о мощи и размахе, но эту силу, этот разворот несет в самом себе. Само это слово распирает внутренняя энергия, найденная поэтом в языке. «Русский язык, — писал Белинский в рецензии 1845 г. на одну грамматическую книжку, — необыкновенно богат для выражения явлений природы… В самом деле, какое богатство для изображения явлений действительности заключается только в глаголах русских… На каком другом языке передали бы вы поэтическую прелесть этих выражений покойного Кольцова о степи: расстилается, пораскинулась, понадвинулась…»
В «Косаре» работает не только косарь — мощно и вдохновенно трудится сам язык. По окончании труда все умеренно, всему возвращены реальные бытовые рамки:
Нагребу копен, Намечу стогов;
Даст казачка мне Денег пригоршни. (88)
Бытовые, но не обытовленные. И потому оплата все же предстает как «денег пригоршни», как «казна» и даже как «золотая казна».
Есть в стихах Кольцова и беды, и бедность. Но и они носят обычно характер обобщенный. Социальные мотивы есть, но они не подчеркнуты специально, не выделены.
Бедность может сопровождать несчастье в любви или даже быть причиной такого несчастья, как в «Деревенской беде», но не обязательна, как в «Последнем поцелуе», например. Реальные черты современного быта, могущие быть социально истолкованными, едва проступают.
И характер недовольства, неудовлетворенности, протеста и порыва к иному — к свободе, к воле — выражен тоже обобщенно. Он может показаться неопределенным, но это потому, что он и очень глубок, и очень широк. Вообще же Кольцов почти никогда не говорит в, своих стихах — свобода, но всегда по-народному — воля.
Начало вольности, протеста, порыва обычно связано у Кольцова с одним образом — образом сокола. Это и в «Стеньке Разине», это и в «Тоске по воле», и более всего в «Думе сокола». Сила «Думы сокола» и этого образа у Кольцова как раз в безмерности порыва. Вообще в песнях Кольцова есть чаще всего одно чувство и способность отдаваться ему до конца, ничего иного в это господствующее чувство не допускается. Лихач Кудрявич — в таком имени героя кольцовских песен уже заключена некая общая сказочная, песенная стихия. Кольцов и его герои умеют ощущать жизнь в ее стихиях. И особенно в стихиях музыкальных. Вряд ли кто из русских поэтов (если еще иметь в виду очень небольшое количество написанных Кольцовым стихов — несколько десятков) так обогатил русскую музыку. «Русские звуки поэзии Кольцова, — пророчил Белинский, — должны породить много новых мотивов национальной музыки». Именно потому, что песни Кольцова выражают стихии народной жизни и народного характера, это очень синтетические песни, где эпос объединяется с лирикой, часто переходит в драму. Известно, что с особым тщанием Кольцов собирал оперные либретто и сам очень хотел написать либретто для оперы. Да и знаменитый кольцовский «Хуторок» являет, по сути, драму, как бы «маленькую оперу».
Сам Кольцов назвал «Хуторок» русской балладой, ощущая его своеобразие, необычность, явно большую сравнительно с песнями сложность. Многое здесь идет от песни и объединяет с ней:
За рекой, на горе Лес зеленый шумит;
Под горой, за рекой Хуторочек стоит.
Пейзаж у Кольцова прост, не детализирован. И герои в «Хуторке» песенно однозначны: «молодая вдова», «рыбак», «купец», «удалой молодец» — претенденты на нее — соперники. Однако уже многогеройность определяет сложную, не песенную композицию: появляются целые монологи и диалоги. Да и в основе лежит подлинно драматическая ситуация с гибелью героев, ход рассказа о самой этой гибели, об убийстве построен по законам балладной поэтики, предполагающей таинственность и недосказанность.
«Он, — сказал о Кольцове Белинский, — носил в себе элементы русского духа, в особенности — страшную силу в страдании и в наслаждении, способность бешено предаваться и печали, и веселию, и вместо того, чтобы падать под бременем самого отчаяния, способность находить в нем какое-то буйное, удалое, размашистое упоение».
Литературные отношения во второй половине 30-х годов
«1836 год, — писал Белинский, — был эпохою в жизни Кольцова. По делам отца своего он должен был побывать в Москве, Петербурге и побыть довольно долгое время в обеих столицах. В Москве он коротко сблизился с одним молодым литератором, с которым познакомился еще в первый приезд свой в Москву. Новый приятель познакомил его со многими московскими литераторами». Действительно, почти весь январь 1836 г. Кольцов провел в Москве. «Молодой литератор», о котором говорит Белинский, — это он сам. «Многие московские литераторы» — прежде всего те, что группировались вокруг Станкевича. Кольцову повезло. Он попал в самый центр русской, во всяком случае московской, духовной жизни. Станкевич эту зиму жил в Москве, объединяя все лучшее, что тогда вообще имела здесь литература. Белинский уже приобрел свое влияние, а «Телескоп», главным критиком которого он был, становился ведущим журналом.
Вскоре после такого освоения московской литературной жизни Кольцов переезжает в Петербург и входит в петербургский круг литераторов. В сравнительно короткий срок он, явившись с письмом от Станкевича к Неверову, по цепочке переходит к Краевскому, далее к Жуковскому и восходит до Пушкина. Современник передает рассказ самого Кольцова о его первом визите к Пушкину уже после вторичного (!) приглашения: «Казалось, — говорил Кольцов — Пушкин предчувствовал свою близкую кончину и спешил воспользоваться кратким временем, назначенным ему судьбою, трудился день и ночь, никуда не выезжал и никого к себе не принимал, исключая самых коротких своих друзей. Едва Кольцов сказал ему свое имя, как Пушкин схватил его за руку и сказал: „Здравствуй, любезный друг, я давно желал тебя видеть“. Кольцов пробыл у него довольно долго и потом был у него еще несколько раз. Он никому не говорил, о чем он беседовал с Пушкиным, и когда рассказывал о своем свидании с ним, то погружался в какое-то размышление». При всем том Пушкин, очевидно, был строг и учителей и, главное, лишен той снисходительной умиленности, которая отличала тогда отношение к Кольцову — поэту из народа — многих причастных литературе людей.
В 1838 г. Кольцов почти полгода прожил сначала в Москве, потом в Петербурге и снова в Москве. Уже в июне, по возвращении домой, он написал Белинскому: «Эти последние два месяца стоили для меня дороже пяти лет воронежской жизни». «Последние два месяца» обращены собственно к Белинскому, но если уж говорить о сроках, то в таком случае можно было бы сказать, что шесть месяцев столичной жизни стоили пятнадцати лет воронежской. Конечно, дело не в сроках, это здесь лишь образ той необычной концентрированности в духовной жизни, которую второй раз пришлось после 1836 г. пережить Кольцову, а также в поражающей воображение интенсивности такой жизни, многообразии сфер, в которых она находила выражение. Трудно назвать какое-нибудь яркое художественное явление того времени в литературе, музыке или живописи, мимо которого прошел бы приехавший в столицы по тяжебным делам воронежский прасол. Кажется, нельзя вспомнить ни одного более или менее примечательного деятеля литературно-интеллектуальной жизни из бывших в ту пору в столицах, с кем бы Кольцов в свои последние годы и в те месяцы этих годов, которые жил он в столицах, не общался, не разговаривал, не спорил, не переписывался.
Думы
кольцов песня дума поэт Еще Белинский назвал думы Кольцова особым и оригинальным родом стихотворений. Этот род был связан с особенностями народной крестьянской жизни, с поисками смысла бытия и высших ценностей, социальных и нравственных. С другой стороны, есть сходство, близость, родство, совпадения всего круга идей и настроений, выразившихся в думах, с тем, что думали и чувствовали наиболее выдающиеся представители литературно-философской мысли того времени: Станкевич, Одоевский, Чаадаев, Павлов, Белинский.
В термине-определении кольцовская дума, очевидно, восходит к украинской думе. Тем более что Кольцов хорошо знал украинское народное творчество. Правда, именно с украинскими думами думы Кольцова мало связаны по сути, так мало или во всяком случае меньше, чем что-либо у него, связаны они и с собственно народно-поэтическим творчеством вообще. Обозначив жанр дум термином из народно-поэтического творчества, Кольцов именно в думах-то от этого творчества во многом и ушел. Нет у них ничего общего с думами Рылеева. Более всего по напряженному интеллектуализму думы Кольцова связаны с думами Лермонтова, если обозначить этим словом лермонтовские стихи-раздумья над судьбами своего поколения: одно из таких стихотворений 1839 г. Лермонтов, как известно, так и назвал — «Дума». Белинский недаром говорил «о резко ощутительном присутствии мысли в художественной форме» как об отличительной особенности Лермонтова. Правда, мысли Лермонтова именно здесь, в думах, наиболее непосредственно обращены в современность. Мысли Кольцова в думах отвлеченнее и философичнее в собственном смысле этого слова. Разумеется, и песни Кольцова не бездумны. Но в них обычно предстает общая народная мудрость, а не индивидуальное философствование.
Белинский писал: «Эти думы далеко не могут равняться в достоинстве с его песнями; некоторые из них даже слабы, и только немногие прекрасны. В них он силился выразить порывания своего духа к знанию, силился разрешить вопросы, возникавшие в его уме. И поэтому в них естественно представляются две стороны: вопрос и решение. В первом отношении некоторые думы прекрасны…».
Думы его — это действительно вопросы и вопросы: «Великая тайна», «Неразгаданная истина», «Вопрос».. Вопросы, которые Кольцов обратил к мирозданию, были подлинно философскими, такими, какими поставило их его время: о тайне жизни и о смысле ее, о сущности и цели человеческого бытия. В то же время они свидетельствовали о том, сколь универсальны были ум Кольцова, его чувство, его подход к жизни — качество, которое в известной мере утратит более специализированная поэзия последующей поры. С этой точки зрения М. А. Антонович верно отметил, что уже Некрасов не возносился в сферы необъятные ума, знания и философии, «которых касался даже Кольцов в своих детских наивных думах…». Для Кольцова характерно стремление «коснуться» всего.
Особо и тесно связаны думы Кольцова с идеями и настроениями Белинского. В литературе о Кольцове неоднократно отмечалась близость Кольцова Белинскому и в понимании общности человека и природы, и в вере в высокое назначение человека (дума «Человек»), и в осмыслении искусства, поэзии и «царя поэтов» Шекспира (дума «Поэт» первоначально так и называлась — «Шекспир» и совпадает с тем, что писал о Шекспире в 30-е гг. Белинский). Иногда дума Кольцова представляет почти стихотворное переложение критической статьи Белинского, которую, впрочем, тоже хочется назвать поэтической и которая, видимо, очень импонировала Кольцову этой своей поэтичностью. «Весь беспредельный, прекрасный Божий мир, — писал Белинский в „Литературных мечтаниях“ , — есть не что иное, как дыхание единой, вечной идеи (мысли единого, вечного Бога), проявляющейся в бесчисленных формах… Для этой идеи нет покоя: она живет беспрестанно… Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету; она живет и дышит и в бурных приливах и отливах моря, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения…»
А вот кольцовское «Царство мысли»:
Повсюду мысль одна, одна идея;
Она живет и в пепле и пожаре;
Она и там — в огне, в раскатах грома;
В сокрытой тьме бездонной глубины; '
И там, в безмолвии лесов дремучих;
В прозрачном и плавучем царстве вод глубоких, В их зеркале и в шумной битве волн;
И в тишине безмолвного кладбища;
На высях гор, безлюдных и пустынных;
В печальном завыванье бурь и ветра;
В глубоком сне недвижимого камня;
В дыхании былинки молчаливой…
При этом отношение Кольцова к идеям кружка его столичных друзей не было лишь ученическим. Многое в них отвечало его собственным умонастроениям и всему его мироощущению. Именно Кольцова должно было привлечь то, что, очень широко и условно определяя, можно было бы назвать шеллингианством: ощущение единства мира, чувство родства человеческой и природной жизни, выраженное в очень свободной, поэтической форме.
Философия природы
Природа творящая, единая, человек как ее часть, человек, в котором природа осознает себя и который чувствует эту неразрывную связь с природой, — эти начала должны были отвечать всему строю души и ума Кольцова. Но, очевидно, важно было для Кольцова и то, что такой строй мыслей и чувств получал санкцию образованных умов, подтверждался наукой. Потому Кольцовым и воспринимались люди такой науки особым образом, в духе тех идей, которые они несли. В 1840 г. поэт отозвался на смерть Н. Станкевича стихотворением «Поминки»:
Под тенью роскошной Кудрявых берез Гуляют, пируют Младые друзья! (155)
Кольцов опять очень точно воспроизвел Н. Станкевича в том качестве, в каком Станкевич и оказался, прежде всего, значим в истории духовной жизни России: как центр круга «младых друзей».
Но если круг «младых друзей» был важен для Кольцова, то и Кольцов оказался значим для них, во всяком случае для наиболее глубоких из них, как некое воплощение натурфилософских идей, как поэт, действительно воспринимающий целостную жизнь природы.
Было бы нелепо, конечно, искать у Кольцова философскую систему как таковую, «метафизику» (скажем, Н. Станкевич писал работу «Моя метафизика»). Но именно потому философские вопросы Кольцова выходят далеко за пределы какой бы то ни было системы. Органичный философский универсализм Кольцова не предполагал узкого философствования. Кольцов писал брату покойного поэта Дмитрия Веневитинова Алексею: «…за всеми недосугами читаю, пишу, и пусть впереди будет хуже, я все-таки буду идти тем путем, которым давно иду, куда бы ни дошел, все равно; в понимании явлений жизни — лучшая жизнь человека» (214−215).
Петрашевцы недаром смотрели на Кольцова как на один из залогов национального развития, как на «второго Ломоносова». В письмах Кольцова поражает прежде всего стремление к эстетической и интеллектуальной энциклопедичности. «Нет голоса в душе быть купцом, — пишет он Белинскому, — а все мне говорит душа день и ночь, хочет бросить все занятия торговли — и сесть в горницу, читать, учиться. Мне бы хотелось теперь сначала поучить хорошенько свою русскую историю, потом естественную, всемирную, потом выучиться по-немецки, читать Шекспира, Гете, Байрона, Гегеля, прочесть астрономию, географию, ботанику, физиологию, зоологию, Библию, Евангелие… Вот мои желания, и, кроме их, у меня ничего нет. Может быть, это бред души, больной и слабой; но мне бы все-таки хотелось бы это сделать, и я уж начал понемногу, и кое-что прочел» (247). «Да надо, — заявляет поэт в другом письме, — непременно изучить живопись и скульптуру. Они все вещи чудесные, и для человека, который пишет стихи, особенно необходимы» (251).
Кольцов общался со многими художниками, прежде всего с А. Г. Венециановым и его кругом. И это сравнительно понятно, тем более если полагать, что Венецианов являл что-то вроде аналога Кольцову в живописи. Но интересно, что Кольцова очень любил и Карл Брюллов.
В 1838 г. Кольцов написал стихотворение «Мир музыки», написал сразу, под влиянием музыкального вечера у Боткина. Вообще отношение и к музыке было у Кольцова особое и многообразное. Кольцов постоянно жил в музыкальной воронежской песенной стихии — и в селах, и дома. Однако многократно у него отмечена предельная острота реакции как раз на «высокую», «ученую», классическую музыку.
Отношения с Белинским. Письма Кольцова
С Белинским Кольцова связывала особая дружба. «Милый Виссарион Григорьевич! — пишет Кольцов Белинскому уже из Воронежа. — Здесь вот он — я. Весь день пробыл на заводе, любовался на битый скот и на людей оборванных, опачканных в грязи, облитых кровью с ног до головы. Что делать? — дела житейские такие завсегда… Ох, совсем было погряз я в этой матерьяльной жизни, в кипятку страстей, страстишек, дел и делишек. <…> Шестимесячная отлучка моя наделала хлопот, многие дела торговли шли уже дюже плохо; вот я и принялся их поправлять да поправлять, да кое-что и пошло своей дорогой» (216−217).
«Материализм», «матерьяльность», «бес материализма» все время возникают в кольцовских письмах этой поры. «Матерьяльность» все чаще является у Кольцова обозначением общего строя воронежской жизни, не всегда точно определяемой категорией общего жизненного уклада, знаком всего, что не приемлют ум и душа. Но, может быть, еще сложнее и драматичнее выглядит дело там, где выступала не материальная, а, так сказать, «духовная» сторона воронежской жизни. «С моими знакомыми расхожусь помаленьку… Наскучили все они — разговоры пошлые. Я хотел с приезда уверить их, что они криво смотрят на вещи, ошибочно понимают; толковал и так и так. Они надо мной смеются, думают, что я несу им вздор» (209). И Кашкин, и гимназические учителя, и семинарская профессура, т. е. воронежская интеллигенция, готова была принять и принимала Кольцова — купца, прасола, песенника, но не приняла его в качестве интеллигента-поэта. Как только Кольцов оказался выше ее уровня, она сделала все возможное, чтобы объявить его до ее уровня не добравшимся. В полный ход пошла классическая формула — «зазнался».
В письме к Белинскому, жалуясь на одиночество в Воронеже, Кольцов писал: «Москва! Вот когда я постигаю твое блаженство, вот когда я вижу, чем жизнь твоя прекрасна. Но мне не быть счастливым никогда. В Москве не жить мне век» (232).
Главное и чуть ли не единственное обаяние и всю прелесть Москвы составлял для Кольцова тогда еще в ней живший Белинский. В отличие от образованного воронежского общества, с Белинским-то «общие интересы» обнаруживались все явственнее. Более того, Кольцов был, наверное, единственным человеком в России, который уже тогда так понял роль, место, скажем сильнее, высокую миссию Белинского в русской жизни. «Апостол вы, а ваша речь — высокая, святая речь убеждения» (246). Был ли хоть один человек во всей России, который мог сказать и сказал бы тогда и так о Белинском?
Кольцов был замечательно цельный человек, и, конечно, уйди он в дела одной торговли, он мог бы стать богачом, капиталистом. Но его цельность все больше диктовала другое — посвятить себя делам одной литературы.
К 1840 г. окончательно назрел кризис, перелом, готовилось решение о разрыве со все более нестерпимым Воронежем, да и со всем строем жизни, в которой до того жилось. Разрыве полном, окончательном, бескомпромиссном. Разрыве внешнем и разрыве внутреннем. Во всем и со всеми.
Кольцов хочет «броситься в другую сферу». Он уже явно не вмещается в традиционные свои жанры — песню и даже думу. Его ум, его дух ищет новых горизонтов, других определений и иных форм выражения. В письмах Кольцова мы видим, какую он обнаруживает силу близких Белинскому критических прозрений, к каким, совершенно в духе будущего Островского, осознаниям жизни он приходил и в каких подлинно островских, сухово-кобылинских, щедринских сценах эти осознания представил. Именно письма Кольцова в их совокупности и в их становлении говорят о том, чем был Кольцов, и особенно о том, чем он мог стать.
Ощущение известной исчерпанности старого своего пути все чаще начинает прорываться у Кольцова. Письма, т. е. прежде всего письма Белинскому, оказались той лабораторией, в которой происходило становление новых начал.
«Не сомневаюсь, Кольцова будут петь, зная или не зная, что это Кольцов. А читать, по-моему, будут даже с большим интересом, чем ныне. И не только стихи, а и ту его великолепную, полную трагизма, весьма сюжетную повесть, которую мы называем эпистолярным наследием Кольцова. Мне кажется, что эти письма — эта сакраментальная проза поэта — еще не дошли вполне до широкого читателя, хотя они обращены столько же к прямым адресатам, сколько и к читателям будущего». Интересно, что это сказал Леонид Мартынов — советский поэт. Для понимания личности Кольцова эти письма бесценны — и бесценны именно как литературный памятник. Цитируя в своей статье одно из таких писем, Белинский замечает: «В этом письме весь Кольцов». Письма Кольцова — а всего их сохранилось семьдесят — это его дневник и его художественная проза, его философия и эстетика, его исповедь.
Не случайно чуткий редактор, уже в 1848 г. достаточно опытный издатель Н. А. Некрасов пишет в связи с судьбой архива только что умершего Белинского о драгоценности писем Кольцова именно к Белинскому: «весь Кольцов» прежде всего в них. Некрасов же не случайно называет письма Кольцова и драгоценным памятником рукописной нашей словесности.
Воронеж заставлял жить по-старому, а по-старому жить было уже Кольцову нельзя — ни внешне, ни внутренне, ни социально, ни творчески. Вот почему, очевидно, на утешения и на уверения Белинского, сколь много дали Кольцову занятия литературой и куда эти занятия отворили ему двери, Кольцов отвечал словами, полными достоинства и проникнутыми сознанием трагизма: «Я все это знаю, но, Виссарион Григорьевич, я человек, а у человека желаньям нет конца, они вечно неисполнимы… кому люди помогли вполовину, тот уже по закону необходимости ждет больше, и его жажды напитать ничем нельзя».
Конец жизненного и творческого пути
Между тем и со здоровьем становилось все хуже. Белинский писал в статье о Кольцове: «Нельзя не дивиться силе духа этого человека. Правда, он надеялся выздороветь, и не хотелось ему умирать; но возможность смерти он видел ясно и смотрел на нее прямо, не мигая глазами».
Со смертью сына Василий Петрович чуть ли не испытал облегчение. Во всяком случае, если верить купцу И. Г. Мелентьеву, на следующий день к нему в лавку в Темном ряду Василий Петрович явился выбирать парчу, кисею и бахрому и оживленно рассказывал, как вчера вечером весело провел время в трактире по случаю удачной сделки. «А кому ты это парчу покупаешь?» — «Сыну… Алексею: вчерась помер…».
Что касается самих похорон, то, по рассказу сестры поэта Александры Васильевны, когда из ворот двухэтажного каменного дома на Большой Дворянской медленно выходила погребальная процессия, за гробом шли только родственники покойного, несколько знакомых купцов и мещанда два или три учителя местной гимназии и несколько гимназистов и семинаристов. Правда, погода была осенняя, ненастная, но при всем том похороны вышли более чем скромные.
В ноябре 1842 г. в одной из метрических1 книг Воронежа появилась запись: «Октября 24-го умер, ноября 1-го погребен на кладбище Всех Святых воронежский мещанин Алексей Васильев Кольцов, 33 лет, от чахотки».
В последней статье о Кольцове Белинский писал: «Такова была жизнь этого человека. Рожденный для жизни,» он исполнен был необыкновенных сил и для наслаждения ею, и для борьбы с нею; а жить для него значило — чувствовать и мыслить, стремиться и познавать".
1. Аношкина, В. Н. История русской литературы XIX века: 1800−1830-е годы [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. / Под ред. В. Н. Аношкиной, Л. Д. Громовой, — М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. — Ч. 2. — 256 с.
2. Кольцов, А. В. Сочинение [Текст] / А. В. Кольцов. — М.; Правда, 1984. — 51 с.
3. Кольцов, А. В. Песня пахаря [Текст]: Стихи / А. В. Кольцов. — М.; Детская литература. — 1976.