Власть и реальность индивидуального существования в римском стоицизме
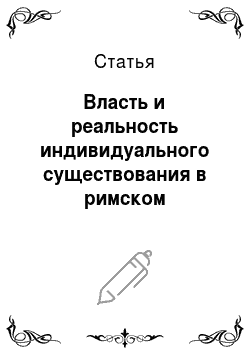
Странно все же получается: то стоик все, не зависящее от него, отодвигает от себя как внешнее и чуждое божественному в человеке — уму, то вдруг оказывается, что пребывание в окружающем мире — это участие в торжественном шествии и всеобщем празднестве, которое заслуживает «благоговейной благодарности за все услышанное и увиденное». Уже и вопроса не стоит, хорош ли видимый мир, заслуживает ли… Читать ещё >
Власть и реальность индивидуального существования в римском стоицизме (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Власть и реальность индивидуального существования в римском стоицизме П.А. Сапронов
При всем различии в осмыслении власти между Платоном и Аристотелем эта тема рассматривается у них в соотнесенности с полисом и реалиями полисной жизни. И у одного, и у другого философа полис представляет собой тот видимый мир, который через посредство властных отношений соединяется с умопостигаемым миром. По сравнению с греческой классикой эпоха эллинизма и последующая римская античность резко сместили угол зрения на власть. Теперь философию власть интересует, а точнее будет сказать, касается, преимущественно как реальность жизни уже не полиса, а самого философа. Если Платон и Аристотель при помощи власти стремились соединить видимый мир в его целом с миром умопостигаемым как таковым, то эллинистические и римские философы были озабочены такого рода соединением в пределах индивидуального существования. Наиболее внятно и полно указанная тенденция представлена в стоицизме. При том, что стоики создали достаточно разные философские построения, тема власти у них звучит в значительной степени на общеантичный лад. В той мере, конечно, в какой она имеет отношение не к полису, а к отдельному человеку.
Что бы ни говорили стоики, что бы мы ни вычитывали у них о власти применительно к индивиду, всегда у стоиков присутствует одна и та же предпосылка: человек — это ум, душа, тело. Здесь, в сущности, они ничем не отличаются, скажем, от тех же Платона и Аристотеля. Понятно, что там, где присутствует подобное расчленение, оно образует иерархию в направлении от ума через душу к телу. Далее и стоики, и Платон с Аристотелем равно утверждают не просто приоритет ума над душой и телом, но и относят его к божественному в человеке. Непосредственно ум пребывает в душе, образуя ее разумную часть в противоположность чувственной и страстной. Разумная часть души (подобное ведь привлекает подобное) устремляется к своей родине — умопостигаемому и божественному, соответственно страстную составляющую души влечет телесное. Пожалуй, ничему в сказанном Платоном и Аристотелем об уме и душе не противоречат и следующие строки из написанных через пятьсот лет после платоновских и аристотелевских сочинений «Размышлений» позднего стоика Марка Аврелия:
«Свойства разумной души: самое себя видит, себя расчисляет, делает себя такой, как хочет, плод свой сама же пожинает, … приходит к своему назначению, когда бы ни поставлен был предел жизни. Тут не то, что в пляске, лицедействе или еще в чем-нибудь таком: вмешается что-нибудь — и все действо не завершено. Нет, в любой части и где бы ее ни захватили, она делает полным и самодостаточным то, что сама себе положила, как будто говорит: что мое, то при мне» (XI, 1) Здесь и далее пер. А. К. Гаврилова. Цит. по изд.: Марк Аврелий Антонин. Размышления [1, с. 61]. .
Поскольку у царственного философа речь идет об автаркии, почему бы ее не одобрить и по-своему принимавшим автаркию Платону и Аристотелю. Однако если мы и вправе рассчитывать на взаимопонимание великого римлянина и великих греков в отношении к человеческой самодостаточности, то все же нельзя не признать, что акценты по одинаково приемлемому пункту у них очень различны.
У Марка Аврелия, и в этом он чистый стоик, акцент однозначно делается на препятствиях, с которыми сталкивается человек при достижении желаемого и единственно достойного состояния. Препятствия эти так велики, что человек в любой момент может потерять жизнь. Просто жизнь — и так проблема часто неразрешимая, а тут еще разговор о самодостаточности, т. е. божественной жизни. На этих крайностях выстроен весь стоицизм. Человек живет в мире, от которого бесконечно зависит его благополучие и самое существование, и все-таки он стремится к достижению некоторого абсолютного состояния, и не просто стремится, но и полагает, что его можно достигнуть. Причем достигнуть за счет безусловной власти над собой, которая спокойно уживается с бесконечной зависимостью от мира, подвластностью ему. Противоречия между господством и подчинением для стоиков не существует ввиду их знаменитого разделения всего существующего на зависящее и не зависящее от человека. Если воспользоваться одной из бесчисленных у стоиков, в том числе и у одного из них — Эпиктета, — формулировок, то «боги сделали зависящим от нас только самое лучшее из всего и главенствующее — правильное пользование представлениями, а все остальное — не зависящим от нас» (I 1, 7 — 8) Здесь и далее пер. Г. А. Тароняна. Цит. по изд. Беседы Эпиктета.. В соответствии с другой формулировкой «зависит от нас свобода воли и все дела, зависящие от свободы воли, а не зависит от нас тело, части тела, имущество, родители, братья, дети, отечество, словом, общество» (I 22, 10).
По Эпиктету и в полном согласии со стоической доктриной вообще «правильное пользование представлениями вполне совпадает со свободой воли». Здесь человек целиком пребывает у самого себя, и никто ему не указ. Правильно пользоваться представлениями может только ум. Стало быть, именно деятельность ума в человеке независима ни от чего внешнего, в ней человек свободен и самодостаточен. С этим согласился бы едва ли не любой античный философ. И даже бы напомнил, что уму пристало властвовать над низшей — страстной — частью души и над телом. Стоику в этом случае возразить вроде бы нечего. Но уточнения с его стороны были бы необходимы. И в первую очередь касательно того, что господство ума над душой и телом — особого рода. Хотя оно и имеет место, но совсем не предполагает борьбы за власть. Гораздо важней для стоика не властвовать над телом, а быть независимым от него. Связь с ним должна быть такого рода, когда ущерб телу и даже расставание с ним для ума было бы легким и ничего для него не значило. Властвование над телом и низшей частью души для ума состоит прежде всего в том, чтобы держать их в узде, не давать им никакой власти над собой, затем пользоваться их услугами, но во всегдашней готовности отказаться от любой из услуг.
Отчасти это достаточно последовательная позиция, когда властитель, несмотря на то, что властвует, стремится выработать в себе и сохранить полную независимость от подвластных. В такой позиции самой по себе есть нечто царственное и божественное. Но в нашем случае царственность до конца не выстраивается, так как настоящих прав на душу и тело у ума нет. Его отношение к ним предполагает и бесконечное превосходство, и неспособность удержать власть над ними. Платон, скажем, из такого превосходства выводит господство умной части души над душой и телом и на космическом, и на полисном, и на индивидуально человеческом уровнях. У стоиков божество-ум тоже представляет собой начало, определяющее всю жизнь космоса. Но люди — обладатели ума, т. е. божественного начала в себе, — эту свою божественность распространять во вне не могут. Она пребывает в самой себе. Очень характерно, что по отношению к уму Эпиктет употребляет выражение «сколок бога». Тот, пронизывающий весь космос ум-логос, который все определяет, в человеке оказывается началом изолированным и в этой изолированности обращенным к себе самому. Этому «сколку бога» по силам лишь сохранить самого себя, чтобы в смерти воссоединиться с тем, от кого он был «отколот». Самосохранение ума — не такая уж простая задача. Выполнима она при условии независимости от всего внешнего мира. А он для ума внешний, начиная от собственных страстей человека, его тела, родственников и далее, вплоть до всего, с чем соприкасается человек. Независимость здесь совпадает с ощущением неизмеримого превосходства над внешним миром. Ум в этом мире как бы царствует, но не правит. Он законный властелин, в оторванности от своего источника — космического умалогоса — не могущий и не желающий осуществлять свою власть. Скорее наоборот, ум изо всех сил стремится не дать человеку подпасть под власть мира. Он обороняющаяся сторона, которая непрерывно отбивает атаки на человека его страстей, а через них и всего остального мира.
Новоевропейская философия, как правило, знает противопоставленность человеческой свободы и жесткой детерминированности. Согласно этой схеме человек или сам есть причина своих действий, или же они суть следствие внеположенных им причин. Подобное представление не играет существенной роли в стоицизме. Для него единственно важно решить вопрос о рабстве и свободе человека. Соответственно, и человеческая несвобода видится стоиками в неспособности противостоять обстоятельствам, подвластности им. Тема свободы у них неразрывно связана с темой власти. Свободен тот, кто неподвластен. Властитель ли он — решающего значения не имеет. Сама по себе власть над другим к свободе не ведет. С собственной несвободой человека его властвование вполне совместимо. Он может быть господином в одном и рабом в другом отношении. А вот от неподвластности к свободе прямая дорога. Конечно, она ничего общего не имеет с анархией как стихийной игрой сил и произволом. Неподвластность другим открывает перспективу для осуществления в себе разумности. Там, где нет власти, разворачивает себя ум. И разворачивает таким образом, что внешний человеку мир отходит на задний план и сам по себе теряет для человека значение. Ум перестает нуждаться во власти над миром потому именно, что вполне достаточен для себя, а в нем самодостаточным становится и человек в целом.
Однако при всей своей автаркии философ-стоик вовсе не отворачивается от внешнего мира, предаваясь созерцанию вечности и умопостигаемого. Для него очень важно умозрение, созерцающее космос в его единстве, взаимопереходе частей и пронизанности их единым космическим началом ума. Но не в меньшей степени стоик обращен к повседневности, где и проявляет себя философски выделанный ум. В прямую противоположность Платону он направлен на видимый мир вовсе не для того, чтобы законодательствовать и править им. Он-то как раз и не зависит от человека, какой бы мудростью тот ни обладал. Но откуда тогда и зачем неизбежно возникает вопрос, обращенность человека к чуждому ему миру? От такого мира, мира чуждости и неподатливости, впору отвернуться, предавшись созерцанию вечного. В том и дело, однако, что никакого подобия мира идей, никакой погруженности во благо или Единое стоики не знают. У них ум и разумность — это ум и разумность видимого мира. Так обстоит дело с божественным умом-логосом, так и с человеческим умом — «сколком бога». С той, правда, разницей, что один из них животворит и движет космос, другой же пребывает в нем как непрошеный и нежеланный гость. Поскольку у ума нет своей «умной» сферы самобытия — тождественности себе (Платон) или мыслящего себя мышления (Аристотель), то он всецело погружен в видимый мир. Но задача его такова, чтобы каждый раз обнаруживать и удостоверять свою внемирность. Погруженность в мир и внемирность взаимно предполагают друг друга. Вот как они сочетаются у Эпиктета:
«Поэтому добродетельный человек, памятуя о том, кто он есть, откуда пришел и от кого произошел, посвящает себя только тому, как ему занимать свое место, подчиняясь строгому порядку и повинуясь богу. „Ты хочешь, чтобы я еще существовал? Я буду существовать как свободный, как благородный, как захотел ты. Ты ведь создал меня неподвластным помехам во всем моем. Но больше я тебе не нужен? Да будет во благо тебе! И до сих пор я оставался благодаря тебе, и никому другому, и сейчас я ухожу, повинуясь тебе“. — „Как ты уходишь?“ — „Опять-таки, как захотел ты, как свободный, как твой служитель, как осознавший твои приказания и запрещения. А пока я пребываю в служении тебе, кем хочешь ты, чтобы я был? Должностным лицом или частным лицом, членом совета или простым гражданином, воином или военачальником, наставником или домохозяином? Какое бы место пребывания и место в строю ты ни назначил мне, я, как говорит Сократ, скорее умру много тысяч раз, чем оставлю его. … Если ты пошлешь меня туда, где людям невозможно вести жизнь в соответствии с природой, я уйду, не потому, что не повинуюсь тебе, но потому, что ты это возвещаешь мне отступление. Я не оставляю тебя. Ни в коем случае! Но я осознаю, что я тебе не нужен“ …» (III 24, 95−102).
По Эпиктету выходит, что неотмирное существование человека и включенность в дела видимого мира ничуть не противоречат друг другу ввиду его обращенности к богу. «Сколок бога» ощущает себя прежде всего частью божественного ума и только потом — погруженным в мир. В мире он представительствует не за себя, а за бога, несет своего рода послушание, предполагающее безусловное повиновение и покорность. Они ни в малейшей степени не делают человека рабом уже потому, что, повинуясь богу, признавая его власть, человек действует разумно, т. е. в соответствии с природой высшего в нем — ума. Ум же, по существу, у стоиков видит свою задачу в том, чтобы в меняющихся обстоятельствах каждый раз подтверждать свою независимость от мира, вознесенность над его суетой. Конечно же, устойчивое в мире — это божественный разум, и повиновение ума уму в таком случае естественно. Оно придает смысл претерпеванию стоиком неподвластного ему мира. Претерпевание здесь равнозначно исполнению долга перед богом, а не слепое покорствование. «Сколок» отъединен от целого, как и почему — он не ведает. Но ему дано знать самое главное — свою одноприродность с целым. Как будто можно было бы ожидать от погруженного в умозрение человеческого ума его воссоединения с космическим умом-логосом на манер Платона и платоников. Однако у стоиков подобный ход мысли не осуществляется, так что остается предположить наличие у них более сильно выраженной, чем у последних, исходной интуиции разрыва между божественным и человеческим. Она не преодолима умозрительно. Точнее сказать, все же преодолима умом, но не как движение его мысли, а скорее как присутствие в уме сознания своего сущностного единства с божеством. Ум знает, откуда он родом, но его знание остается незнанием характера несомненного для него родства. Такая невольная отчужденность и не преодолимая человеческим умом оторванность от своего источника оставляет ему возможность внеразумной связи с космическим разумом. Он признается именно в качестве разума, выражается в готовности ему неукоснительно следовать и безоговорочно, даже благоговейно принимать его действия. Но поскольку разумность ума-логоса остается человеческому уму невнятной в своей разумности, на передний план выступает вера в разумность непостижимого. Отсюда пафос повиновения и служения у Эпиктета или Марка Аврелия.
Стоики осуществляют их, несмотря на то, что им не дано постичь разумности действий божественного начала. Разумность предполагается как таковая, и потому у Марка Аврелия, к примеру, она становится неотличимой от судьбы, когда он пишет, что: «…свойством собственно достойного человека остается любить и принимать судьбу и то, что ему отмерено» (III, 16). Или, того больше: «Добровольно вручай себя пряхе Клото и не мешай ей впрясть тебя в какую ей угодно пряжу» (IV, 3). Судьба уж точно внесмысловое начало, и если император-стоик заговаривает о любви к ней или своей готовности быть «впряженным» в ткань судьбы, то ясно, что в судьбе он видит скрытое действие смысла и разума. Ей ведь Эпиктет и Марк Аврелий готовы повиноваться не как чистой данности. Их позиция по отношению ко всему происходящему в мире — это позиция претерпевания, а вовсе не благословляющего приятия. Разумные основания и результаты очевидных ужасов и непотребств, происходящих с человеком, не предполагают, что непосредственно вершащиеся ужасы и непотребства сами разумны и божественны. Повторим, речь идет о началах и концах, ведомых божественному уму. В той мере, в какой все исходит от него, происходящее остается претерпеть с покорством, а то и с благоговением. Покорство и благоговение обращены не к действующей в мире силе, а к скрытой за ней разумности. Сила подчиняет себе сломленных и подавленных, она насилует. Разум, если он действует как таковой, убеждает, т. е. принимается добровольно. Своеобразие же ситуации у стоиков в том, что они у действующего в качестве силы разума предполагают непостижимую разумность. Это и есть вера. Она вовсе не предполагает откровения и не опирается на него. Открывать себя в лице божественного ума некому. Ничто не говорит в пользу того, что этот ум обладает самосознанием или каким-то его подобием. Он мыслит не самого себя, а вещами и действиями. В обращенности к ним ум обнаруживает свою разумность. Впрочем, «обнаруживает» здесь очень неточное слово. На самом деле не обращенный на себя, не обладающий для себя бытием ум не обнаружим, поскольку обнаружение предполагает того, перед лицом которого оно происходит. Ум-логос действует как бы ни для кого. Себя он не сознает. «Сколки бога», люди, сознают только самое наличие ума-логоса, а не его разумность. От этого их вера — повинующееся благоговение становится едва ли не надрывнопатетичной. Повиноваться тому и благоговеть перед тем, кого как бы и нет, потому что он никогда не узнает о твоем повиновении и благоговении, можно только непрерывным принятием пустоты, которая есть и пустота слепых глазниц неотличимого от судьбы разума-логоса, и перспектива слияния его части с всеобъемлющим целым, где индивидуально человеческого существования уже не будет.
Вот один из примеров такого самопреодоления и надрывной патетики:
«А я никогда ни помех не испытывал, когда хотел чего-то, ни принуждений не испытывал, когда не хотел чего-то. И как это возможно? Я вверил свое влечение богу. Он хочет, чтобы у меня была лихорадка, — и я хочу. Он хочет, чтобы я влекся к тому-то, — и я хочу. Он хочет, чтобы я достиг того-то, — и я желаю. Он не хочет — я не желаю. Значит, умереть — я хочу. Значит, подвергнуться пыткам — я хочу. Кто еще может помешать мне вопреки моему представлению или принудить меня? Не более, чем Зевс» (IV 1, 89−90).
В этих строках Эпиктет демонстрирует нам, как сделать божественную волю своей. Она проявляет себя чистым безосновным хотением. Всего, что происходит в мире и с этим вот человеком, хочет бог. Почему и для чего — задаваться вопросом бессмысленно. Человек, если он мудр, может только принудить себя желать желаемое богом. Однако чистому принуждению здесь подвергается не только низшая часть души и тело. Они не хотят и не могут хотеть пыток или лихорадки. Но они и не самопреодолеваются, и не покорствуют в благоговении. Их человеческий ум держит в жесткой узде, направляя по своему желанию как рабов. Само же желание лихорадки, пытки, смерти ум делает своим не в чистом виде, а потому, что этого хочет бог. Их принятие для человека менее всего сродни и какому-то подобию садистского маразма разума, который радуется страданиям своих чуждых ему спутников на жизненном пути — души и тела. Единственное, что заботит ум, желающий лихорадки, пыток и смерти, — удостоверения в отсутствии у него привязанности к телу и душе, полном равнодушии к ним, а значит, принадлежности к божественной первореальности. Эта принадлежность, правда, не выявима человеческим умом на его собственной почве — размышлении. Для него остается только путь волевого усилия — «хочу». «Хочу, потому что разумно, хотя и не знаю, в чем тут разумность» — вот вера и пафос самоотречения стоика. Он отрекается не просто от души и тела — что царю отрекаться от чуждых ему и нерадивых рабов — у него происходит отречение ума от самого себя. Ум становится чистой волей ввиду неспособности промыслить желаемое. Что лихорадка, пытки, смерть разумны сами по себе, этого не скажет никакой стоик. Что в них и через них осуществляется разумное, с этим он уже согласится. Согласие же его и будет покорностью, кротостью, служением, благоговением человеческого ума перед божественным умом.
Видимо, нельзя не признать, что властные отношения, которые стоик-мудрец устанавливает между человеком и богом, достаточно странные и необычные именно в качестве власти. Все-таки ее наличие предполагает и властителя, и подвластного, и повеление, и подчинение. В нашем же случае налицо только последнее, потому что в качестве властителя божественный ум себя никак не обнаруживает. Ведь властитель ставит перед подвластным какие-то цели, каким-то образом реагирует на их выполнение или невыполнение. В повелениях властителя не может не обнаруживаться для подвластного своя логика. Она способна сделать действия последнего разумно обоснованными во всех звеньях. Разумность может быть сведена и к самому минимуму. Но совсем не просматриваться во властности разумное начало не должно. Конечно, если, например, господин будет, не объясняя, приказывать слуге поливать клумбу керосином, в этом не будет никакого разума и смысла. Но тогда и слуга-подвластный начнет играть роль не столько подвластного, сколько орудия-механизма, а властное отношение станет отношением собственности, более или менее осмысленным действием одного лица и т. д.
По существу, действие на человека божественного ума не оставляет ему даже роли орудия, настолько оно не выстраивается ни в какое подобие смысла. На человека посылается лихорадка — орудие специально не стремятся подвергнуть ржавчине или гниению; человека пытают — орудие ни с того ни с сего не ломают; человека умерщвляют — уничтожение орудия, пока оно пригодно, — дело рук сумасшедшего или неприятеля. По бессмыслице действий, конечно, бессмыслице как принципиальной непостижимости человеком, действия божественного ума стоиков ничем не отличаются от того, что делает сумасшедший или беспощадный неприятель. Те, кто если и властвует, то лишь в ближайшей перспективе уничтожения подвластного. Но вот для стоиков становится вполне приемлемым сумасшествие, и враждебность на одном полюсе дополнить служением и благоговейной покорностью — на другом. Они видят в божественном уме мудрого и благоволящего к ним властителя. Иначе откуда служение и благоговейная покорность? Стоики как бы отвечают любовью на действие того, кто, казалось бы, менее всего мог бы вызвать подобные чувства. И действительно, стоикам как будто мало видеть властелина в сумасшедшем и неприятеле, их приятие доходит до грани покорности-любви. Они готовы истолковать в пользу божественного ума и, соответственно, в собственную пользу все, что бы от него ни исходило. Если короля играет свита, то надо признать, что в лице стоиков божественному уму досталась свита, которой король сыгран как бы из ничего, а точнее, несмотря ни на какие королевские выкрутасы.
Впрочем, верность и преданность человека своему немыслимо странному богу не то чтобы подлежит существенному ограничению, но не является такой уж безусловно монолитной и однородной. При ее осмыслении и оценке нужно учитывать два равнозначных пути. Стоит пойти по одному из них, и придется признать, что вся патетика стоического толка предполагает самоотречение человека от одного только своего ума, когда он принимает рационально им не постижимое. Ведь от тела и души не отрекается тот, для кого они чужды и безразличны. Претерпевая страдания, человек одновременно сосредоточивается в своем уме, в себе как подлинности бытия. Правда, как ум он себя все-таки не удерживает, переходя в волю приятия власти бога, в отмеченное уже «хочу». Дело, однако, несколько осложняется другим моментом, вовсе не чуждым ни Сенеке, ни Марку Аврелию, ни Эпиктету. Этот момент, пожалуй, наиболее красноречиво выражен следующими словами Эпиктета:
«И вот, получив все, и даже самого себя, от другого, ты еще досадуешь и жалуешься на давшего, если он отнимет у тебя что-то? Кем ты и для чего пришел? Разве не он ввел тебя? Разве не он показал тебе свет? Разве не дал содействующих? Разве не дал чувства? Разве не дал разум? А кем ввел? Разве не смертным? Разве не для того, чтобы ты с некоторой толикой бренной плоти пожил на земле, созерцал его управление, принял с ним участие в торжественном шествии и в празднестве некоторое время? Так, значит, ты не хочешь, пребыв в созерцании торжественного шествия и всеобщего празднества до тех пор, пока дано тебе, затем, когда он уводит тебя, уходить с благоговейной благодарностью за все услышанное и увиденное?.. Уйди, удались как благодарный, как совестливый. Дай место другим… Что ты создаешь тесноту в мироздании?» (IV I, 103−106).
Странно все же получается: то стоик все, не зависящее от него, отодвигает от себя как внешнее и чуждое божественному в человеке — уму, то вдруг оказывается, что пребывание в окружающем мире — это участие в торжественном шествии и всеобщем празднестве, которое заслуживает «благоговейной благодарности за все услышанное и увиденное». Уже и вопроса не стоит, хорош ли видимый мир, заслуживает ли он одобрения или восхищения. Да, он дивно прекрасен и божествен, во всяком случае связан с богом через торжественное шествие и всеобщее празднество. И теперь стоик решает задачу, на каких убеждающе-разумных основаниях можно покинуть праздник жизни. Основание здесь одно — участия в празднике могло и не быть. То, что получил человек, он получил от бога, и сколько бы ни длилась земная жизнь — это праздник, когда бы она ни прервалась, человеку остается одно — «благоговейная благодарность». И это благодарность того, кто превыше всего ставит разумность и «правильное пользование представлениями». Они в человеке от бога, даже само божество в нем. Казалось бы, своей разумностью и ее осуществлением только и пристало дорожить человеку. Но нет, он еще и загляделся на мир, на то, как прекрасно и гармонично все в нем устроил божественный разум. Красота и гармония, правда, почему-то ничуть не противоречат ужасам и несчастьям, которые в любой момент могут разразиться над любым человеком. Божественен мир в своем управлении божественным разумом, божественен человек, «правильно пользующийся представлениями», а вот созвучия и гармонии между ними нет в помине. Зато есть благоговение со стороны человека, никак не подкрепляемое благословлением, исходящим от бога. Человек как будто до конца и не знает, куда податься, как приблизиться к божественности, через ум ли с его правильным пользованием представлениями, включенностью ли в пронизанный божественным умом мир. Пути это взаимоисключающие, но, похоже, попеременно привлекают к себе стоика. Все в основе своей ясней и последовательней было у Платона и платоников. Для них существует самостоятельный и отделенный от видимого умопостигаемый мир. Поэтому уходить им предстояло не с торжественного шествия и всеобщего празднества исполненными благодарности к богу за увиденное и пережитое. Совсем напротив, поскольку для Платона и его последователей «все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами», то они, если уж вести речь о благодарности и благоговении, могли бы благодарить бога за то, что он забирает их в свой умопостигаемый мир. Ничего не скажешь, по сравнению с платониками стоики ощущали и осознавали себя в несравненно более суровой и жесткой реальности. Их безответное послушание-преданность богу, неизменная готовность найти основание и повод к служению ему ни во что не разрешались. Такая безупречная свобода в приятии бога и служении ему как будто только и может разрешиться в самораскрытии бога как разумного начала такому же началу разума. Ничуть не бывало. Завершенность своей добровольной подвластности-служения сами стоики видели в своем уходе — слиянии с богом. Уходе в безличное и не сознающее себя начало, которое каким-то непостижимым образом сделало доступным сколкамлюдям недоступное себе — живое ощущение и осознание себя и окружающей жизни.
О стоике остается сказать, что он был и безупречным подвластным у никак не отвечающего ему взаимностью бога, и вместе с тем безупречным властелином своей души, тела и окружающего мира. Правда, так же, как он, по существу, стал подвластным без властелина, так же, с другой стороны, властвованию стоика не соответствовало наличие достойных и вровень ему подвластных. В ситуации невозможности властвовать стоик находил единственно приемлемый выход — снисходительное или высокомерное, но обязательное игнорирование тех реалий, выше которых он себя ощущал. Стоик — бескорыстный свободный подвластный и ничего не уступающий тому, с кем бы он согласился иметь дело как властелин. Рискнем, наконец, и на последнюю формулировку: власть в тех пределах, в которых ее дано было понимать Античности, у стоиков приходит к самоотрицанию. Античность насквозь была пропитана властными отношениями на пределе их властности, она знала в качестве непременных, естественных и законных отношения господина и раба. Но когда мы читаем у последнего из великих римских императоров-язычников, у властелина по преимуществу и у римского раба одну и ту же мысль о том, что никто никому не господин и не раб, это знак, и указывает он на странный тупик в осуществлении и понимании власти. Все-таки на ней держалось очень многое: и связь ума с душой и телом в индивиде, и связь индивидов друг с другом и полисом, и связь полиса с первореальностью умопостигаемого мира, и, наконец, соотнесенность с этим последним видимого мира в целом. Теперь эти связи рушатся, и власть приобретает парадоксальный характер. Оказывается, в частности, что для ее существования совсем не обязательны властитель и подвластный в их сопряжении. Человек попеременно выступает в каждой из двух ролей, попеременно сводит счеты с самим собой в отрыве от метафизической реальности.
римский философ стоик власть
1. Марк Аврелий Антонин. Размышления / пер. и прим. А. К. Гаврилова. СПб.: Наука, 1993 (2-е изд.).
2. Эпиктет. Беседы / пер. Г. А. Тароняна. — М.: Ладомир, 1997.