Поиск собственного пути
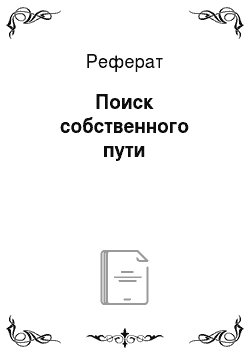
События, обычно развертывающиеся неспешно у Ж. Верна, здесь все более и более ускоряют свой бег, как бы подстегивая друг друга. Увидев в телескоп движущиеся возле луны пятна, отважные путешественники уже через полчаса (!) летят к ним на восемнадцати аэростатах и после катастрофы попадают на одно из пятен, которое оказывается необитаемым летающим островом. Однако Чехонте, откровенно веселясь… Читать ещё >
Поиск собственного пути (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Пародии Чехонте.
Причина успеха Чехова в значительной мере заключалась в четкости его эстетической ориентации, в том, что молодой писатель даже в первых своих шагах, в первых литературных опытах (в своих «мелочах» и «мелочишках») никогда не шел на ощупь. Еще только вырабатывая свой стиль, свои приемы, он твердо знал, что ему нужно, а от чего можно отказаться и чем следует пренебречь. Чехонте начинает с того, что проводит своего рода ревизию прозаических жанров, отвергая псевдоромантизм, избитые литературные штампы и приемы. Предположение о том, что он начинает с увлечения романтизмом и затем только, спустя некоторое время, отказывается от него, не выдерживает критики: об этом свидетельствуют его ранние пародии. Писателю словно нужно осмотреться, чтобы выбрать свою дорогу. Так возникают под его пером пародийные юморески: «Что чаще всего встречается в романах, повестях ит.п.?», «Каникулярные работы институтки Наденьки N» и др.
Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал, обедневший дворянин, музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные и привлекательные. Герой — спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком удобном случае показать силу своих кулаков.
Высь поднебесная, даль непроглядная, необъятная… непонятная, одним словом: природа!!!
Белокурые друзья и рыжие враги.
Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для героя его наставления, как смерть. Тетка в Тамбове.
Электричество, в большинстве случаев ни к селу ни к городу приплетаемое.
Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства.
Очень часто отсутствие конца.
Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце.
Конец".
(Что чаще всего случается в романах, повестях и т. п.?, 1880 г.)
А. П. Чехов обладал особенным, читательским талантом. Его юмореска — остроумный набор литературных клише, знакомых мотивов, почерпнутых из Пушкина («Богатый дядя… Не так полезны для героя его наставления, как смерть»), из Тургенева («музыкант-иностранец»: Лемм в «Дворянском гнезде»; «природа!!!»: Тургенев к этому времени — признанный мастер пейзажной живописи, однако уже тогда попадающий под иронический скептицизм молодого автора), из Чернышевского («Герой, спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком случае показать силу своих кулаков»: Рахметов, он же — могучий Никитушка Ломов из романа «Что делать?») и даже из водевиля В. А. Соллогуба «Богатый жених» («Тетка в Тамбове»). Чехонте обладал способностью вычленить, отчетливо схватить тот или иной литературный прием или мотив и, обобщив, сконцентрировав последний, дать его точную, но уже гротесковую формулу.
Спустя несколько месяцев, в июле 1880 г., в «Стрекозе» появился за подписью «Антоша Ч.» подлинный шедевр жанра литературной пародии — «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь» с веселым подзаголовком «Роман в одной части с эпилогом». Чехонте хорошо представлял себе жанровые каноны. В самом деле, если роман — это роман, хотя бы в одной части, чего, разумеется, никогда не бывает, то не может же он обойтись без эпилога! Но у этого псевдоромана было еще и многозначительное указание: «Посвящаю Виктору Гюго».
Однако это была пародия не на романы Гюго, как долгое время считали, а на роман «Собор Парижской Богоматери». Чехонте отлично чувствовал, но его словам, «чужую манеру» и хорошо видел «второй план» (Ю. Н. Тынянов), т. е. характерные черты пародируемого образца. Следует отметить, что кровожадным злодеем, который сам же рассказывает невероятную историю своих безумств, оказывается некий Антонио — еще один двойник Антоши Чехонте («Антонио» — один из многочисленных псевдонимом Чехова).
В пародии много веселых несообразностей, начиная с подзаголовка, но столько же тонко завуалированных и вместе с тем точных связей с литературным первоисточником, остроумно перелицованным автором на комический лад и поданным, как правило, в гротесковой манере. Сопряженность с текстом Гюго дает себя знать в преувеличенной остроте сюжетных ситуаций, в отдельных подробностях, наконец, в стилистике, имеющей в виду литературный первообраз.
«Собор Парижской Богоматери» …гнев, ненависть, отчаяние стали медленно заволакивать его безобразное лицо тучей, все более и более мрачной, все более насыщенной электричеством, которое тысячами молний вспыхивало в глазу этого циклона.
…когда он вновь поднял голову, то веки его были сомкнуты, а волосы стояли дыбом.
Звонарь отступил на несколько шагов за спиной архидьякона и внезапно, с яростью кинувшись на него, своими могучими руками столкнул его сзади в бездну, над которой наклонился Клод.
— Проклятье! — крикнул священник и упал вниз.
«Тысяча одна страсть, или Страшная ночь»
Уши Теодора засветились электричеством… В глазах моих светилось электричество… Гальванический ток пробежал по нашим жилам.
Волосы мои стояли дыбом.
Мы стояли у края жерла потухшего вулкана… Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз…
— Проклятье!!! — закричал он.
С поразительной точностью, помимо сюжетных ситуаций, поданных в подчеркнуто утрированной форме, в пародии схвачена характерная стилистическая особенность Гюго — его тяга к сравнениям, как правило, приподнятым, пышным, романтически приукрашенным: «Уста женщины всегда непорочны; это струящаяся вода, это солнечный луч»; «Виселица — коромысло весов, к одному концу которого подвешен человек, к другому — вселенная»; «Я ношу тюрьму в себе. Зима, лед, отчаяние — внутри меня!»; «Я — львица, мне нужен мой львенок!»; «Он вспомнил, — ибо он обладал прекрасной памятью, а память — это палач ревнивцев»; «Знаешь ли ты, что эти слезы — кипящая лава?»; и т.н.
Рассказ-пародия весь соткан из такого рода оборотов. Автор нагромождает их один на другой и делает этот хаос высокопарностей выразительной чертой гротескового повествования: «Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь — это день в ореховой скорлупе… Дождь и снег — эти мокрые братья — страшно били в наши физиономии»; «Стон ветра — стон совести, утонувшей в страшных преступлениях»; «Мы сели в карету и помчались. Кошэ (извозчик. — Н. Ф.) — брат ветра. Мы мчались, как мысль мчится в таинственных извилинах мозга»; «Слезы восторга — результат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали… Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы, и освобождение от оков».
Смех рождается не только из-за утрированных автором несообразностей, когда строй торжественно романтического стиля переводится им в подчеркнуто «сниженную» в своих забавных деталях картину, но еще и благодаря объему повествования, что имеет большое значение для творчества Чехова. Расчет на крупную форму иной, чем на малую. Каждый сюжетный ход, каждая подробность и стилистический прием в зависимости от величины конструкции приобретают различную силу и даже выполняют разные функции. Роман — крупная форма, свободное построение, и те элементы, которые не входят в непосредственное соприкосновение и рассредоточены в нем, в коротком рассказе оказываются сближены, повторяют друг друга, теснятся на небольшом поле повествования и получают заостренно комические черты.
В 1883 г. в журнале «Будильник» под псевдонимом «А. Чсхонте» была опубликована еще одна пародия, объектом которой на этот раз оказался не менее популярный среди русских читателей автор — Жюль Верн. Рассказ был назван так: «Летающие острова. Соч. Жюля Верна». Подзаголовок же прямо указывал на жанр — «Пародия». Основой для произведения послужили романы путешествий (или «Необыкновенных путешествий») прославленного французского фантаста. С сюжетом Чехонте прямо связаны «Пять недель на воздушном шаре» и «Путешествие на Луну».
В отличие от «Тысячи одной страсти, или Страшной ночи» новый «роман» состоит не из одной части, а из нескольких, но смехотворно коротких. Каждая из них имеет заглавие: «Глава I: Речь»; «Глава II: Таинственный незнакомец»; «Глава III: Таинственные пятна»; «Глава IV: Скандал на небе»; «Глава V: Остров Иоганна Гоффа»; «ГлаваУГ Возвращение». Венчает всю постройку «Заключение», выполняющее функции романного эпилога.
В главе «Таинственный незнакомец» происходит встреча изобретателя великолепной «научной» идеи («просверление Луны колоссальным буравом») с мистером Болваниусом (напоминающим по своим повадкам Паганеля), «членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук»: «Одетый во все черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру…» Стоит обратить внимание на то, что Чехонте еще в те далекие годы придумал мистеру Болваниусу авторство брошюры, которая именно сейчас, в наши дни, была бы очень своевременна: «Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время»!
События, обычно развертывающиеся неспешно у Ж. Верна, здесь все более и более ускоряют свой бег, как бы подстегивая друг друга. Увидев в телескоп движущиеся возле луны пятна, отважные путешественники уже через полчаса (!) летят к ним на восемнадцати аэростатах и после катастрофы попадают на одно из пятен, которое оказывается необитаемым летающим островом. Однако Чехонте, откровенно веселясь и комикуя, вводит в пародийное повествование резкий полемический эпизод, касающийся общественных проблем. На острове оказывается сверток: «сочинения какого-то князя Мещерского, писанные на одном из варварских языков, кажется, русском». Так было в первоначальной, журнальной публикации, где пятая глава имела название «Остров князя Мещерского». Упоминание этого имени придавало пародии публицистическую злободневность. Князь Мещерский — реальное лицо с богатым послужным списком: камергер, сделавший карьеру в полиции, затем литератор, автор романов из великосветской жизни, а главное — редактор-издатель газеты «Гражданин», выступавшей с позиций крайнего консерватизма. Чехонте в своей пародии наносит полемический удар по этой одиозной фигуре. Готовя «Летающие острова» в 1883 г. для первого сборника юмористических рассказов, автор заменил князя Мещерского на Иоганна Гоффа, известного пивного заводчика, который умудрился доставить сверток со своими объявлениями на спутник Луны!
Однако наука есть наука. Планета-остров, приняв на себя трех отважных путешественников, стала тяжелее и была притянута землей. Разумеется, герои остались живы и здоровы, кроме мистера Болваниуса, который сошел с ума, узнав, что на остров уже ступала нога чужестранца, но — увы — не англичанина. Сцена сумасшествия выдержана Чехонте в той же мнимо «романтической», гротесковой манере, что и «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь»: «„Пррроклятие, — закричал мистер Болваниус. — Здесь были раньше нас?!! Кто мог быть здесь?! Пррроклятие! Оооо! Размозжите, громы небесные, мои великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его объявлениями“. И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума».
Писательская манера Ж. Верна: черты «научного» повествования, проявляющегося в пристрастии к точности, к цифрам, датам, к расшифровке географических координат, приемы портретной живописи, своеобразие стилистических красок, присущих романтической иронии, — с той же тонкостью отражена Чехонте, как и в пародии на «Собор Парижской Богоматери» был передан в комическом утрировании стиль Гюго.
Чехонте-народист потому гак выразителен, что он всякий раз, как Протей, оставаясь собой, перевоплощался в другого, становился им. Он переводил чужую систему, воспринимая ее как некую целостность, в иной план, в иную художественную структуру, тоже по-своему законченную. Пародирование становилось, таким образом, под его рукой искусством, а не просто грубой перелицовкой лишь отдельных деталей первотекста.
В подобных экспериментах Чехонте есть два произведения, стоящие несколько особняком, громоздкие, развернутые, на фоне кратких по объему его рассказов, — «Ненужная победа» (1882) и «Драма на охоте» (1884), — едва ли не самые крупные его вещи. Их можно отнести к скрытому, завуалированному пародированию. Это не демонстративное высмеивание черт оригинала, а скорее подделка под чужой стиль. «Ненужная победа» воспринималась читателями как перевод, и все были заняты догадками, кто автор этого увлекательного произведения: Мавр Иокай, венгерский писатель, достаточно популярный в России, или Фридрих Шпильгаген с одним из своих романов?
Между тем это была шутка и одновременно проба пера молодого юмориста. Чехов на спор предложил написать вещь не хуже переводных произведений, и в очередном номере журнала «Будильник» появилась «Ненужная победа» с подзаголовком «Рассказ». Подзаголовок этот так и остался не прокомментированным более поздними исследователями Чехова: о нем просто забыли. Между тем в следующем номере появилось продолжение, затем — по просьбе читателей — новое. Н заработал типографский станок, подстегивая автора своим ритмом. «Ненужная победа» давно уже перерастала из рассказа в повесть, но по-прежнему шла под рубрикой, которая, впервые появившись, тут же исчезла в подшивках журнала, — рассказ. Чехонте выиграл спор. Он мог продолжать повествование, кажется, бесконечно, хитроумно ведя игру с читателем, как и начал. Протестовал уже проигравший спор редактор, оставив для публикации лишь ближайшие номера журнала. Впрочем, эго мало смущало автора. Он мог прервать повествование в любом месте, что и доказал вскоре. Каноны псевдоромантического стиля при этом были строго соблюдены, несмотря на спешку и редакторский «произвол». Сюжет с его взвинченными страстями, с мелодраматическими выходками героев закончился в романтическом же духе: Илька, дочь нищего бродячего музыканта, оказавшаяся в финале баронессой (!), отравилась… Эта остроумная шутка Чехонте, проделанная им со своими читателями, напоминает один из редакторских «подвигов».
Некрасова, которому пришлось держать корректуру дамского отменно длинного романа со скучнейшей героиней; видя, что произведение не собираются завершать, Некрасов решительно перечеркнул продолжение и энергично закончил: «Она отравилась…».
«Драма на охоте» — еще одна крупная вещь, выдержанная в духе пародии-стилизации, — начала печататься спустя два года в газете «Новости дня»; публикация продолжалась с августа 1884 по апрель 1885 г., т. е. девять месяцев! За это время «Чехонте» и «Человек без селезенки» поместили более трех десятков рассказов в юмористических журналах; среди них были такие шедевры, как «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Свадьба с генералом», «Капитанский мундир», «Живая хронология», «В бане», «Разговор человека с собакой», «Мелюзга» и др.
«Драма на охоте» — тоже литературная мистификация, но это подделка уже под стиль уголовных романов. Подобный опыт у Чехонте был — знаменитая «Шведская спичка». Тогда писатель впервые отважился нарушить обычные для себя пределы 100—150 строк и размахнулся, по его словам, на целый печатный лист. (Печатный лист — типографская мера: соответствует 22—23 машинописным страницам.) «Драма на охоте» — самое громоздкое из всех чеховских прозаических произведений. Ее не раз пытались экранизировать, но удачно осуществился замысел лишь в 1970;х гг., когда появился фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Фильм давно уже сошел с экранов, но вальс композитора Доги популярен до сих пор.
Повесть замечательна тем, что имеет своеобразную авторецензию. Дело в том, что в самый разгар ее печатания Чехов опубликовал фельетон «Осколки московской жизни», где дал выразительное определение подобного рода литературе: «Страшно делается, что есть такие страшные мозги, из которых могут выползать такие страшные „Отцеубийцы“, „Драмы“ и проч. Убийства, людоедства, миллионные проигрыши, приведения, лжеграфы, развалины замков, совы, скелеты, сомнамбулы и… черт знает, чего только нет в этих раздражениях пленной и хмельной мысли!» Если произведения такого рода, о которых Чехов говорит в фельетоне, писались, так сказать, с серьезными намерениями, то «Драма на охоте» создавалась как острая пародия. Однако стоит внимательнее вчитаться в текст, как становится ясно, что пародируемой основой была не только бульварная беллетристика, но и классика. Несчастный герой, убивший — по официальной версии — свою жену, носит фамилию Урбепин, созвучную лермонтовскому ревнивцу Арбенину («Маскарад»). Финал же обращен к «Преступлению и наказанию» Достоевского, хотя убийца, он же следователь, он же автор публикуемой издателем рукописи, отказывается пойти по пути героя Достоевского — публичного покаяния. На совет признаться в преступлении он отвечает отказом: «Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся… Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках?..» Раскольников идет на Божий и людской суд, мучительно переживая совершенный грех. Герой Чехонте злодейски жесток и циничен, вполне в духе жанра кровавой мелодрамы.
В подчеркнуто пародийном тоне выдержаны два рассказа Чехова, опубликованные в 1883 г., — «В море» и «В рождественскую ночь». В более поздних публикациях они были подвергнуты авторской правке, где насмешка над «взвинченным», ультраромантическим повествованием была скрыта, затушевана автором, но так, что следы ее остались, напоминая временами стиль «Тысячи одной страсти, или Страшной ночи». Чехонте весело смеется над преувеличениями романтизма не только в описании бурных страстей, но и рисуя отдельные подробности, напоминающие уже знакомые нам приемы ранней пародии. Чего стоит только крик молодой, прекрасной женщины, перекрывающий грохот ломающихся морских льдин!
«Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий, счастливый смех… С лицом, искаженным отчаянием, молодая женщина была не в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нем слышалось все: и замужество поневоле, непреодолимая антипатия к мужу и тоска одиночества, и, наконец, рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь с ее горем, и слезами, и болью вылилась в этом вопле, не заглушенном даже трещавшими льдами. Муж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его…» Дальше начинаются безумства мужа, толкающие его навстречу гибели.
Сюжет рассказа «В море» скроен на тот же лад. Два матроса по жребию могут насладиться зрелищем того, что происходит ночью в каюте новобрачных. Финал выдержан в контрастно «злодейских» и приподнято романтических тонах: молодожен-пастор продает жену на ночь старому толстому банкиру с отталкивающей внешностью; роль добродетельных героев выпадает на долю пьяных негодяев: «Я отскочил от стены, как ужаленный. Я испугался. Мне показалось, что ветер разорвал наш пароход на части, что мы идем ко дну…».
Дальше следует столь же пародийно утрированная психологическая ситуация: «Старик-отец, этот пьяный, развратный человек, взял меня за руку и сказал: „Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты еще мальчик…“».
Романтически возвышенный эпизод находится в явном несоответствии с экспозицией рассказа, где «мальчик» рассуждает так: «Мы пьем много водки, мы развратничаем, потому что не знаем, кому и для чего нужна в море добродетель». Но здесь не до логики, здесь «в клочья» рвутся романтические страсти.
Пародия обычно пишется, чтобы высмеять пародируемый текст, вступить с ним в борьбу и, пользуясь его же средствами, одержать верх в открытом поединке на глазах у читателей, вызвав их веселое одобрение и смех. Чехонте пишет пародии, как заведено, ради смеха, но находит возможным получить для себя, как художника, известную пользу в пародийной игре. Это была попытка найти собственную твердую эстетическую опору. С первых же творческих шагов писатель избирает путь художественной правды. Его пародии — реакция на условность, театральность, искусственность романтизма и псевдоромантизма с ходульностью, высокопарностью ситуаций, с поднятыми па котурны характерами, выдуманными страстями. Неслучайно Толстой называл Чехова художником жизни, но таким стремился стать уже Чехонте с решительным его отрицанием избитых штампов, «литературщины» в самых различных ее проявлениях. «Знать свое или скорее, что не мое (подчеркнуто автором. — Н. Ф.), — вот главное искусство», — записывает Толстой в дневнике 1865 г., когда у него за плечами было 13 лет писательского труда. Чехонте обращается к этой мысли уже в своих первых литературных опытах.
Рождение новой формы. Уже в своих литературных дебютах Чехов выступил как великий реформатор прозы, хотя это осталось не замеченным ни читателями, ни критикой. Прежде всего, обращает на себя внимание четкость структурного плана его произведений. Настоящим открытием молодого автора стал принцип повторения, на котором он основывает эпическое повествование.
А. П. Чехов достигает этого эффекта за счет двух найденных им композиционных приемов: постоянного обращения к изложенному в экспозиции материалу, энергичной его разработке, выявлению, развертыванию заложенного в нем содержания и отчетливого замыкания всей структуры в некую целостность, завершенность.
Иногда этот внутренний план оказывается подчеркнутым, оставаясь, однако, не замеченным воспринимающим сознанием, потому что оно сосредоточено исключительно на внешней форме, на происходящем в рассказе, а вопрос о том, как это «что» скомпоновано, сведено воедино, представлено в отточенной художественной структуре, остроумной уже по самой своей организации, оказывался вне пределов внимания читателей и критики.
Между тем природа чеховской художественной мысли такова, что в этом-то и заключена вся «соль» авторской идеи, своеобразие ее воплощения.
Рассказ «Житейские невзгоды», опубликованный под псевдонимом «Чехонте» в 1887 г., демонстрирует, причем в подчеркнутой, заостренной форме, эти принципы. Весь рассказ представляет собой, по сути дела, трижды повторяющийся блок одних и тех же тем, создающих ощущение стремительно нарастающего напряжения и в то же время — законченности, замкнутости художественной системы.
В первый момент темы даются в экспозиции в последовательной их смене. Все происходит в меблированной комнатке, похожей на музыкальную шкатулку, наполненной голосами, которые слышны отовсюду.
- 1. Лев Иванович Попов, мелкий чиновник, «человек нервный, несчастный на службе и в семейной жизни», путается в расчетах сумм, которые ему надлежит выплатить банкирской конторе, и считает вслух, чтобы не сбиться: «Билет стоит по курсу 246 руб., значит, осталось 236. Хорошо-с… К этой сумме нужно прибавить проценты за 1 месяц в размере 7% годовых и 1,4% комиссионных, гербовый сбор, почтовые расходы…»
- 2. За перегородкой раздаются стоны его жены Софьи Савишны, женщины крутого нрава и невоздержанной на язык, приехавшей к мужу просить отдельного вида на жительство (развода): в дороге она простудилась, схватила флюс и теперь мучается невыносимой зубной болыо.
- 3. «Наверху за потолком какой-то энергический мужчина, вероятно, ученик консерватории, разучивал на рояли рапсодию Листа с таким усердием, что, казалось, по крыше дома ехал товарный поезд».
- 4. «Направо, в соседнем номере, студент-медик готовился к экзамену. Он шагал из угла в угол и зубрил густым семинарским басом: „Хронический катар желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжор, вообще у людей, ведущих неумеренный образ жизни…“»
Экспозиция завершена. Наступает полоса разработки изложенных в ней тем. Банальные житейские невзгоды рождены условиями убогого, бедного существования в комнате-резонаторе, где стены не скрадывают, а словно усиливают то, что происходит за стеной у соседа или даже за потолком. Автор не введет больше ни одной подробности, какой не было бы в экспозиции, но пестрый звуковой калейдоскоп все более и более будет усиливаться, рождая трагикомический эффект.
Лев Иванович сбит с толку, голова идет кругом от чудовищной звуковой путаницы. Помогая себе, он размеренно считает вслух, пытаясь перекричать весь этот шум: «Хорошо-с, — продолжал считать Попов. — К 236 прибавить 14 руб. 81 коп., итого к этому месяцу остается 250 руб. 81 коп.». Расчеты продолжаются, они еще несколько раз будут врываться в текст, варьируя фразу экспозиции. Все реплики Попова — педантичное повторение то и дело прерываемого счета: голос его прорывается сквозь другие голоса, наполняющие невыносимым шумом маленькую комнатку. Причем голоса продолжают усиливаться crescendo, как сказали бы музыканты, все более и более увеличивая свое звучание. Раз за разом вторгаются в текст стоны Софьи Савишны, прибегающей к все более крепким выражениям в отношении мужа: «Да помоги же мне… Умирааю!»; «Бесчувственный! — заплакала Софья Савишна. — Мучитель!.. Невежа!»; «…Тиран! Убийца!» Ее крики перебиваются голосом тупо зубрящего студента; он повторяет ту же фразу, которая только что прозвучала за стеной, делая теперь энергичный нажим на отдельных словах и даже звуках, так что мы словно слышим раскаты рокочущего семинарского баса, усиливающего свое звучание в той же степени, в какой повышается тон «упреков» Софьи Савишны, обращенных к мужу: «Хронический катар желудка, — зубрил студент, шагая из угла в угол, — наблюдается также у привычных пьяниц, обжор…», — и затем после нового перебоя голосов (размеренно, вслух, чтобы не сбиться, считающего Попова и истерически теперь уже «взвизгивающей» Софьи Савишны) накатывается новая, еще более усиливающаяся волна рокочущего баса: «Хронический катар желудка наблюдается также при страданиях печени…».
Автор находит остроумный прием: передавая непосредственное ощущение все нарастающего потока звуков, он демонстративно-весело подчеркивает грамматическую нелепость — вместо одной буквы «р», как в первый момент появления в экспозиции рассказа фразы из учебника медицины, возникают две («Хрронический»), а затем при повторе две или даже три выделенные курсивом буквы («Хр/юнический… обжор/?»). Читатель вовлекается автором в веселую игру, невольно скандируя про себя или перенося на себя раскаты баса одуревшего от зубрежки студентамедика, который, стараясь не заснуть над учебником, взбадривает себя громогласным чтением к ужасу Льва Ивановича. Вообще внимание писателя к звучанию слова громадно. Недаром Толстой признавался, что, когда он читает Чехова, он не только видит его героев, но даже слышит их голоса.
Наконец, появляется третий компонент экспозиционного материала, тоже демонстрируя нарастающую экспрессию: прежняя деталь экспозиции — мерное, назойливо однообразное движение («…казалось, по крыше дома ехал товарный поезд») заменяется преувеличенно комической, гротескно подчеркнутой мыслью: «Наверху музыка было утихла, но через минуту пианист заиграл снова и с таким ожесточением, что в матрасе под Софьей Савишиой задвигалась пружина».
Еще одна стадия движения общей композиционной системы завершена. Наступает черед третьей, заключительной части, которая врывается в повествование как стремительный перебор знакомых по экспозиции и разработке опорных элементов рассказа. Это — финал, последний взрыв, самая мощная волна, которая захлестывает своим бурным потоком героя, и — конечность, замкнутость движения всей художественной постройки.
Только сейчас экспозиционные темы, прошедшие свое динамическое развитие, даются в обратной последовательности: заключительная часть общей художественной структуры как бы накладывается на экспозиционную, повторяющиеся элементы вновь выстраиваются в последовательный ряд с небольшим изменением в компоновке двух звеньев:
1−2-3−4//3−4-2−1.
Это не просто перекличка экспозиции и заключения, а ярко выраженные черты обратной, или зеркальной, симметрии, т. е. безупречная гармоничность и завершенность целого: конечный элемент художественной структуры перебрасывает арку к первому, давшему толчок всему движению. Некоторые отступления от полной симметрии (третья и четвертая темы в экспозиции: музыкант и рокочущий семинарский бас меняются местами в финале) не заметны, не ощущаются как нарушение пропорций, так как начальная и конечная стадии рассказа отделены значительным пространством повествования.
Темы экспозиции возникают теперь уже на высшей волне своего развития, в полной мере, наконец, реализуя возможности своего роста, увиденные в них автором в первый момент их появления. Это, однако, не простое повторение, а резкий сдвиг по сравнению с тем, что было предложено читателям в начале рассказа:
В это время наверху за потолком к пианисту подсел товарищ, и четыре руки, дружно ударив по клавишам, стали нажаривать рапсодию Листа…
Наверху за потолком какой-то энергический мужчина, вероятно, ученик консерватории, разучивал на роли рапсодию Листа…
Студент-медик готовился к экзамену. Он ходил из угла в угол и зубрил густым семинарским басом: «Хронический катар желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжор, вообще у людей, ведущих неумеренный образ жизни».
За перегородкой на кровати лежала Софья Савишна… В дороге она простудилась, схватила флюс и теперь невыносимо страдала.
Лев Иванович Попов… потянул к себе счеты и стал считать снова… — Билет стоит, но курсу 246 рублей, — считал он. — Дат я задатку 10 руб., значит, осталось 236. Хорошо-с… К этой сумме нужно прибавить проценты…
Студеит-медик быстрее зашагал, прокашлялся и загудел: «Хронический катар желудка наблюдается также у привычных пьяниц, обжорр».
Софья Савишна взвизгнула, швырнула подушку, застучала ногами… Боль ее, по-видимому, только что начинала разыгрываться.
Попов вытер холодный пот, опять сел за стол и, встряхнув счеты, сказал: — Надо проверить… Очень возможно, что я немножко ошибся…[1] И опять принялся за квитанцию и начал снова считать: — Билет стоит по курсу 246 руб. Дал я задатку 10 руб., значит, осталось 236… Л в ушах у него стучало: «дыр… дыр… дыр». И уже слышались выстрелы, свист, хлопанье бичей, рев львов и леопардов. — Осталось 236! — кричал он, стараясь перекричать этот шум. Б июне я взношу 5 рублей! Черт вас дери, в рот вам дышло, 5 рублей!.. Наутро его свезли в больницу.
Рассказ свидетельствует о том, что его комизм заключен вовсе не в ситуации, в которой оказывается герой: она скорее трагическая (Лев Иванович сходит с ума), чем смешная. Эффект комического скрыт в самой организации художественной ткани произведения, в его композиции, которая уже сама по себе — остроумная шутка, конденсатор веселой энергии. Это секрет многих рассказов Чехова. Легкость, непринужденность заключают в себе строгий расчет, жесткую, продуманную структуру текста. Обращенность же финала к экспозиции, так отчетливо проявляющаяся в «Житейских невзгодах», есть безусловный закон всего творчества Чехова.
Наконец, исключительные по своему значению новаторские приемы, найденные Чехонте и подчеркнуто выделенные в этом рассказе, но повторяющиеся во всех его шедеврах, в том числе и комического толка (скажем, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Кривое зеркало», «Произведение искусства», более позднее «Без заглавия»), — сквозное развитие изложенных в экспозиции тем с тонкими эмоционально-образными связями на разных стадиях их разработки, замкнутость художественной системы, перекличка начальной и конечной звеньев композиции. Найденные писателем в его смелых экспериментах приемы, сближающие прозу с поэзией и даже с музыкой, дали основание Л. Н. Толстому сказать, что Чехову удалось выработать «свою, особую форму», какой ни у кого и никогда до него не было прежде.
Труд как «первооснова» писательского успеха. Важнейшим обстоятельством, определившим стремительный рост популярности Чехова, чего не заметила современная ему критика, был его писательский труд. Писателю пришлось пройти литературную «школу», хуже которой невозможно себе что-нибудь представить. В молодые годы он печатался в бульварных изданиях с их жалким уровнем художественных требований, с циничным отношением к литературному делу, с грубой работой на потребу обывателю. А. П. Чехов, но его словам, был единственным из писателей 1880-х гг., кто выбился в большую литературу с ее «задворков», остальные погибли в этой трясине.
Между тем легенда о необычайной легкости, с которой давались писателю его произведения, держалась упорно. А. П. Чехов не делал никаких усилий, чтобы развеять ее, скорее даже поддерживал (он в этом смысле был великий мистификатор), охотно рассуждая о том, что часто пишет «наотмашь» и «спустя рукава», но на самом деле работал упорно. Даже люди, хорошо знавшие Чехова, нередко попадали впросак. Однако вопреки утверждениям о том, что он «набело пишет свои рассказы» (А. С. ЛазаревГрузинский), Чехов шел своим путем, веруя, что только постоянное усилие и напряжение могут стать верными спутниками успеха. Для него, молодого человека, старомодно звучат слова о работе в минуты «внутреннего настроения». «Тут нужны, — пишет 26-летний Чехов, — беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут дорог каждый час». Уже тогда им как нелепость воспринимались слова о работе в момент вдохновения. Писать постоянно, в любое время, писать «со скрежетом зубовным», но писать непременно — вот его совет начинающим литераторам.
А. П. Чехов прекрасно знал по наблюдениям над своим окружением, к чему приводят ситуации, когда «рафаэльствующая юность» заменяет труд рассуждениями о труде: эта мысль отчетливо передана в рассказе «Талант» (1886). Над небольшой вещью в 150—200 строк писатель советует сидеть дней пять-шесть, не меньше, несколько раз переписывать, тщательно обрабатывать текст. В письме к брату от 4 января 1886 г. Чехов утверждает необходимость стремлениия к тому, чтобы «редакторская длань» не прикасалась ни к одной твоей строчке: «Не позволить трудно; легче употребить средство, имеющееся под рукой: самому сокращать до пес plus ultra (до предела. — Н. Ф.) и самому переделывать». В том же письме писатель сжато формулирует своеобразный «закон» творчества: «Чем больше сокращаешь, тем чаще тебя печатают».
Самое замечательное, однако, заключается в том, что задолго до этого письма к брату Александру Чехов уже высказал ту же идею в опубликованной в марте 1885 г. остроумной юмореске «Правила для начинающих авторов». Под номером 14 «Правил» можно было уже тогда прочесть: «Давая волю фантазии, придержи руку. Не давай ей гнаться за количеством строк. Чем короче и реже ты пишешь, тем больше тебя печатают. Краткость вообще не портит дела». Да и первая фраза, предварявшая «Правила», при всей своей гротесковой парадоксальности толковала о том же — о тяжелейшей писательской работе и судьбе: «Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: „Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!“… Путь пишущего от начала до конца усеян тернием, гвоздями и крапивой, а потому здравомыслящий человек всячески должен отстранять себя от писательства».
Трудоспособность молодого Чехова была поразительной, ведь в годы своего писательского становления он закончил, по замечанию Бунина, самый тяжелый факультет Московского университета — медицинский, был его прилежным студентом и слушал лекции светил тогдашней российской медицинской науки. А. II. Чехов весело смеялся, говоря, что адрес его можно найти в любой аптеке: там были адреса московских врачей. Практикующим медиком писатель так и не стал (лечил, как правило, безвозмездно), но профессиональное увлечение медициной оказало громадное воздействие на его творчество, на сам образ его мысли и дало повод для его знаменитой шутки о том, что у него две жены: одна законная — медицина, а другая, незаконная, — литература.
Между тем именно литературе он служил с первых шагов творчества по-апостольски, с безграничной верой в таинственную, но несомненную для него власть художественного слова над душами людей. Вопрос об «эстетике слова» (понятие, выдвинутое выдающимся русским лингвистом Л. В. Щербой лишь в начале XX в.) уже стоял перед ним, как и вопрос об ответственности писателя, в руках которого оказывается эта «заразительная», по словам Л. Н. Толстого, сила искусства, подчиняющего себе сознание читателя. Таковы многие сюжеты ранних юмористических произведений Чехова, где слово способно совершать чудеса, на которые не рассчитывал нередко и сам проповедник: «Пропащее дело» (1882), «Случай из судебной практики» (1883), более поздние «Сильные ощущения» (1886), «Святою ночью» (1887), «Дома» (1887), «Без заглавия» (1888).
В отличие от Толстого и Достоевского, Чехов — некоторое исключение в истории русской классической литературы. Рукописей, этих наиболее точных и объективных свидетельств творческого процесса писателя, у него не сохранилось. Однако подтверждением чеховской мысли о труде как главной опоре литературного успеха служат сами его произведения, которые, при внимательном анализе, поражают всякий раз своим совершенством, ювелирной работой автора. От них, как сказали бы древние риторы, «пахнет лампой», т. е. ночным, а не только дневным трудом, творческим сосредоточенным, постоянным усилием и напряжением. Понятия писательской «скорописи» для него не существовало: он всегда строгим судом судил себя, и это было его спасением в условиях тяжелого материального существования и в обстановке, диктуемой бульварной прессой.
- [1] Сбитый с толку шумом и волнением, он действительно ошибся, решив, чтоостался должен банкирской конторе более миллиона рублей!