Мотив игры.
История русской литературы первой трети xix века
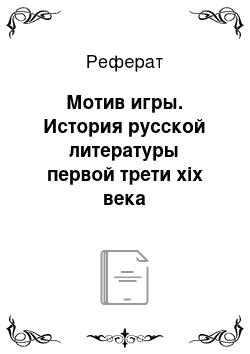
Можно было бы, пожалуй, говорить о позитивной окраске этой группы образов, если бы не ограничительный ее характер. Ограничительность создается фактором времени. Перед нами определенная стадия развития универсума, стадия первоначальная — будь то бессознательная жизнь природы или еще не пробудившееся к сознанию существование человека. Этот момент прекрасен, однако он не больше, чем момент в общем… Читать ещё >
Мотив игры. История русской литературы первой трети xix века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Перейдем к конкретностям: остановимся на судьбе одного мотива — мотива игры. Частично мы уже затрагивали эту проблему в связи с лермонтовским «Маскарадом» (см. гл. 13). Теперь посмотрим на нее в более широкой перспективе.
О популярности мотива игры в европейском романтизме говорить не приходится. Но, как показывают исследования, в частности Э. Р. Курциуса, мотив игры имеет многовековую историю и входит в основной образный фонд европейской литературы.
Прежде всего необходимо вспомнить, что в первоначальном употреблении понятий «игра», «кукла», «марионетка», «сцена» и т. д. приметен неожиданный для нас, людей нового времени, позитивный смысл. Мы воспринимаем эти понятия в негативном свете, особенно если они связаны со сферой куколыюсти, марионеточности («не человек, а марионетка, автомат!»). Между тем в «Законах» Платона (кн. 1) сказано: «Каждый из нас… как марионетка божественного происхождения»; «Человек лишь игрушка в руках Бога, и эго по правде самое лучшее в нем». Человек — орудие в большом спектакле, однако режиссер спектакля — Бог; следовательно, в сценарии есть разумность и высший смысл.
Важно для наших рассуждений вспомнить и мысль Дидро о том, что общество — это спектакль, где «каждый поступается частью своих прав в интересах всех и для блага целого». Театр — как эмблема разумным образом организованного общества. Театральная метафора несомненно скрывает в себе позитивный смысл.
Немецкий романтизм дает сложную символику образов игры, удерживая при этом их позитивное значение. В статье Генриха фон Клейста «О театре марионеток» (1810), являющейся интереснейшим документом философии романтизма, выдвинут парадоксальный тезис: куклы — это образец грации и одушевленности. Прежде всего куклы никогда не жеманятся, ибо жеманство возникает тогда, когда «душа… находится не в центре движения, а в какойлибо иной точке», т. е. когда необходимы некие добавочные, излишние усилия к основному движению. Но у куклы всякая добавочность заведомо исключена: «машинист, дергающий за проволоку или за нитку, ни над какой другой точкой, кроме этой, просто не властен». Кукла делает только то, что нужно, а ведь, добавим мы, еще Чехов сказал, что грация — это максимум результата при минимуме усилий. Далее, утверждает Ююйст, у кукол есть такое преимущество, как не подвластность гравитации, закону тяготения. Тем самым они, как никто другой, воплощают культивируемую романтизмом идею полета, подъема, отрыва от земли, с чем связан, в частности, мотив танца[1]:
«О косности материи, этом наиболее противодействующем танцу свойстве, они знать не знают, потому что сила, вздымающая их в воздух, больше той, что приковывает их к земле»[2].
Чья же эта сила? Кукольника. Вообще перед нами как бы смоделированы отношения Бога и человека из платоновской Вселенной, только вместо уподобленных марионеткам людей выступают настоящие марионетки, а вместо Бога — Кукольник.
Следует отметить, что немецкий романтизм знает и другие, в том числе отрицательные, сатирические смысловые значения образа игры. Но все же позитивная трактовка весьма заметна, причем даже в позднем немецком романтизме («Принцесса Брамбилла» Э. Т. А. Гофмана, 1821)[3].
Но вот пример из русской литературы. В повести В. Ф. Одоевского «Княжна Мими» (1834) развертывается типичная театральная метафора:
«Открываю великую тайну, слушайте: все что ни делается в свете, делается для некоторого безымянного общества! Оно — партер; другие люди — сцена. Оно держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев. Оно ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести».
К этому «безымянному обществу» принадлежит и княжна Мими, озлобленное, бессердечное существо, устроительница разного рода интриг и каверз. Перед нами вновь смоделированы взаимоотношения ведущего актера и марионеток, но, увы, роль первого выполняет не платоновский Бог, не клейстовский Кукольник, а носитель негативной антигуманной, почти инфернальной силы.
Вместе с тем бросается в глаза и явная моральная окраска приведенной театральной метафоры. Понятия «закон», «правда», «совесть» фигурируют здесь как точки отсчета, что свидетельствует о теснейшей связи с рационализмом и Просвещением. Об этой особенности и Одоевского, и русского романтизма в целом уже не раз говорилось. Но важно обратить внимание и на другую сторону явления, впрочем, в данном случае тесно связанную с первой стороной, — на усиление, так сказать, отрицательного заряда русского романтизма.
Рассмотрим более подробно эту тенденцию на примере образов игры у Лермонтова, в чьем творчестве можно выделить несколько групп подобных образов.
Одна группа характеризует состояние природных сил, состояние животных или ребенка, ту стадию естественной, животной или человеческой жизни, которая еще не осложнена сознательной мыслью. Здесь часто встречается образ играющего ребенка, который является взрослому в последние часы его жизни. Гладиатор перед смертью зовет «детей играющих — возлюбленных детей» («Умирающий гладиатор»); о том, как он «в ребячестве играл», вспоминает Мцыри. «Играют волны» («Парус»), «студеный ключ играет по оврагу» («Когда волнуется желтеющая нива…»). Игра сопровождает другое — основное — действие, образуя его фон, его эмоциональную окраску. Отсюда часто встречающееся переключение игрового содержания в форму деепричастия «играя». О тучке: «Утром в путь она умчалась рано, / По лазури весело играя» («Утес»); о барсе: «Из чащи выскочил и лег, / Играя, навзничь на песок» («Мцыри»); о змее: «Играя, нежася на нем, / Тройным свивалася кольцом…» («Мцыри»).
Можно было бы, пожалуй, говорить о позитивной окраске этой группы образов, если бы не ограничительный ее характер. Ограничительность создается фактором времени. Перед нами определенная стадия развития универсума, стадия первоначальная — будь то бессознательная жизнь природы или еще не пробудившееся к сознанию существование человека. Этот момент прекрасен, однако он не больше, чем момент в общем движении. Символика игрового образа отражает общий историзм мироощущения, свойственный и романтизму (русскому и западноевропейскому), и особенно философским системам, выросшим из романтизма и зачастую вступившим с романтизмом в довольно сложные, иногда конфликтные отношения. Ограничимся одной параллелью: Н. И. Надеждин, создатель цельной философско-эстетической системы, часто говорит об «игре силы, роскошествующей своею внутреннею полнотою», о «жизни, играющей своею полнотою», об «игре роскошествующих стихий»[4] и т. д. Это относится к первому периоду человеческой истории, невозвратимому, как прекрасная нора детства.
Попытаться удержать это время, навсегда остаться в нем — утопия. Переход к иной смысловой наполненности образа игры намечается уже в строках о кинжале из стихотворения «Поэт»: «Игрушкой золотой он блещет на стене — / Увы, бесславный и безвредный!» То, что призвано служить серьезному делу, борьбе, стало «декоративной бесполезностью» (В. Н. Турбин).
Вторая группа образов игры намечает подчинение человеческого поведения воле другого, причем часто воле корыстной, эгоистической: «Что ныне женщина? создание без воли, / Игрушка для страстей иль прихоти других» («Маскарад»). Звездич, по словам Маски, «людей без гордости и сердца» презирает, «а сам игрушка тех людей». «Из славы сделал ты игрушку лицемерья» («Последнее новоселье») и т. д. Здесь названы те, кто «играет», но названы в обобщенной, безличной форме.
Третья группа образов игры возникает, если злая воля деперсонифицируется, становясь некоей надличной силой. Это знаменитые лермонтовские образы: игра судьбы («Хотя судьбы коварною игрой / Навеки мы разлучены с тобой…» — «Сосед»); игра счастья («…игрою счастия обиженных родов…» — «Смерть поэта») и т. д. В выражении «игрушка лицемерья» и ему подобных субъект игры не столько надличен, сколько безличен или даже межличен; во всяком случае, обозначаемое им понятие (лицемерие) можно толковать как свойство многих. Образы «игра счастия» или «игра судьбы» свидетельствуют нс о человеческих свойствах, но о том, что ими управляет, над ними господствует. Эта группа образов наиболее близка к полной модели, к своеобразному двучлену, в котором предполагается субъект действия и его объект, лицо господствующее и подчиненное. Однако в качестве субъекта выступает не высшая справедливая сила (платоновский Бог, клейстовский Кукольник) и в то же время не какое-либо злонамеренное лицо (вроде княжны Мими), но сила сверхличная и анонимная. Нечто играет человеком — образ, который прекрасно выражен в блоковском переводе «Праматери» Грильпарцера: черные силы бросают кости «за грядущий род людской»[5].
Наконец, надо сказать еще о четвертой группе образов, составляющих род развернутой театральной метафоры. Пример — концовка стихотворения «Не верь себе», на котором мы уже останавливались:
Поверь: для них смешон твой плач и твой укор, С своим напевом заученным, Как разрумяненный трагический актер, Махающий мечом картонным…
Театральная метафора, уподобляющая все происходящее некоему зрелищному учреждению — театру, концертному залу или цирку, резко делит все художественное пространство на две части: сцену и зрительный зал. Тем самым олицетворяется та особенность игры, которую описал Йохан Хёйзинга[6], — отделенность мира игры от общего течения жизни, временное возобладание в этом мире своих, «игровых» правил (подробнее о стихотворении Лермонтова см. § 16.1). Эффект вытекает из контраста игровых «правил» и законов, с одной стороны, и установлений «большой жизни» — с другой. С точки зрения законов жизни осознается ненодлинность, условность упомянутых правил («мечом картонным»), их временность, непрочность, а именно то обстоятельство, что в будущем они подлежат отмене. Объективная, «сторонняя», точка зрения обычно вводится в текст, воплощаясь в ком-либо из персонажей произведения, но подчас подвергаясь при этом некоему романтическому вибрированию. Таков лермонтовский пример романтической иронии. В стихотворении «Не верь себе» автор говорит то от имени лица, близкого основному герою, «мечтателю», то от имени толпы, которой этот «мечтатель» чужд, непонятен и смешон («…для них смешон твой плач и твой укор, / С своим напевом заученным…»).
Можно вспомнить и лермонтовского «Умирающего гладиатора», где бесславно погибающему гладиатору уподоблен «европейский мир». (Кстати, еще одна контрастная параллель: в Первом послании апостола Павла к коринфянам «актерами» [гладиаторами], определенными Божьей волей на смерть, названы апостолы[7], т. е. налицо позитивное наполнение метафоры, которая у Лермонтова имеет противоположный смысл.) Можно вспомнить еще «Валерик» с уподоблением войны «трагическому балету» и т. д.
Наконец, образы игры могут определять и художественный строй произведения в целом в том негативно-трагическом смысле, о котором уже достаточно говорилось выше. Теперь мы можем увидеть, что лермонтовский «Маскарад», где развертывается метафора «игра-жизнь», подытоживает развитие игрового мотива и в его собственном творчестве, и в русском романтизме вообще.
Игра в «Маскараде» воплощает и особый тип социального поведения, предполагающий разрыв установленных связей, естественных и человеческих, игнорирование запретов («Все презирать: закон людей, закон природы»). Такое понимание игры отчетливо выражено самохарактеристикой центрального персонажа драмы — Арбенина, который в ответ на реплику оскорбленного Звездича: «Да в вас нет ничего святого, / Вы человек иль демон?» — говорит: «Я? — игрок!» Таким образом, лермонтовская драма интересна еще и гем, что игровой план не остается в ней на уровне однородной театральной метафоры, но как бы расслаивается на различные вступающие между собой в конфликт виды игры.
С одной стороны, это маскарад (и проистекающие отсюда мотивы маски) как образ светской конвенциональное™, условности; санкционированный этикетом выход из колеи правил и установлений (что выражается в необычной откровенности, неожиданном обнаружении скрытых чувств, т. е. в выявлении под покровом маски истинного и глубокого). С другой стороны, это карточная игра шулеров с ее отступлениями от дозволенных правил и от любых правил вообще, с ее таинственностью, неизвестностью, полной непредсказуемостью, азартом захватывающей борьбы всех против всех, борьбы не только с соперником и с обществом, но и с самим Роком. В этом смысле один игровой образ — карты — выступает антиподом другого — маскарада, причем на их взаимном притяжении и отталкивании основано все развитие коллизии драмы (подробнее см. гл. 13).
Существует мнение, что русский романтизм в силу своего хронологически более позднего развития (по крайней мере по отношению к немецкому и частично французскому и английскому романтизму), а также в силу определенной творческой зависимости от западных литератур недостаточно романтичен. Говорят даже о романтизме без романтизма. Однако ситуация здесь несколько иная, ибо вследствие указанных причин русский романтизм был, пожалуй, более романтичен, чем принято считать. Это выражалось не в большем разнообразии и многозначности форм, не в широте романтической палитры (во всем этом русский романтизм уступал западноевропейским литературам), но в большей резкости некоторых ведущих тенденций. Русский романтизм, форсируя стадии, смотрел на западные формы как бы с точки зрения итога. Мы уже наблюдали это сквозь призму одного образного плана — игрового. То же самое можно констатировать с помощью других моментов поэтики, например фантастики.
- [1] 2 Ср. в «Тарасе Бульбе» Гоголя (редакция «Миргорода»): человек — «раб, но он волентолько потерявшись в бешеном танце, где душа его не боится тела и возносится вольнымипрыжками…» (Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: в 14 т. М., 1937—1952. Т. 2. С. 300).
- [2] См.: Клейст Г. фон. Избранное. М., 1977. С. 515 и далее.
- [3] Позитивную акцентировку кукольного зрелища развивает Э. Т. А. Гофман в диалоге"Страдания одного директора театра". Тонкая интерпретация этого произведения данав упомянутой книге Н. Я. Берковского «Романтизм в Германии»: «Кукольный театр —чистейший театр души. Куклы живы одними своими голосами, лирическими душами иначеговоря» (С. 92). Разумеется, подобное понимание кукольного зрелища нередко воплощаюти современные художники сцены. Сошлемся лишь на один пример — замечательный кукольный театр Резо Габриадзе в Тбилиси.
- [4] См.: Надеждин II. И. Литературная критика. Эстетика. С. 500—501.
- [5] Сходные образы (особенно такие, как «игра судьбы», «игра фортуны») встречалисьв русской литературе, разумеется, задолго до Лермонтова. В ряду подобных случаев особенно выразителен пушкинский: «Игралища таинственной игры, / Мсталися смущенныенароды…» («Выла пора, наш праздник молодой…», 1836). Игралище даже не судьбы, или счастия, или фортуны, а самой игры, — понятие игры как бы удваивается. Здесь необходимо отметить широкий диапазон игровых образов у Пушкина. Нарядус негативными образами (ср. «В них жизни нет, все куклы восковые…» —"Каменный гость", 1830), Пушкин дает многочисленные примеры развития этих образов в позитивном смысле. Особенно характерно соседство этих образов со сферами поэзии, творческой и мыслительной деятельности: «При бальном лепете молвы / Ты любишь игры Аполлона» («Княгине3. А. Волконской», 1827), «На пышных играх Мельпомены, / У тихих алтарей любви…"(«Колосовой», 1818), «На легких играх Терпсихоры…» («Юрьеву», 1820) и г. д.
- [6] Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / пер. с нидерл. и примеч. В. В. Ошиса.М., 1992.
- [7] 1Кор. 4:9. См. толкование этого места: Curtins Е. R. Europaische Literatur und LateinischesMittelalter. S. 148.