Методология и методы исследования в культурологии
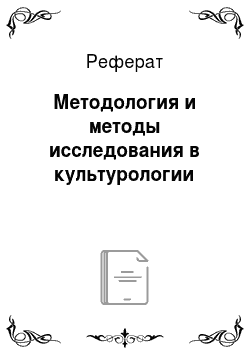
Исходным для такой методологии является то, что смысл и ценность, к примеру, произведения искусства, существуют и раскрываются только как взаимодействие, как диалог смыслов и ценностей. В становлении такого рода подхода в СССР значительную роль сыграли работы М. Н. Бахтина. Позже проблемы диалогичности мысли, в том числе и творческой, специально рассматривал В. С. Библср. Библср напомнил, что… Читать ещё >
Методология и методы исследования в культурологии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Особенности методологии изучения культуры
В практике науки, точнее, в практике разных наук, используются различные подходы и методы исследования. Под наукой привычно понимается вид человеческой деятельности, направленной на получение, обоснование и систематизацию объективных, истинных знаний о мире. Научное познание предполагает обращение внимания исследователя (как субъекта познания) к тому, что является объектом (объектами) изучения. Для получения истинного знания исследователь и осуществляет различные методические процедуры, оперируя с объектами (анализируя, сопоставляя, обобщая исследовательский материал, хотя бы мысленно). При этом любая научная методология стремится к исключению субъективного отношения исследователя к тому в объекте, что стало предметом его исследования. Ибо он стремится получить знание не мнения о фактах, а знание фактов, того, что есть на самом деле, независимо от его отношения. И это вполне эффективно в рамках естественнонаучного знания и даже некоторой части знания гуманитарного. Тех областей науки, в которых мы имеем дело с познанием объектов как не зависимых от человека. Но что касается ряда гуманитарных наук, философии и культурологии, познавательная ситуация представляется более сложной.
Как-то современный философ М. А. Киссель в своих лекциях пересказал студентам философского факультета ЛГУ запальчивое утверждение датского философа Серена Кьеркегора. Тог заявлял: пусть наука изучает солнце, луну и звезды, но изучать подобным образом человеческий дух есть богохульство! Киссель обратил внимание на то, что Кьеркегора в советское время упрекали за антинаучность его установок. Но ведь в его утверждении нет и грана антинаучности. Он не только говорит о необходимости и возможности научного изучения объективного мира, но и не против изучения человеческого духа. Он против познания человеческого духа способами (сейчас мы сказали бы методами), используемыми наукой его времени, которая стремится получить объективное знание о том, что не может рассматриваться как безличный объект.
Когда мы обращаемся к познанию не просто объективного мира, а человека, и человека не как организма, а как духовного существа, проблема познания чрезвычайно усложняется. Недаром естественники-ученые иногда сомневаются в научности той же культурологии. И у этого сомнения есть основания. Что за наука, объект познания которой — культура — имеет порядка 500, а то и более определений. И. Кант заявлял, что во всяком знании столько истины, сколько в нем математики. В культурологии математики — ноль. Следует ли из этого, что культурология — не наука? Не обязательно. Возможно, следует расширить понятие научности и исследовать особенности культурологии как неординарной науки — те особенности, которые связаны с особенностями предмета изучения. Это ведь нс природа, не объективный окружающий человека мир.
Уже неокантианец Г. Риккерт рассматривал культуру как нечто противоположное природе, ибо: «…во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение какой-нибудь признанной человеком ценности… в объектах культуры, следовательно, заложены (haften) ценности»[1]. Риккерт различал поэтому «науки о природе и науки о духе». Первые, по его мнению, пользуются генерализующими (обобщающими) методами, а вторые — «индивидуализирующими», так как «значение культурных процессов покоится в большинстве случаев в их своеобразии и особенности»[2].
Культуру пытаются изучать по-разному. В том числе и методами, близкими к естественнонаучным, как нечто объективно наличествующее. Подходы к изучению культуры разнятся в зависимости от того, каково ее исходное понимание. «Неестественные» науки, обращаясь к носителям ценностей культуры (вещам, знакам, сооружениям, орудиям, текстам и т. п.) интересуются не предметностью, а самими ценностями, духовным содержанием, ценностными смыслами предметов или действий. Любого антрополога интересует человек и человеческое в мире. Антропология культуры специфична, ибо ее интересует именно мир ценностного бытия человека.
Различия в подходах к изучению культуры диктуются не только тем, что понимается под культурой вообще, но и тем, какие грани, стороны, моменты культуры представляются исследователям важнейшими, определяющими, и тем еще, какие методологические принципы находятся в основании данных исследований. Некоторые из ученых настаивают на исключительной важности какого-то одного подхода (внутри которого выделяются разные методы). Другие пытаются совмещать ряд подходов. Существенно и то, исследуется ли явление культуры в статике или динамике, развитии, в том числе историческом.
Существует множество подходов к познанию культуры, методов ее изучения. Каждый из них заслуживает специального осмысления. Но, возможно, прав К. Ф. Завсршинский, утверждая, что «более инструментальным» является взгляд на развитие культурологии через «призму» доминирующих в тот или иной период се развития «парадигм»[3]. Сам Завершинский выделяет три, с его точки зрения основных, парадигмы: антропологическую, знаково-символическую и аксиологическую.
Безусловно, культура и ее ценности могут и должны исследоваться по-разному. Но в любом случае, при любом исследовательском подходе к изучению культуры, сложность состоит в том, что культура и се ценности есть нечто, что в процессе исследования с самого начала как бы перестает быть самим собой. Это совершенно очевидно, например, для исследований ценностей эстетической и художественной культуры, над которыми (как и вообще над исследованиями культуры) довлеют традиции, устоявшиеся представления, привычная терминология.
Так, по традиции, сложившейся в СССР и пока что отнюдь не исчезнувшей, ценность искусства почти однозначно определялась его социальной значимостью. Это шло от некоторых особенностей развития русского искусства и отношения к нему, использованных, преобразованных и дополненных псевдомарксистской идеологией. Социальная значимость, грубо говоря, понималась в смысле полезности для человека и человечества. А полезность измерялась соответствием интересам самого передового класса, которые якобы совпадали с объективными интересами всего человечества, известным его «лучшим» представителям. Таким образом, создавалась видимость объективной основы для определения ценности искусства, функция которого состояла в правильном художественном отражении действительности.
Причем, как считалось, соответствие или не соответствие интересам того или иного класса, верность или ложность художественного отражения жизни могли быть рационально постигнуты путем научного анализа произведения искусства, его содержания. Под содержанием разумелась прежде всего идейная сторона. И хотя писали и говорили о художественной идее, художественном образе, важнейшим казалось понять, ну, прямо по Дорошевичу: что хотел сказать поэт «птичкой божией». Что он-таки сказал и почему сказанное им социально значимо? Содержательно анализировались замысел, фабула, сюжет, тема, идеологическая проблематика, образы отдельных героев и т. д.
Форма подвергалась анализу по качеству техники, приемов выражения содержания, языка, — как элемент необходимый, но вспомогательный. Формотворчество, поиски художника в области собственно формы (при подобном подходе легко отрываемой от содержания) оценивались резко отрицательно, клеймились как формализм.
Ущербность такого идеологизированного и гносеологизированного анализа проявлялась в неприязни к новому, не укладывающемуся в догматические представления, в выбрасывании не только отдельных художников, но и художественных направлений за рамки художественности и культуры и, наоборот, во включении произведений художественно неценных, но идеологически удобных, в поле эстетической и художественной культуры, которое при таком подходе все более стало напоминать «поле дураков».
Эта ущербность теоретико-идеологического подхода к искусству, сам его характер до сих пор влияют на культуру целых поколений. Достаточно напомнить о том, что советская средняя школа при поддержке средств массовой информации преуспевала в убиении интереса к классическому искусству, в искажении смысла и ценности целых пластов художественной культуры прошлого и настоящего. Конечно, к счастью, были и исключения из общей направленности к огрублению художественных вкусов. Было и «запретное», к которому тянуло некоторых учеников, вопреки назойливости, тяжести и скуке идеологического давления. Но ведь и к запретному тянуло в той же обстановке, как к греху, как к сладкому, но явно недостойному и непонятно почему влекущему. И уж какие там Джойсы и Кафки, если упадочными официально оказывались то и дело свои, и столь разные: то Блок, то Есенин, то Достоевский, то Шостакович, то Зощенко, то Ахматова, то Окуджава и Высоцкий. Интерес ко всякому западному и отечественному модернизму казался, если и смелым, то болезненным или наигранным. И попытки потом, в пору перестройки, чуть ли нс чохом сменить знаки оценок — минус на плюс и обратно — шли чаще всего в русле той же идеологии. Только о содержании искусства, о его социальной значимости, стало говорить как-то неприлично. Поговорим же и мы о форме. Вернее о том, что, несмотря на всяческую критику формализма, интерес к художественной форме у некоторых теоретиков не исчезал. Но именно интерес к содержательной форме. Иной-то она, как они понимали, быть не может.
Так, каково бы ни было отношение представителей официальной идеологии к структурализму, как бы ни был значителен разгром «формалистов» структурального направления в литературоведении, учиненный в довоенный период, — структурализм ожил в 60-е годы. И в 1964 году в своих «Лекциях по структуральной поэтике» Ю. М. Лотман писал о том, что на смену искусственно противопоставляемым (или разделяемым) «идейному анализу» и «анализу формы» должно прийти исследование художественной природы литературного творчества, исходящее из органичной связи сторон изучаемого явления"[4].
Фактически им утверждалась эффективность структурно-функционального метода при изучении явлений художественной культуры (словесности, в частности). Лотман и позже некоторые другие исследователи пытались представить каждый, даже мельчайший элемент структуры художественного текста как осмысленный, а смысл произведения искусства в целом связать с осмысленностью каждого элемента. Структуралисты хотели от рассмотрения структуры текста (вроде бы формальных его элементов) выйти к смыслу целого.
И ценность произведений искусства должна была проявиться в ходе такого рассмотрения, ибо монографический анализ текста, от первого слова до последнего «в первую очередь отвечает на вопрос: почему данное произведение есть произведение искусства»[5]. И заметим, что речь шла не о привнесенной политической или идеологической ценности, а о культурной значимости текста, эстетической, художественной ценности произведения искусства. Эта направленность на обнаружение художественных смыслов, красоты, эстетического совершенства была очень интересна. Она и нестандартность, оригинальность, непривычность исследований привлекли внимание интеллсктуалов 60-х-80-х годов. Однако выйти в сферу более широкого воздействия структуралистская методология не смогла, и вовсе не только потому, что теоретические построения структуралистов оказались слишком сложными. Попытки представителей структурального направления обратиться к конкретному анализу произведений искусства выявили слабости в общеконцептуальных основаниях методологии искусствоведческого структурализма, в его исходных посылках.
Исходным было понятие искусства как средства познания жизни[6], а целью его считалась «истина, выраженная на языке условных правил»[7]. Думается, что это издержки европейского рационализма, вылившегося в гносеологизм. Все-таки живут, чтобы познавать, только ученые, да и то не все. Остальные смертные познают, чтобы жить и действовать. То есть познание, достижение истины является для них средством, а никак не целью. И общение друг с другом, в том числе через искусство, не сводится к обмену информацией. Искусству нужно знание. В процессе художественного творчества совершается и познание. Но ни творец произведения искусства, ни его «потребитель» не ставят себе цели познания. А у Лотмана получилось, что искусство — только особый вид познания, отличающийся от других видов тем, что пользуется не анализом и умозаключениями, а воссоздает, моделирует действительность доступными ему средствами. И вся художественность литературного текста, оказывается, сводится к большему, чем в нехудожественном, объему информации. Культурная значимость текста ставилась в прямую зависимость от его информационной насыщенности, хотя бы потенциальной: «…понять, в чем источник культурной значимости поэзии — значит ответить на вопросы теории поэтического текста. Каким образом наложения на текст дополнительных — поэтических ограничений приводит нс к уменьшению, а к резкому росту возможностей новых значимых сочетаний элементов внутри текста»[8].
Нисколько не отрицая полезности самого по себе структурноинформационного анализа как частного, позволительно выразить сомнение в том, что суждения о культурной значимости, художественной ценности произведения можно основывать на способности текста концентрировать информацию. Вряд ли «хорошие стихи — это те, которые несут информацию (всех видов), то есть не угадываются вперед»[9].
Структурный анализ текста и интересен и полезен. Но надо помнить, что анализ есть анализ. Что бы мы ни анализировали — стихотворение или живую клетку, — добиваясь полного знания структуры целого, мы вынуждены осуществлять вмешательство, которое уничтожает живую целостность объекта исследования. При этом полное установление всех структур и их связей исключено, а главное — даже хорошее знание структур зачастую не приближает к постижению целого. В. Гейзенберг, размышлявший об этом применительно к анализу молекулярной структуры живого, отметил, что, вероятно, мы сталкиваемся с ситуацией дополнительности, «когда выбираем, наслаждаться ли музыкой или анализировать ее структуру»[10]. То и другое невозможно одновременно.
Структурное изучение явления художественной культуры, формальный подход к предмету исследования, целесообразны в определенных пределах — для раскрытия и описания некоторых элементов и их связей в составе художественного произведения. Но: «Если мы описываем группу связей с помощью замкнутой и связной системы понятий, аксиом, определений и законов, что со своей стороны может быть снова представлено в виде математической схемы (к чему и стремятся структурализм и некоторые принципы системного подхода), то мы фактически изолируем и идеализируем эту группу связей — с целью их научного изучения. Но даже если достигнута полная ясность, то всегда остается неизвестным, насколько точно соответствует эта система понятий реальности»[11].
Значит ли это, что нужно совсем отказаться от подобных структуралистских описаний, от методов структурного анализа? Нив коей мере. Но это значит, что такие описания требуют интерпретации и сами по себе нс ведут к пониманию смысла и ценности целого. Это значит, что неосновательны претензии на то, что структурный или системный подход к художественным явлениям и есть подходы, с помощью которых решаемы проблемы типа «почему данное произведение есть произведение искусства». Анализ конкретных поэтических произведений (например, производимый в книге Лотмана «Анализ поэтического текста») как раз показывает, что вывести из лингвистики, хотя бы и с большой примесью математики, критерии для определения художественной ценности произведения вряд ли возможно. Сам принцип рационально-объективного подхода к произведению искусства как к объекту, как к «оно», как к тексту, существующему независимо от воспринимающего, видимо ограничивает возможности обнаружения специфики художественного освоения мира, освоения не познавательного, а скорее эмоционально-ценностного. Ведь суть не в том, сколько информации об объектах или о субъекте содержится в тексте. Вопрос в том, содержатся ли в тексте, в его структуре элементы и связи (знаки ценности), способные особым образом возбудить и направить эмоциональные ассоциации, породить специфическое отношение у читателя, зрителя, слушателя. Внутритекстовый анализ должен открывать то, что в структурах текста ведет к воздействию целого как художественной ценности. Иначе говоря, анализируя произведение искусства, мы должны идти к постижению взаимодействия между эмоциональным мышлением автора (его фиксацией в тексте) и мышлением того, на кого этот текст воздействует. Ибо «текст не существует вне его создания или восприятия (например, прочтения)»[12]. Поэтому важно, что кроме указанного и некоторых других, менее привлекающих внимание, есть еще методологический подход к выявлению смысла и ценности эстетических и художественных явлений, который, кажется, позволяет уйти от излишних объективизма и гносеологизма, преодолеть вульгарность чрезмерного социологизма и при этом осмыслять эстетические феномены в их целостности. В таком подходе присутствует нечто от феноменологии и герменевтики (методов гуманитарных исследований, о которых будет сказано дальше).
Исходным для такой методологии является то, что смысл и ценность, к примеру, произведения искусства, существуют и раскрываются только как взаимодействие, как диалог смыслов и ценностей. В становлении такого рода подхода в СССР значительную роль сыграли работы М. Н. Бахтина. Позже проблемы диалогичности мысли, в том числе и творческой, специально рассматривал В. С. Библср. Библср напомнил, что согласно концепции Л. С. Выготского «мысль не выражается, а совершается в слове»[13]. Э го утверждение касалось порождения вообще мысли во внутреннем диалоге, во внутренней речи. Но ведь если говорить о художественной мысли, то тем более! Поэт-дадаист Тристан Тзара заявлял, что мысль рождается во рту. М. М. Бахтин выражался по этому поводу иначе, констатируя, что «событие жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов»[14]. А из этого следует, что какой бы знаковой системой ни обеспечивалось искусство, «целое высказывание — это уже не единица языка… а единица речевого общения, имеющая не значение, а смысл (то есть целостный смысл, имеющий отношение к ценности, к истине, к красоте и т. п. и требующий ответного понимания, включающего в себя оценку)»[15]. Естественно, при таком подходе осмысление художественных явлений (именно осмысление, для которого исследование, анализ — необходимы, но подсобны) и попытки выражения этого осмысления сами имеют диалогический характер. Это первое. Второе — то, что и осмысление и выражение его в данном случае неизбежно пристрастны, эмоционально окрашены. И третье — то, что при нормальном использовании осмысления искусства в целях воспитания, просвещения, развития эстетической и художественной культуры — ситуация эмоционального диалога вполне естественна. Ибо размышление, выражаемое вовне, совершаемое в диалоге (хотя бы внешнем и однонаправленном) всегда неоднозначно, многомысленно, чувственно подвижно, содержит в себе разнообразные подтексты, которые нельзя просто снимать, если речь идет об эстетических феноменах. Ведь результат общения, к которому стремятся, — рождение эстетического чувства, эстетического и художественного понимания. Для этого необходимо творчество эмоционального мышления того, кого просвещают, воспитывают, развивают, с кем общаются. Воспитатель, скажем, должен суметь помочь «родиться» красоте художественного произведения, эстетического явления, подобно тому, как Сократ помогал рождению истины. Подобно, но не так же. Помочь родиться не какой-то безличной красоте, не какому-то объективному смыслу и объективной ценности, и нс убедить в своем понимании, и не передать свое чувство (это невозможно). А возбудить чувство в воспринимающем. И исследователя искусства это тоже касается. Известно, что и полюбить и испытать эстетическое наслаждение можно только самому. И почувствовать и оценить эстетически автора, эпоху, красоту, гармонию (так же как и безобразие и дисгармонию) можно только тогда, когда при возникновении диалога с произведением искусства, текстом и с его осмыслением кем-то другим, — родятся новый смысл, новая ценность, новое эмоциональное представление о том и о другом. Новое — не значит совершенно отличное от других, но значит, что оно именно личностное. И только в этом случае оно становится живым моментом культуры. И осмысленным в своей культурной явлености.
Все, что сказано выше об особенностях исследования, касается любых явлений культуры. Методология ее изучения весьма специфична. И специфика познания культуры во многом определена своеобразием объекта и предмета исследования. Объект исследования — культура (или культуры, или явления культуры) всегда наличествует в своем духовном бытии в качестве духовной реальности. И предметом культурологического исследования, то есть тем, на что именно направлено внимание исследователя, оказываются какие-то аспекты духовного бытия, чаще всего ценностные смыслы, чистая объективность которых (независимость от субъекта, в том числе и от познающего) представляет собой малопродуктивную абстракцию. Очевидно поэтому то, что в методологии культурологических исследований соотношение рационального и иррационального подходов отлично от того, каково это соотношение в естественнонаучном постижении мира.
- [1] ' Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 55.
- [2] Там же. С. 101.
- [3] См.: Завершинский К. Ф. Культура и культурология в жизни общества. Великий Новгород, 2000. Глава III.
- [4] Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Труды по знаковымсистемам. Вып. 1. Тарту, 1964. С. 11.
- [5] Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 10.
- [6] Лотман 10. М. Лекции по структуральной поэтике. С. 1.
- [7] Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 91.
- [8] Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. С. 36.
- [9] Там же. С. 130.
- [10] Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963. С. 152.
- [11] Там же. С. 82.
- [12] Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969. С. 15.
- [13] Выготский Л. С. Мышление и речь. М.-Л., 1934. С. 282.
- [14] Бахтин М. М. Проблема текста. Опыт философского анализа // Вопросылитературы. 1976. № 10. С. 149.
- [15] Там же.