Культурно-эволюционная теория суицида Мориса Хальбвакса
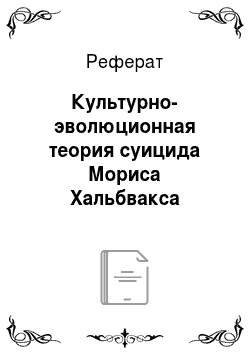
Леви-Брюль действительно пытался решить проблему социальной причинности, отказавшись от понятия коллективного сознания, предполагающего воздействие последнего на индивидов, которое остается загадочным, если оно считается аналогичным действию одной субстанции на другую, описывается изнутри как субъективное ощущение сопричастности человека обществу. Понятие «партиципации» («сопричастности») явно… Читать ещё >
Культурно-эволюционная теория суицида Мориса Хальбвакса (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
«Самоубийство» считается великой книгой Дюркгейма, поскольку эмпирически посредством тщательного изучения статистики определяется социальная реальность как первоначальная причина всех других причин, изучаемых гуманитарными науками, и таким образом становится предметом новой науки — социологии. Дюркгейм показывает, что изменения в показателях смертности не могут быть объяснены биологическими причинами, такими как наследственные болезненные инстинкты или влияние климата, но только социальными причинами, такими как увеличение или уменьшение социальной плотности окружающей среды, в которой живет человек. Таким образом Дюркгейм обнаруживает существование социальной жизни, несводимой к индивидуальной, в том смысле, что социальная жизнь образуется из жизненных потоков, не зависящих от состояний отдельного организма, но также и в том смысле, что социальная жизнь является главнейшей для индивида, поскольку, когда его социальные связи ослабляются, у него может возникать стремление к суициду. Таким образом признак, по которому социолог обозначает социальный факт, очевиден: социальный факт оказывает внешнее принуждающее воздействие на людей, которые считают, что они якобы свободны в своей собственной жизни, тогда как их фактически подталкивают определенным образом социальные потоки. Использование статистических данных позволило сделать видимой эту социальную причину, которая до сих пор была постулирована Дюркгеймом, показывавшим регулярность уровней самоубийств посредством сравнения социальных групп с переменной плотностью.
Человек разделяет коллективные представления, которые ему дает общество, т. е. его действие проявляется на стыке между индивидуальной сценой, где он представляет себя, и более широкой сценой социальной сферы, где он также представляет себя, однако его действие обусловлено коллективными представлениями. Дюркгейм называет коллективное сознание как место, где социальная и психическая жизнь наиболее интенсивна, как пространство, в котором отражены и сгущаются все отдельные жизненные потоки, появляющиеся на общей границе всех индивидуальных действий. Таким образом понятие коллективного сознания является не совсем подходящим наименованием для весьма реального феномена, который представляет собой сгущение социальной жизни в той точке общества, где она дает индивидам представление о себе, позволяющее им участвовать в этой жизни.
Проблема, порожденная понятием коллективного сознания, заключается в том, чтобы понять, как отдельные люди могут действовать сами по себе в своей собственной сфере действия, участвуя в этой точке сгущения общественной жизни. Дюркгейм часто испытывает соблазн принять декартовский, т. е. дуалистический, язык, в котором коллективное сознание добавляется к телам людей через головной мозг, отражающий жизнь человека, путем концентрации в одной точке. Но тогда понятие коллективного сознания напоминает декартову гипотезу шишковидной железы, которое скрывает действие коллективного сознания в индивидуальной жизни точно также, как действие души в теле скрывает шишковидная железа.
Вопрос о причинах самоубийства ставит вопрос о действии общества на индивидов, которое своим авторитетом оно оказывает на них, устанавливая связь между имманентностью индивидуальной жизни и трансцендентностью общественной. В своей работе «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейм формулирует эту задачу: «Социологическая проблема… заключается в поиске через различные формы внешнего ограничения различных видов нравственного авторитета, которые ему соответствуют, и обнаружении причин, которые их определяли»[1]. Это уже не вопрос определения причины — общества, а причины, соответствующей различным модальностям, через которые осуществляется власть общества.
Одним из путей вхождения в дюркгеймовскую социологию является признание связи между жизнью, социальным и ментальным. В позитивной философии Огюста Конта, играющей своего рода роль компаса для этой социологической школы, сформировался подход, который объясняет социальные явления жизненными явлениями. Конт предложил заменить абсолютные теологические причины стадий общественного развития научным наблюдением законов отношений между явлениями. Необходимо было объяснить, как знание этих законов позволяет изменить историческую среду и, следовательно, как социальное может воздействовать на жизнь и мышление. Таким образом возникает вопрос о социальной причинности, когда социология уже не просто теоретическая наука, стремящаяся разграничить свой предмет, но и практическая наука, способная воздействовать на социальные явления. Так, появляется оригинальная концепция причинности, которая определяет мышление и жизнь не только социально, но, скорее, указывает на отношение взаимоэкспозиции между этими уровнями в социальных явлениях.
Хальбвакс следовал за учением Бергсона и Дюркгейма, это заставило его сочетать философию жизни с психологией и социологией с одной стороны, а с другой он очень конкретно изучил то, что называется «коллективной памятью». Причины самоубийства следует искать именно в точке пересечения этих двух исследовательских полей.
Этому поиску посвящена работа Хальбвакса «Причины самоубийства» (1930). Ее автор не согласен с выводами Дюркгейма о связи с самоубийством экономических и социальных кризисов. Хальбвакс полагал, что связь между проживанием в городах и сельской местности с показателями самоубийств объясняется различием в образе жизни городских и сельских групп. Понимание их образа жизни или культуры позволит объяснить суицидальный феномен. В отличие от Дюркгейма Хальбвакс считал, что суицидальный акт во многом обусловлен ситуативными мотивами индивидов.
Хальбвакс, опираясь на лучшие статистические ресурсы, считает самоубийство патологическим фактом. Психиатры, как известно, причины самоубийства ищут в тревоге, нервной депрессии. Социология идет дальше психиатрии. Любое самоубийство свидетельствует об отсутствии адаптации личности к обществу. Совершено ли оно из-за позора, чувства одиночества или оставленности, причиной самоубийства всегда является социальный вердикт, который человек по-своему интерпретирует. Короче говоря, психическая проблема — это только акцидентальная причина, отделяющая человека от сообщества, вселяющая недоверие или страх. Сознательное самоубийство на самом деле происходит из-за чувства социальной пустоты.
Подход Хальбвакса подтверждает наблюдение Дюркгейма, что индивиды убивают себя реже во времена политического кризиса или войны. Этот факт можно легко объяснить тем, что в эти периоды усиливается интерес, который люди привносят в общество, в котором они живут.
Заслуга Хальбвакса заключается в том, чтобы выйти за рамки того, что мы можем назвать обычными местами в курсе социологии: социальный идеал, коллективные представления и т. д. Причины самоубийства он ищет в географической конституции обществ, перемещении семьи и религии в городскую или сельскую среду, делая акцент на географии человека в отличие от социологической школы Дюркгейма. Хальбвакс считает, что если мы хотим охватить во всем своем богатстве эмоциональную и нравственную жизнь социальной группы, ее функции, обычаи, мы действительно обязаны изучать ее в городской или сельской местности, т. е. с учетом ее географии.
Хальбвакс ищет определение суицида достаточно всеобъемлющее, чтобы иметь возможность распространить его на множество случаев, и достаточно точное, чтобы не допускать какой-либо двусмысленности. Он противопоставляет самоубийство самопожертвованию во имя общества: оба являются действием, результаты которого заранее были известны субъекту, но одно социально осуждено, другое социально одобрено. Тот, кто жертвует собой ради общества, поставил свой собственный идеал в зависимость от общества, следовательно, получает коллективное одобрение.
Хальбвакс приходит к выводам, ограничивающим требования социологического догматизма Дюркгейма. Общество, считает Хальбвакс, разбивается на определенное количество групп, каждой из которых присущи определенные точки зрения и разные или даже противоположные способы мышления. Поэтому общество похоже на сивиллу, ответы которой могут быть истолкованы более чем в одном смысле и которые, кроме всего прочего, содержат больше вопросов[2]. Общество, как и всякая другая реальность, имеет то значение, которое придает ему дух. Слабые духом убивают себя, потому что они находят в социальном неустройстве достаточную причину для этого. Сильные духом иногда убивают самих себя, чтобы остаться недоступными для общего потока мнений, который называется гласом народа. Всем известна максима: «глас народа — глас Божий» (Vox populi, vox Dei). Если человек умирает за эту идею, он, похоже, поставил ее выше собственной жизни. Он видит в ней смысл своего существования, потому что вложил в нее то, что для него самое главное. В таком случае самоубийство — это способ самопожертвования человека ради других людей. Тогда самоубийство приобретает философский или метафизический смысл, поскольку каждое отрицание предполагает утверждение.
Хальбвакс отказывается от трансцендентности коллективного сознания. В «Причинах самоубийства» Хальбвакс в целом согласен с тезисом Дюркгейма о социальном характере причин самоубийства. Однако Хальбвакс обнаруживает факты, которые противоречат деталям этого тезиса и, следовательно, его общей философской основе. Дюркгейм общий рост уровня самоубийств в большинстве промышленно развитых стран объяснил ослаблением уз солидарности в этих обществах из-за ширящегося разделения труда и повышения уровня образования. Общий тезис Дюркгейма заключался в том, что индустриальные общества стали жертвами того, что он называл эгоистичным самоубийством, которое происходит, когда общество отстраняется от человека и оставляет его в одиночестве и отчаянии. Дюркгейм, в частности, показал, что уровень самоубийств в этом типе увеличивается, когда ослабевает влияние семьи и религии, что объясняет, почему протестанты совершают больше самоубийств, чем католики, или одинокие мужчины больше, чем замужние женщины. Хальбвакс, однако, устанавливает, что эта общая эволюция индустриальных обществ в направлении увеличения эгоистических самоубийств может быть и наблюдалась в 1890-х гг., когда Дюркгейм писал свою книгу, но в 1920;х гг. ее уже не было. Недавние статистические данные действительно свидетельствуют о стабилизации уровня самоубийств в большинстве промышленно развитых стран и даже о сокращении числа самоубийств. В результате Хальбвакс заключает, что самоубийство происходит не из-за самой индустриализации, а из-за слишком быстрой индустриализации и жестоких изменений в образе жизни, которые она навязывает, в частности, при переходе от жизни в сельской местности к жизни в городах. Другими словами, изменение происходит не под влиянием индивидуализма и ухода от традиционного образа жизни, а из-за кризиса роста в эволюции индустриальных обществ. Лица, которые совершают самоубийство, являются не эгоистичными людьми, а людьми, не пригодными для их окружения, с пониженным социальным статусом в результате внезапного экономического изменения. Поэтому ослабление социальных связей не является неизбежным следствием индустриализации — это лишь временный шаг при переходе от одного вида жизни к другому.
Говорить о коллективном сознании — это противопоставлять общество и индивида как две субстанции, действующие друг на друга. Только восприятие пустоты приводит людей к смерти, тогда как социальную жизнь можно интерпретировать как полноту, если мы ее рассматриваем с точки зрения представлений коллективного сознания. Поэтому самоубийство в каком-то смысле иллюзорно или, скорее, галлюцинаторно, но именно причины этой иллюзии нужно искать.
Здесь очевидно влияние лейбницевской мысли, критикующей декартовский дуализм и заменяющий таинственный союз двух субстанций гармонией между душой и телом, задуманной как формальные ансамбли. В оптимизме Лейбница нет отрицательного действия, которое не компенсируется положительным действием, следуя рациональному вычислению оптимального, сделанного Богом, монадой, выражающей все остальные монады.
О человеке, который совершает самоубийство, нельзя сказать, что общество убивает его, но позволяет ему умереть, поскольку разнообразие социальных представлений побуждает некоторых людей ни к чему не стремиться, пребывая в относительном вакууме. Таким образом проясняется понятие социальной причинности: не общество действует на индивидов как субстанция, производящая движение в другой субстанции, но перцептивные отношения в обществе — отношения между социальными классами, понимаемые Хальбваксом как отношения восприятия и различия, — локально производят уменьшение и увеличение силы общественного воздействия.
Поэтому мысль Хальбвакса более оптимистична, чем Дюркгейма, поскольку он описывает социальную жизнь как совокупность психических сил, которые производят в индивиде «обоснованное заблуждение». Насилие, которое общество совершает в отношении людей, связано не только с наложением коллективного сознания на индивидуальный организм: это также переход от одного образа жизни к другому, заставляющий человека принимать новые привычки и новый ритм жизни, что также рискует сделать его лишним или неподходящим человеком. Поэтому мы должны говорить не о насилии общества, а, скорее, об имманентности социальной ткани, переменные амплитуды которой производят формы несогласованности и безумия в пространстве коллективного сознания. «Это точка зрения, которую Дюркгейм не учитывал», — отмечает Хальбвакс. — Он, похоже, не подозревал, что бредовые состояния сопровождаются отсутствием адаптации человека к его окружению"1. Подход Хальбвакса предполагает рассмотрение общества в местах перехода между двумя видами жизни, где социальная жизнь не доведена до максимальной интенсивности, и там, где наблюдается изменение интенсивности, что делает ее особенно заметной. Если кто-то признает, что социальная жизнь действительно является формой заблуждения или коллективной галлюцинации, что галлюцинация фокусируется на реальности, которая служит точкой привязанности, то в таком случае мы должны смотреть на нее со всех точек зрения сразу, т. е. видеть логику всех индивидуальных заблуждений, понимаемых как выражение внутренней дифференциации в социальной ткани.
Обсуждение тезисов Дюркгейма приводит Хальбвакса к рассмотрению вопроса о психопатологии самоубийства. Анализ фактов позволяет уйти от оппозиции социальных и биологических причин самоубийства, поскольку она возникла в полемике Дюркгейма с психиатрией в 1890-х гг. вокруг идеи болезненного инстинкта. Хальбвакс отмечает, что между биологией и социологией открыта целая область изучения психической жизни, в контексте которой размышления Шарля Блонделя о «болезненном сознании» являются яркой иллюстрацией[3][4]. Говоря о болезненном сознании, а не об инстинкте, Блондель стремится проанализировать с учетом психопатологии не органические определения, а формы выражения, радикально чуждые понятию коллективного сознания, которые, таким образом, принадлежат к психологии и не сводятся к биологии и социологии, поскольку ее область находится между витальным и социальным. Бред в этом отношении не является состоянием психического «перегрева»: это язык, чуждый нормальному языку, навязанному обществом индивиду, несущему свои собственные связи и ассоциации. Таким образом болезненное сознание, о котором говорит Блондель, указывает на тип умственной деятельности, которая ускользает от логических структур коллективного сознания. Блондель идет очень далеко в направлении ментального релятивизма, утверждая, что «нет единой логической организации языков… Поэтому необходимо, чтобы наша психика предлагала перед своей вербальной транспозицией определенную неопределенность и определенную гибкость, чтобы получили существование последовательные способы организации и выражения, которые навязали ей это»1. И, поскольку существует столько форм выражения, социальные рамки налагают гомогенизирующую логику на эти разные языки, в том числе и бредовые.
В поддержку своей релятивистской концепции ментальной жизни Блондель опирается на работы Люсьена Леви-Брюля. Бредовую умственную деятельность можно по праву называть «прелогичной», если она не воспринимается в эволюционистском смысле возвращения к более ранней стадии развития вида, а как выражение другой логики, отличной от ясного и отчетливого сознания в том, что она осуществляет синтез, нарушающий принцип непротиворечивости.
Блондель считает, что изучение первобытного сознания способно заставить нас понять и почувствовать, что формы нашего разума и законы нашей логики не относятся к абстрактному и универсальному человеку, но имеют отношение к нашей социальной организации и нашей цивилизации. Изучение болезненных расстройств, рассматриваемых в их существенной оригинальности, также может открыть нам то, что социальному сознанию предшествует нечто предконцептуальное, предлогическое, преморбидное и преднормальное, которое может быть в некотором смысле индивидуальным мышлением[5][6].
Леви-Брюль действительно пытался решить проблему социальной причинности, отказавшись от понятия коллективного сознания, предполагающего воздействие последнего на индивидов, которое остается загадочным, если оно считается аналогичным действию одной субстанции на другую, описывается изнутри как субъективное ощущение сопричастности человека обществу. Понятие «партиципации» («сопричастности») явно заимствовано Леви-Брюлем у философа Н. Мальбранша. Оно обозначает режим причинности, который разделяет вещи между их видимой и естественной частью и их невидимой и «сверхъестественной» частью[7]. Чтобы понять чувство сопричастности, необходимо следовать восприятию в его естественной ориентации в той мере, пока оно не становится непостижимым, если оно не относится к сверхъестественному порядку. Именно этот метод понимания, который Леви-Брюль применяет в анализе примитивных обществ, Блондель переносит в сферу психопатологии: однако это не отождествление примитива и сумасшедшего в одном том же порядке органической причинности, он предлагает новую концепцию причинности, в которой субъективный элемент действия является решающим. Отсюда следует оригинальный социологический метод, который вместо связывания, казалось бы, бредовых умственных фантазий с объективной реальностью, в которой они проявляются, объясняет их одну за другой в их последовательности, не ища им объяснения вовне.
Хальбвакс опирается на Блонделя, чтобы поддержать свои собственные размышления о феномене суицида. Действительно, в состоянии изоляции индивида по отношению к его социальной группе возникает особая умственная деятельность, которая избегает систем социальной причинности, не сводясь к органической причинности. Но ошибка Блонделя заключается в том, что он пытается описать эту умственную деятельность как радикально оторванную от социальной группы, поскольку он не видел непрерывности между социальным и органическим. По мнению Хальбвакса, органическая причинность есть не что иное, как низшая степень интенсивности умственной деятельности, осуществляемой обществом: это та точка, в которой энергия коллективного сознания останавливается, образуя пустоту, в которой человек может зависнуть. Но эта пустота — относительная пустота, поскольку она соответствует только интервалу между двумя моментами социальной жизни, как пауза, которая заставляет взять новый ритм. Психиатр слишком внимательно следит за человеком, который попадает в пустоту, и объясняет это либо биологической тенденцией, которая вынудила его упасть, либо ощущением тоски, которая привлекала его таинственным образом, в то время как социолог воспринимает это как изменение ритма в общественной жизни.
Эти проблемы возникают, как правило, тогда, когда человек переходит от старого традиционного образа жизни к новому более сложному типу цивилизации; в это время в обществе наблюдаются разрывы. Психиатр фокусирует свое внимание на том, что происходит внутри разрыва, и, поскольку существует своего рода социальная пустота, вполне естественно, что он объясняет самоубийство особенностями самоубийцы, а не среды, из которой он ушел. «Он не понимает, — пишет Хальбвакс, — что настоящая причина самоубийства — это пустота вокруг самоубийства»1.
Как может пустота стать причиной самоубийства? Выражение, как мы видим, более загадочно, чем дюркгеймовское утверждение, что самоубийство объясняется насилием, налагаемым обществом на человека.
Оригинальность тезисов Хальбвакса заключается в том, что социальная причинность понимается как ментальная причинность. Строго говоря, с социологической точки зрения есть только коллективные мысли, а чисто индивидуальные мысли являются следствием умственной деятельности в материи, которая сродни пустоте. И все же эти пустоты неизбежны, потому что в обществе существует столько точек зрения, сколько людей в разных положениях социального пространства. Поэтому необходимо объяснить, как общество действует на каждого человека, даже если оно выражает это действие в соответствии с его точками зрения и создает потенциальное искажение, хотя и сглаженное. Хальбвакс формулирует свой тезис, по-видимому, жестоко: каждый индивидуальный факт является случайностью в отношении социальной причинности, которая действует совершенно по-другому; но эти случайности неизбежны из-за сложности социальной жизни, которая выражает множество точек зрения. Общество не может предвидеть все, и самоубийства недалеки от того, чтобы быть случайными добровольными смертями. Поэтому следует сказать, что каждое самоубийство — это случайность, но это не означает, что оно необъяснимо, скорее, это общество действует неявным образом, оставив материальность, а не прямым импульсом.
«Когда в самом обществе происходят несчастные случаи, показывающие беспомощность человека, это говорит о том, — пишет Хальбвакс, — что в этом месте социальный механизм больше не работает хорошо или совсем не работает. В этом смысле мы можем сказать, что социальная жизнь противостоит материальным невозможностям. Материально невозможно для всех людей стать богатыми и т. д. Здесь и там невозможность имеет один и тот же порядок. Все эти несчастные случаи являются материальными в той же степени. Но если это так, если эти несчастные случаи, вместе взятые, являются мерой бессилия общества, тогда их можно предвидеть и предотвратить, их количество, распределение в пространстве, а также их интенсивность как результат структуры группы»[8][9].
Конструкция, разработанная здесь Хальбваксом, может быть сравнима с идеями Леви-Брюля. Размышления Леви-Брюля о первобытном мышлении привели его к анализу феномена случайности с учетом слабости дюркгеймовской концепции социальной причинности. «Перед лицом непредсказуемых событий первобытное мышление прибегает к мистической причинности, которая объясняет случайность сверхъестественным вмешательством духа предка в жизнь индивида, погруженного в ментальную атмосферу коллективной сопричастности»[10].
Таким образом социальная причинность действует как вторичная при несчастных случаях в том смысле, что первичная причинность в виде участия духов предков в материальной жизни — сама по себе невидимая — проявляется только в ходе событий. Но такое вмешательство — это не научное объяснение для ученого. Метод Хальбвакса совершенно другой, ибо он не отвергает морфологический анализ Дюркгейма и статистический инструментарий. Именно изучение структуры групп и экономических переменных, которые там действуют, обеспечивает понимание значения несчастных случаях на пересечении множества статистических переменных, свидетельствующих о социальной причинности, поскольку ее индивидуальные эффекты не показывают ее как таковую. Несчастные случаи таким образом свидетельствуют не о страхе, присущем человеку перед лицом природных явлений, которые он не может объяснить и которые оправдывают применение сверхъестественных причин, как считает Леви-Брюль, но о необходимой сложности социальной жизни, поскольку она объединяет свободные действия в соответствии с переменными склонностями — то, что Хальбвакс называет мотивами, которые относятся не к расстроенной индивидуальной психологии, а, скорее, к строгому статистическому анализу.
Тогда можно сказать, что Леви-Брюль прибегает к мальбраншевской гипотезе невидимого порядка, таинственно наложенного на порядок видимого, тогда как Хальбвакс прибегает к лейбницевской концепции вычисляющего Бога, создающего наилучший из возможных миров посредством выбора лучшего. Если есть несчастные случаи, это происходит не потому, что существует препятствующая непредсказуемость для действия, а потому что богатство социального мира, объективно вычисляемое, предполагает установление лакун между типами жизни. Центральное понятие у Хальбвакса — это сложность (complication), которая понимается как умственная деятельность (activite mentale), присутствующая во всех частях социальной ткани, причем последняя пластична сама по себе, изгибаясь, создает новые выражения, так что-то, что выглядит как пустота, на самом деле является местом пролиферативного (разрастающегося) творения. Если оно наблюдается с точки зрения всего социального движения, это позволяет социологу постоянно переходить с субъективной точки зрения на объективную при анализе этого движения.
«Если суицид растет в основном из-за того, что социальная жизнь сложна и необычные события, вызывающие отчаяние, умножились, это всегда зло, но, возможно, относительное зло. Существует действительно необходимое усложнение, которое является условием более богатой и более интенсивной общественной жизни»1. Таким образом понятие усложнения предлагает анализ разнообразия форм социального выражения более тонкого, чем у Дюркгейма. Если социальная жизнь сложна, это связано с тем, что каждый индивид взаимосвязан с другими, переходит от одного образа жизни к другому.
Понятие «образ жизни» играет центральную роль в работе Хальбвакса. Оно было заимствовано из «Географии человека» Видаля де ла Блаша и обозначало все отношения между человеком и его географической средой, благодаря которой человек влияет на свое окружение настолько, насколько он претерпевает естественные ограничения. Это понятие было противопоставлено понятию почвы, понимаемому в духе одностороннего детерминизма природных условий относительно общества в немецкой геополитической теории Ратцеля.
Хальбвакс считал, что географический подход необходимо дополнить, помимо изучения природной среды, изучением «субстрата», структур (того, что Дюркгейм назвал социальной морфологией) всех верований, обычаев и представлений, которые сформировались в этой природной среде под ее влиянием, но также и с определенной независимостью от нее, что предполагает взаимодействие не только между витальным и социальным, но и между социальным и ментальным[11][12]. Образ жизни Хальбвакс определяет как «набор обычаев, верований, способов бытия, вытекающих из привычных занятий людей и способа их установления»[13]. Понятие образа жизни позволяет внести коррекцию в дюркгеймовское понимание самоубийства: это уже не вопрос изучения социальных фактов в определенной последовательности через их выражение в виде статистических корреляций, мы должны изучать их в особой среде, в которой они вступают в контакт с другими формами общественной жизни, особенно с общением и обменом между людьми. Семейные чувства и религиозные обычаи находятся в согласии с набором обычаев и всей социальной организацией, из которой они частично получают свою силу и от которых невозможно их отделить. Единая семья и интегрирующая религия — это всего лишь два выражения более крупного целого, крестьянский образ жизни, в котором люди регулярно встречаются, двигаясь вокруг одного и того же места, следуя ритму природы, и более разобщенная семья и менее интегрирующая религия, которые являются выражением образа городской жизни, в которой есть больше возможностей для конфликтов, но также встречается и новизна[14].
Таким образом увеличение числа самоубийств является следствием перехода от крестьянского образа жизни к городской жизни, что приводит к глубокому разрушению прежних обычаев и ритмов жизни. Стабилизация этого уровня самоубийств в большинстве промышленно развитых стран является результатом адаптации к той городской жизни, в которой новые формы жизни воспринимаются как повод для новых радостей, а не только страданий. Это явление ускоряется во время экономических кризисов, когда городской образ жизни радикально трансформируется экономическими изменениями и порождает новые конфликты и новые страдания.
В лейбницейской, а не в марксистской перспективе речь идет не о понимании того, как один класс отрицает другой своей производственной деятельностью, но как он усложняет его, устанавливая локальные интервалы, где существует одиночество и страдания. Самоубийство тогда является «случайным» феноменом для измерения влияния перехода от одного образа жизни к другому, от относительных пустот, которые появляются при переходе от одного фокуса умственной деятельности к другому.
Переход от одного образа жизни к другому осуществляется не скачком, но посредством непрерывных переходов, прежний образ жизни продолжает действовать в новом образе жизни; это подобно тому, что Лейбниц называл неосознанными малыми восприятиями. Какой-то образ жизни связан с другими образами жизни, потому что он напоминает об их следах, отложенных в нем, и он включает их в себя подобно лейбницевской монаде, так что достаточно развить эти следы, чтобы мог появиться весь забытый мир.
Таким образом социальная память занимает эти промежутки между этими двумя интервалами социальной жизни в том смысле, что она имеет тенденцию связывать два образа жизни, выражая в одном из них аспекты социальной жизни, которые были более четко выражены в общественной жизни. Это объясняет, почему память всегда реконструируется в соответствии с существующей жизнью и не воспроизводится одинаково, что свидетельствует о живом характере памяти как социальной функции. Таким образом уменьшение власти, составляющее переход от одного образа жизни к другому, может быть компенсировано увеличением памяти.
Следовательно, размышление Мориса Хальбвакса о коллективной памяти является частью более общего анализа социальной и психической каузальности (причинности), т. е. участия индивида в режиме деятельности, находящейся за его пределами. Необходимо понять всю общественную жизнь в движении, во множестве образов жизни, в которых она выражает себя и постоянно отступает от себя, так что-то, что появляется как пустота, можно понять с другой точки зрения как полноту. «Существует коллективная память и социальные рамки памяти, и это зависит от того, как наша индивидуальная мысль помещается в эти рамки и участвует в этой памяти, что она способна запомнить»[15].
Действовать в обществе — это, по сути, помнить, т. е. компенсировать всегда тяжелый разрыв между образами жизни, непрерывностью памяти, к которой человек сопричастен по-своему, что является не только способом бреда, но и выражением своей собственной индивидуальной точки зрения на богатство возможностей социальной жизни.
- [1] Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая системав Австралии / пер. с франц. А. Апполонова и Т. Котельниковой. — М.: Издательскийдом «Дело» РАНХиГС, 2018.
- [2] Halbwachs, М. Les causes du suicide. Paris: PUF, 2002. P. 356.
- [3] Halbwachs, М. Les causes du suicide. P. 426.
- [4] Mucchielli, L. Pour une psychologie collective: l’heritage durkheimien d’Halbwachset sa rivalite avec Blondel durant l’entre-deux guerres // Revue d’Histoire des SciencesHumaines. 1999. Vol. 1. P. 103—141.
- [5] Blondel, Ch. La conscience morbide. Essai de psychopathologie generale. Paris: Alcan, 1914. P. 265.
- [6] Levy-Bruhl, L. Les fonctions mentales dans les societes inferieures. Paris: Alcan, 1910.P. 548—549.
- [7] Keck, F. Causalite mentale et perception de l’invisible. Le concept de participation chezLevy-Bruhl // Revue Philosophique. 2005.Vol. 3. P. 303—322.
- [8] Halbwachs, М. Les causes du suicide. P. 448.
- [9] Halbwachs, M. Op. cit. P. 444.
- [10] Levy-Bruhl, L. La mentalite primitive. Paris: Alcan, 1922. P. 28.
- [11] Halbivachs, М. .Les causes du suicide. P. 14.
- [12] Mucchielli, L. La decouverte du social. Naissance de la sociologie. Paris: La Decouverte, 1998.
- [13] Halbivachs, M. Op. cit. P. 502.
- [14] Halbivachs. M. Op. cit. P. 503.
- [15] Halbwachs, М. Les cadres sociaux de la memoire. Paris: Albin Michel, 1925; 1994. P. VI.