Консервация ритуала в маргинальных субкультурах и ее значимость для искусства xx века
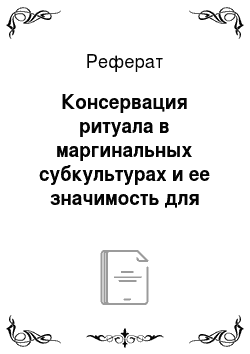
В данном фрагменте обратим внимание на то обстоятельство, что сектантский, точнее, хлыстовский хоровод многократно описанный в русской литературе (в частности, повести М. Горького предшествовали и «Серебряный голубь» А. Белого и «Петр и Алексей» Д. Мережковского, в которых такие хлыстовские корабли описаны), призван приглушить личное и индивидуальное индивида, растворяя его в едином коллективном… Читать ещё >
Консервация ритуала в маргинальных субкультурах и ее значимость для искусства xx века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Перечисленные признаки распада ритуализированных форм поведения означают реальность того, что Э. Дюркгейм называл «социальной аномией», т. е. распадом социума и культурного порядка. Собственно, на рубеже XX—XXI вв. именно такую ситуацию переживают в России. Следовательно, наш интерес к ритуалу продиктован атмосферой, в которой существует сегодняшний россиянин. Не случайно исследователи традиционной культуры подчеркивают, что ритуал актуален и эффективен именно в кризисные периоды, когда нормальное функционирование общества или коллектива оказывается под угрозой134. Может быть, один из самых показательных признаков распада общества или даже надлома целой цивилизации — распространение насилия, охватившего не только межэтнические и межгосударственные отношения, но и внутригосударственные, внутриэтнические и внутригрупповые отношения. Люди постоянно демонстрируют взаимную агрессию, что проявляется в многочисленных разборках, заказных убийствах, в распространении института киллерства, многочисленных ограблениях и т. д. Ставшая в тоталитарном государстве проблемой ценность человеческой жизни в провозглашенном демократическом государстве стала еще меньше. Еще неизвестно, погибло ли больше людей в сталинских концлагерях или в период неудачных и затянувшихся реформ в России. Хотя взрыв преступности и насилия отражает не только отечественная реальность. После взрыва Торгового центра в Нью-Йорке стало очевидно, что насилие в форме терроризма приобретает колоссальные масштабы распространения, ставя на грань жизни и смерти не только отдельные этносы и цивилизации, но и все человечество.
Поскольку современные общества насилие захлестывает, то самое время провозгласить, что эпоха поддерживаемой ритуализированными формами жизни и социальными институтами стабильности закончилась. Мир вступил в ситуацию, когда насилие приобрело беспрецедентные масштабы. Эта ситуация во многом оказывается возможной в результате распада ритуализированных форм поведения и ритуала вообще, а, следовательно, отбрасывает человечество к истокам истории. Собственно, к констатации этого положения дела в современном мире и прежде всего в западном подходит Р. Жирар:
Люди — в ходе эволюции, ведущей их от ритуала к светским институтам, — все дальше отходят от сущностного насилия, даже теряют его из виду, но на самом деле с насилием никогда не порывают. Потому-то насилие всегда способно к возврату — одновременно разоблачительному и катастрофическому; возможность подобного возврата аналогична всему, что религия всегда называла божественным возмездием135.
По сути дела, в связи с эскалацией насилия речь идет о финале целого исторического цикла, охватившего несколько столетий, внутри которого обеспечивалась стабильность и о возвращении к начальной точке этого цикла, т. е. когда социальный космос лишь зарождается, а хаос торжествует. Эта переживаемая сегодня ситуация переходности не может не обращать на себя внимание136. Например, в связи с этим хаосом и переходностью В. Бычков говорит о финале эпохи Культуры и развертывающейся эпохи Пост-культуры137.
Если эпоха Культуры оказалась возможной на основе христианских ценностей, то Пост-культура развертывается на основе радикального с ними разрыва. Конечно, в европейской культуре признаки Пост-культуры появились с эпохи Ренессанса, тем не менее, вплоть до XX в. они не были универсальными, и, несмотря на кризис религии, христианство оказалось базой для развития и функционирования Культуры. В формах модерна и авангарда XX век демонстрирует разрыв с христианскими ценностями. Но если нам известны ценности Культуры, то ценности Пост-культуры проблематичны. В связи с этим исследователь пишет, что Пост-культура — это возникшая в момент глобальной бифуркации среда, в которой «варится» бесчисленное множество возможных структур будущего становления и которая с позиции любой уже ставшей структуры представляется потенциальным хаосом, или полем бесконечных возможностей. Проблематичность Пост-культуры связана с тем, что ее последствия и ее смысл нам неизвестны. По мнению В. Бычкова, не ясно, о чем в данном случае идет речь — или о качественном скачке на принципиально новый уровень развития человечества, сознания, нравственности и, соответственно — на какой-то принципиально новый уровень Культуры, или о глобальной катастрофе, и цивилизации, и человечества в целом, вплоть до самоуничтожения на путях неконтролируемой глубинными нравственными принципами гонки научно-технического экспериментаторства, которое уже сегодня поставило человечество на опасную грань уничтожения138.
Таким образом, ситуация переходности является проблематичной, и соответственно, трудно осознать, какая именно культура функционирует, поскольку в ней оказывается возможной совместимость элементов, органичных для разных эпох и культур. В этой ситуации возникает множество экспериментов, которые показательны как для становления нового социума, так и для развития искусства. Многие из таких экспериментов являются резким отклонением от традиционных ритуализированных форм поведения и кажутся чуждыми культуре в целом. Однако вокруг таких экспериментов складывается специфическая среда, возникают субкультуры. В границах отдельных субкультур культивируются приемлемые лишь для этих субкультур ценности. Собственно, такие ценности можно назвать сакральными, ибо объединяющиеся на их основе индивиды делают их императивами своего поведения, противопоставляя его показательному для секуляризированных эпох поведению остальных людей.
Сакрализация поведения делает группу маргинальной. Однако маргинальный статус такой группы может быть временным. Когда Э. Канетти выделяет такие группы, он пишет, что они нередко служат для возбуждения масс, что позволяет их называть «массовыми кристаллами»139. Для исследователя примером таких групп служат солдаты и монахи. Применительно к эпохе начавшегося с 60-х годов истекшего столетия кризиса тоталитарного государства М. Эпштейн проделал уникальное исследование, пытаясь зафиксировать и описать эмбриональные формы таких групп140. При этом под «новым сектантством» автор понимал не изгоев общества, а различные слои и группы интеллигенции, подчеркивая, что для психологии интеллигенции характерна дробность, неготовность создать единое целостное мировоззрение:
То, что я называю «новым сектантством» — это, по сути, выраженная в религиозных понятиях идеология нашей интеллигенции, точнее, сумма таких идеологий, расходящихся по радиусам во все стороны от «центра» государственной идеологии. Такова наша духовная традиция, идущая от Чаадаева и славянофилов, от Достоевского и Толстого, от мыслителей Серебряного века: религиозность как выражение крайних пределов требовательной, взыскующей мысли. Социальные, национальные, эстетические, философские, даже научные идеи и просто бытовые предпочтения — все они, доведенные до крайности, приобретают форму духовного абсолюта и религиозного вероучения. Вот почему любая российская идеология раньше или позже переходит в теологию, в учение о высшем и окончательном смысле человеческой жизни, а любое общественное движение, если оно не сумело захватить власть, превращается в ересь и секту141.
Ценности таких маргинальных групп потом могут оказаться ассимилированными и будут включены в универсальную культуру. В этом плане показателен, например, опыт религиозных сект, число которых в кризисные эпохи возрастает. Так было на Западе в эпоху кризиса католической церкви, предшествовавшего возникновению протестантизма. Так было на рубеже XIX—XX вв., когда имел место кризис православной церкви и в русской истории вновь создавалась ситуация, аналогичная той, что имела место в России в XVII в., когда возникали многочисленные секты, и ситуация напоминала историю Запада в эпоху Реформации142. Известно, что некоторые из сект, имевших место в это время в России, привлекали большевиков. Не случайно среди создателей после революции коммун как образцов коммунистического жизнестроения были сектанты. Среди деятелей государства, окружавших В. Ленина, были те, которые придавали сектантам большое значение. Сектанты привлекали особенно тем, что отрицали частную собственность. Поэтому можно согласиться с А. Эткиндом, утверждавшим, что в хлыстовских сектах большевики усматривали эмбрионы образа жизни при социализме. Касаясь отношения М. Пришвина к хлыстам, который с помощью хлыстовства пытался понять мистическую сущность марксизма, А. Эткинд пишет:
Большевистский проект столь же радикален, как хлыстовский. Оба они направлены на уничтожение семьи, частной собственности и государства, — и еще истории143.
Вообще, не только сближение социализма с сектантской общиной хлыстов, основывающееся к тому же на интересе большевиков к сектантам, позволяет точнее понять эсхатологическую и хилиастическую сущность большевистской утопии и собственно большевизма. Может быть, социализм следует представить, как институционализацию в государственном масштабе картины мира одной из маргинальных сект с присущим ей эсхатологическим мировосприятием. В данном случае процессом такой институционализации можно иллюстрировать механизм трансформации субкультурной картины мира в универсальную, если, конечно, согласиться с тем, что актуализируемая в России картина мира большевизма, действительно, является универсальной.
Собственно, атмосфера современного общества объясняется преодолением сложившегося в границах тоталитарного государства ритуализированного поведения и возвращением к исходной точке, т. е. к рубежу XIX — XX вв., когда распад ритуала, в том числе, и в его религиозных формах приводил к образованию множества сект, обычно рассматриваемых в границах истории церкви или религиозного инакомыслия. Между тем, для понимания как будущего социального строительства, так и развития искусства секты оказываются весьма значимыми. В своей повести «Жизнь Клима Самгина» М. Горький описывает радение сектантов, которое наблюдает герой. Процитируем это место:
Когда лысый втиснулся в цепь, он как бы покачнул, приподнял от поля людей и придал вращению круга такую быстроту, что отдельные фигуры стали неразличимы, образовалось бесформенное, безрукое тело — на нем, на хребте его подскакивали, качались волосатые головы, слышнее, более гулким стал мягкий топот босых ног, исступленнее вскрикивали женщины, нестройные крики эти становились ритмичнее, покрывали шум стонами144.
В данном фрагменте обратим внимание на то обстоятельство, что сектантский, точнее, хлыстовский хоровод многократно описанный в русской литературе (в частности, повести М. Горького предшествовали и «Серебряный голубь» А. Белого и «Петр и Алексей» Д. Мережковского, в которых такие хлыстовские корабли описаны), призван приглушить личное и индивидуальное индивида, растворяя его в едином коллективном теле, которое, как мы отмечали в предыдущей главе, является выражением зрелищного общения, что в эпоху всеобщего разъединения как признака переходности и кризиса культуры становится особенно притягательным. По сути дела, люди, утратившие традиционную социальность, в таком хлыстовском хороводе стремятся ее возродить в наиболее архаической зрелищной форме. В этом плане, возникая как следствие кризиса религиозного и социального идеала, сектантский ритуал может быть рассмотрен экспериментом, с одной стороны, возвращающим к архаике, а с другой, обещающим новые формы социальности, призванные заменить ее традиционные формы.
Процитируем еще одно место из описания М. Горьким хлыстовского радения, которое позволит понять, почему такие хлыстовские корабли некоторыми представителями русского Серебряного века воспринимались идеальным творческим актом, что нередко приводило к имитации таких сектантских массовых экстазов столичными интеллектуалами, вообще элитой:
Люди судорожно извивались, точно стремясь разорвать цепь своих рук; казалось, что с каждой секундой они кружатся все быстрей и нет предела этой быстроте; они снова исступленно кричали, создавая облачный вихрь, он расширялся и суживался, делая сумрак светлее и темней; отдельные фигуры, взвизгивая и рыча, запрокидывались назад, как бы стремясь упасть на пол вверх лицом, но вихревое вращение круга дергало, выпрямляло их, — тогда они снова включались в серое тело, и казалось, что оно, как смерч вздымается вверх выше и выше. Храп, рев, вой, визг прокалывал и разрезал острый, тонкий крик: — Дхарма — и — и — я…145
Этот процитированный фрагмент показателен для того настроения, что в начале XX в. обращало на себя внимание в среде художественной элиты. Дело в том, что многие поэты Серебряного века подчас использовали возникший в процессе таких радений хлыстовский фольклор, и в этом плане творчество Н. Клюева может служить образцом. Они стремились имитировать атмосферу экстаза, когда соответствующий ритм и эмоциональное напряжение способствовали поэтической рифме и, соответственно, творческому процессу.
В этом случае имитация сектантского радения позволяла вернуть творческий акт в характерную для архаической поэзии ситуацию творчества. В какой-то степени в момент творчества ситуация экстатического состояния художника вообще сохраняет атмосферу архаического состояния. Так, не случайно радикальный реформатор поэтического слова А. Крученых, критически оценивая историю поэзии последних столетий и рассматривая ее как деградацию, утверждал, что подводит черту под этим кризисом лишь футуризм, вводя в этап возрождения слова. Что касается предшественников, то их он находит в среде сектантов146.
Следовательно, интерес к хлыстовским радениям лишь помогает осознать архаический комплекс творчества. Вот и разгадка того, почему исследователи ритуала нередко продолжают сближать ритуал и искусство, что не удивительно, поскольку искусство рождается в недрах архаического ритуала. На эту сторону творческого процесса обращал внимание, например, В. Брюсов, доказывающий, что экстаз является основой поэтического вдохновения:
Экстаз, интуиция, вдохновение дают «странное прозрение», увлекают за рубеж «вседневного удела», освобождают от последних оков, от которых не властен освободить никакой другой владыка: от «рабства природе», от «железной судьбы», от условий нашего обычного познания и бытия147.