Безумие как субъективное отождествление небытия с бытием
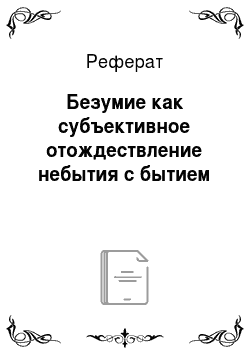
Разумеется, все эти различия в работе воображения, устремленного в прошлое и в будущее, относительны — правдивость воспоминаний сталкивается с аберрациями памяти (свидетельство тому — и наш собственный жизненный опыт, и данные психологической науки, и мемуарная литература), а практическая реализация даже самого надежного проекта корректирует исходный замысел, ибо какие-то моменты оказались в нем… Читать ещё >
Безумие как субъективное отождествление небытия с бытием (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Приведу определение бреда, сформулированное Фрейдом и существенно важное в рассматриваемом здесь отношении: «В „бреде“ мы можем выделить две основные особенности… Во-первых, он относится к той группе болезненных состояний, которым несвойственно непосредственное воздействие на плоть и которые выражаются только посредством психических признаков, а во-вторых, его отличает тот факт, что при нем устанавливается господство „фантазии“, т. е. приобретается убежденность, влияющая на поступки» [100]. По своей структуре бредовые видения подобны сновидениям, они «возникают из одного и того же источника… сновидение — это, так сказать, физиологический бред нормального человека» [101]. Между этими двумя родственными формами метаморфоз бытия и небытия есть промежуточная — галлюцинация, мираж: скажем, видение снизошедшей к истово молящемуся человеку Богоматери, или путешественнику, страдающему в пустыне от зноя и жажды, оазис с пальмами и колодцем. Речь идет, разумеется, не о медицинской, психофизиологической сущности данных явлений, а опять-таки об их культурно-историческом смысле.
Бредовые иллюзии, как и сновидения, не ограничиваются более или менее сильным влиянием на реальное бытие человека, на его индивидуальную жизнь — история человечества показывает, что воздействие небытия на бытие и тут выходит далеко за пределы жизни индивида. У истоков истории это проявилось в шаманизме, поскольку право некоего члена первобытной общины (и ведь не только первобытной — у некоторых народов оно сохранилось и по сию пору, и этнографы изучают его путем наблюдений и бесед с самими шаманами — (см. [102]) на соответствующие действия обусловлено его способностью входить в транс для общения с потусторонними силами. В Средние века визионерство людей, общавшихся с небожителями, воспринималось как нечто вполне реальное, естественное — вера во всяческие чудеса, имманентная истинной религиозности, включала и доверие к тем, кого особое, аномальное состояние психики выделяло в обществе, демонстрируя его причастность к высшим, потусторонним силам; вспомним рассказы о подобных явлениях в Священном писании, узаконивавшие их наличие и придававшие небытию статус бытия.
Отношению рационалистического Просвещения ко всем иррациональным и, тем более, патологическим психическим проявлениям Романтизм противопоставил апологию безумия как такого состояния психики, которое способно вырвать человека из-под власти природы и общества; отсюда интерес к образу великого сервантесовского безумца, унаследованный от романтиков и И. С. Тургеневым, написавшим замечательную статью «Гамлет и Дон Кихот», и Ф. М. Достоевским, создавшим образ современного русского Дон Кихота — князя Мышкина. О культурном контексте оценки такого состояния психики говорит и стихотворение П. Беранже «Безумцы» (перевод В. Курочкина), прославлявшее корифеев утопического социализма:
Господа! Если к правде святой Мир дорогу найти не умеет, — Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой.
Благодаря этой способности создавать прекрасное небытие, противопоставляемое пошлому и бесчеловечному реальному бытию, «безумцы» К. А. Сен-Симон и Ш. Фурье могут оказаться в одном ряду с X. Колумбом и даже с самим Богом.
По безумным блуждая дорогам, Нам безумец открыл Новый Свет; Нам безумец дал Новый Завет — Ибо этот безумец был Богом.
Если б завтра Земли нашей путь Осветить наше солнце забыло — Завтра ж целый бы мир осветила Мысль безумца какого-нибудь.
Не менее характерно и то, что романтик М. Горький, уверовавший в превосходство ленинского «научного социализма» над социализмом утопическим, в пьесе «На дне» вложил первое четверостишье в уста пьяного Актера, компрометируя таким образом само представление о будущем человечества как «сне золотом» (впрочем, это не помешало ему вскоре увидеть в «научном социализме» своеобразную религию). А после победы этого «социализма» в нашей стране подлинно свободное творчество оказалось доступным только действительным или мнимым безумцам — например, Д. Хармсу; государство объявляло сумасшедшими и помещало в психиатрические клиники свободомыслящих интеллигентов… На Западе же XX век в движении сюрреализма развил романтическую апологию безумия, связывая такую форму противопоставления фантасмагорического небытия буржуазному бытию со всеми бунтарскими и революционными движениями — от анархизма до советского коммунизма (см. [103]).
Неудивительно, что бред, как и сновидение, мог использоваться в культуре в метафорическом смысле — приведу один из самых ярких примеров: трагически переживавший происходившее в революционной России и неспособный рационально объяснить это, М. Волошин писал:
Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье? Была ли ты? Есть? Или нет?
Омут… стремнина… головокруженье… Бездна… безумие… бред.
Если медицина оценивает безумие однозначно негативно во все времена, как всякую болезнь, то культурология относилась к нему противоречиво — от признания мифологическим сознанием его высокой ценности и включения в культовые практики до полного неприятия в рационалистически-сциентистско ориентированной европейской культуре XIX—XX столетий (напомню об изменении отношения к патологическому поведению маркиза де Сада или о судьбе П. Я. Чаадаева, объявленного Николаем I сумасшедшим и с известной гордостью принявшего этот «титул» — изложение своих взглядов он назвал «Апологией сумасшедшего», сказав о себе с горькой иронией: я «человек, пораженный безумием по приговору высшей юрисдикции страны» [104]).
XX в. пошел в данном направлении значительно дальше XIX — фрейдизм вообще отказался признать границу между нормальной и патологически деформированной психикой; культурологу очевидно, что такой взгляд порожден определенным типом культуры, в котором обособление эгоцентрического индивида от социума достигает крайних форм. И все же в обществе не исчезает потребность в психиатрической экспертизе, способной объективно определять, необходимо ли лечить данное лицо в психиатрической клинике или он должен нести ответственность за совершенное им преступление. В конечном счете, известные западные культурологи Ж. Делез и Ф. Гаттари имели основания назвать исследование современного общества «Капитализм и шизофрения», ибо, с их точки зрения, сущность современного искусства «шизофренична», и адекватным методом ее изучения должен стать «шизоанализ» [105]; С. Дали и сам определял свое мышление как «параноидальнокритическое» или «критически-параноическое» [106], что, впрочем, не помешало ему в другой раз заявить: «Разница между мной и сумасшедшим состоит в том, что я не сумасшедший!» [107].
Видимо, расстройство психики, губительное для научного познания действительности, не препятствует ее художественно-образному воссозданию — однако лишь в той мере, в какой целью его ставится не познание бытия, а созидание нового, иллюзорного «бытия», т. е. фактического небытия. Такая ориентация искусства столь же одностороння, как и натуралистически-иллюзионистская, но, как и эта последняя, она возможна в художественной культуре, более того, она становится доминирующей в определенных состояниях цивилизации, в которых бытию человека, общества и даже природы противопоставляется ценность небытия в той или иной его форме — от абстракционистской в искусстве до суицидальной в жизни. Такова наша эпоха, и потому главная проблема для нас — поиск путей выхода из данного состояния цивилизации благодаря нахождению иного решения проблемы отношений бытия и небытия.
Память как воссоздание воображением «уже-не-бытия» и проектирование как создание «еще-не-бытия».
В современной психологии нет единого мнения об отношениях памяти и воображения — эмпирический подход к деятельности психики сосредоточивает внимание исследователей на особенностях каждого ее «механизма», тем самым уводя от понимания их взаимосвязи в целостной психической деятельности человека и в жизни культуры; системно-деятельностный подход к данной проблеме, требующий рассмотрения всех инструментов психики в ее целостном функциональном бытии, приводит к заключению, что существует три рода памяти: один расширяет роль нашего чувственного опыта, сохраняя конкретные образы некогда воспринятого зрением, слухом, осязанием, дабы они могли воссоздаваться по мере надобности силою воображения; другой делает то же самое с нашим эмоциональным опытом, функционируя как «память сердца», сохраняющая и воссоздающая переживания человека; третий выполняет аналогичную функцию по отношению к абстрактному мышлению, сохраняя понятия, формулы, концепты, структуры [108], логические формы суждений и доказательств. Общим для всех трех является только сама эта способность консервации содержания сознания, по сути же они существенно различны, так что правомерно рассматривать их вообще не как разновидности одной психической способности, а как подсобные средства основных сил психики — эмоциональной энергии, абстрактного мышления и воображения. И если природа памяти мышления гносеологическая, а природа эмоциональной памяти аксиологическая, то возможности памяти воображения раскрываются в онтологической плоскости. Ибо задача этого рода памяти состоит в том, чтобы представить психике былое бытие, т. е. реальное небытие, как бытие, иначе говоря — «оживить небытие», придавая ему пусть иллюзорный, но все же информационно и эмоционально действующий облик бытия.
В этом отношении память воображения оказывается в целостной структуре психики симметричной другому его механизму, связывающему настоящее не с прошлым, а с будущим: таково проектирование. Родственность данных механизмов психики базируется на том, что добываемая ими в обоих случаях информация отражает представление о конкретном бытии, а не знание абстрактных законов или эмоциональных состояний, происходящие же при этом метаморфозы небытия и бытия различаются тем, что воображение не порывает связей с конкретными формами реальности, не отделяет, в отличие от науки, сущность от явлений, общее от единичного, внутреннее от внешнего — Эйнштейн даже однажды заметил: «Воображение важнее знания, ибо знание ограничено, воображение же охватывает все на свете, стимулирует прогресс…» [109]. «Важнее» — конечно, преувеличение, воображение и мышление равноценны, ибо решают разные задачи (осуществляя своего рода «разделение труда» между основными функциями человеческой психики) и в равной мере ей необходимы, как необходима ей и способность переживания для эмоциональной оценки и познаваемого бытия, и воображаемого небытия. При этом в зависимости от типа культуры и от этапа ее истории «удельный вес», значение, ценность воображения, мышления, эмоциональной активности психики то возрастают, то минимизируются, что становится очевидным при сравнении рационалистической культуры Просвещения, эмотивистской культуры романтизма и отдавшей себя во власть фантазии культуры модернизма, равно как и при сопоставлении культур Запада и Востока, а в онтогенезе — при сравнении разных этапов жизни индивида (этот аспект проблемы будет рассмотрен в следующей главе).
Изменяется и соотношение памяти и проектирования в пределах деятельности воображения, что позволяет говорить об их асимметричности. Дело не только в том, что память имеет дело с прошедшим бытием, т. е. с «уже-не-бытием», а проектирование — с возможным бытием, которое является «еще-не-бытием» и не обязательно станет действительным бытием; существенно и то, что прошлое можно в памяти только сохранить, хотя бы идеально, а его искажение, в той или иной мере неизбежное, происходит вопреки ее усилиям сохранить то, что было, и так, как оно было (исключая, конечно, случаи сознательного искажения прошлого в определенных целях, — прекрасно пошутил на эту тему М. Жванецкий: «Россия — страна с непредсказуемым прошлым»); будущим же оперирует воображение совсем иначе — поскольку оно нам не известно, и мы можем лишь предполагать, что ждет нас впереди, психике необходим целый набор различных «инструментов», способных решать конкретные задачи: таковы моделирование, эскизирование, опережающее отражение, планирование, предвидение, предчувствие, предсказание, предвосхищение, мечта, гадание, пророчество… Эта асимметрия объясняется тем, что над прошлым человек не властен, а будущим он в известной мере может управлять, выбирая тот или иной поступок и способ деятельности из широкого спектра возможностей и интуитивно находя наиболее подходящую психологическую «технологию». Соответственно, действия памяти, проектирования и фантазирования имеют разные критерии оценки: первое — правдивость, второе — осуществимость, третье — оригинальность (правда, нередко фантастические образы спустя известное время оказываются реализуемыми проектами, последние же через какое-то время перестают функционировать, выходят из употребления и становятся «добычей» памяти).
Разумеется, все эти различия в работе воображения, устремленного в прошлое и в будущее, относительны — правдивость воспоминаний сталкивается с аберрациями памяти (свидетельство тому — и наш собственный жизненный опыт, и данные психологической науки [см. например, 110], и мемуарная литература), а практическая реализация даже самого надежного проекта корректирует исходный замысел, ибо какие-то моменты оказались в нем неучтенными или нереализуемыми, но эти уточнения не снимают принципиального различия критериев оценки данных разновидностей воображения. Наконец, и в духовной биографии личности, и в истории культуры «удельные веса» памяти и проектирования меняются: память как психологический фундамент сохранения вырабатываемого человечеством опыта, именуемая традицией — эту последнюю и называют образно «ненаследственной памятью человечества», — являлась психологической основой традиционного типа культуры, а проектирование, напротив, стало таковой в персоналистском типе культуры, «пружина» которого — неуемная страсть новаторства. Понятно, что соотношение этих способностей психики у человека и у животных существенно различно: у животных память развита очень сильно, что лежит в основе условных рефлексов, обеспечивает эффективность дрессуры, приручения зверя, научения его определенным действиям, а моделирование будущего имеет крайне ограниченный, чисто операциональный, условно-рефлекторный характер (например, предвидение получения пищи в результате выполнения определенного действия), у человека же, при всех индивидуальных различиях, поло-возрастных и историко-культурных, «моделирование потребного будущего» становится условием всей его практической деятельности, причем — что очень важно! — не ближайшего будущего, как в рефлекторной памяти животного, а самого отдаленного бытия, и моего собственного, и моих потомков, и человечества в целом. К тому же у животных «модели потребного будущего» передаются генетически, тогда как у человека они формируются в процессе жизни индивида, поколения, сословия, нации, и во многих случаях изменяются индивидуальными и групповыми субъектами по собственной воле — это дало основание психологу говорить об «искусстве памяти» [111].
В данной связи представляет большой интерес сформулированная Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой гипотеза, проверенная ими экспериментально, об обусловленности ориентации человека во времени функциональной асимметрией мозга: правое полушарие, ответственное за зрительное восприятие мира, воспринимает его «в настоящем времени с опорой на прошлое», т. е. абстрагируется от процессуального бытия пространства, а левое не только производит аналитическипознавательные операции и управляет речью, но и «планирует» человеческие действия, т. е. связывает настоящее с будущим, осуществляя функцию «предвосхищения» [112].
Этим и определяется способность человеческого мозга осознавать противоположность порождаемых им различных форм небытия, реальности наличного бытия и использовать их для эффективного управления деятельностью и поведением индивида. Так человек освобождается от безжалостной власти над ним времени — сотворяя силой воображения из бытия настоящего небытие будущего во имя его возвращения в новое бытие настоящего, неизбежный уход которого в небытие прошлого может быть «снят» его идеальным возвращением в настоящее — и т. д., в пределах ограниченной жизни личности, но нескончаемой жизни человечества. Вот почему в современной философии воображение должно занять принадлежащее ему объективно место в системе онтологических категорий — как звено связи между разными уровнями создаваемого людьми предметного бытия; воображение есть сила, творящая небытие не для собственного удовольствия и даже не для его ценностного противопоставления бытию (обе функции у него появляются, но в качестве производных, вторичных), а прежде всего для опосредования перехода от одного уровня бытия к другому, подобно синергетической трактовке хаоса в истории человечества не как абсолютного уничтожения гармонии, самоорганизованности, «порядка», а как смены уровня «порядка». Такая радикальная переоценка воображения должна быть не только теоретической — она способна привести к коренному изменению способов формирования сознания входящих в жизнь поколений в процессах семейного, дошкольного и школьного воспитания, в частности, в переоценке роли искусства в этом процессе, ибо именно оно создает вымышленный, иллюзорный мир образов и потому является главным средством развития творческого воображения.
Хотя понятие «проект» присутствовало в фантастической теории Н. Ф. Федорова и играло весьма существенную роль в онтологии Ж.-П. Сартра, проектирование, как категория теории деятельности, вошло в проблемное поле философской мысли в США, а затем в нашей стране, во второй половине XX в. в связи с бурным развитием дизайнерской деятельности и необходимостью ее теоретического осмысления [см. 113]. В 1974 г. в книге «Человеческая деятельность» я показал, что проектирование — один из четырех видов предметной деятельности, опосредующий преобразование реальности во всех без исключения сферах практики, ибо, в полном соответствии с уже приводившимся рассуждением Маркса об отличии деятельности человека от поведения животного, любое наше действие должно предваряться созданием его идеального прообраза; рассматривая сейчас проектирование с онтологической точки зрения, в нем следует видеть имманентный деятельности человека способ творения небытия из бытия ради его превращения в новое бытие.
Неудивительно, что понятие «идеальный первообраз» сохранилось в философской антропологии, в теории деятельности и в эвристике со времен Платона для обозначения первого этапа творческой деятельности человека. Именно так один из теоретиков проектной деятельности в сфере дизайна В. Ф. Сидоренко говорил об «идеальном образце, с которого „списывается“ предметная форма продуктов ремесла», ссылаясь при этом на соответствующее рассуждение другого классика религиозно-идеалистической философии — Фомы Аквинского, чья логика была идентична логике Платона, лишь скорректирована с позиций христианского единобожия: «Бог есть первичный образец всего» [114]. Современному дизайнеру, инженеру-конструктору, реформатору социальных структур, педагогу, художнику нет необходимости ссылаться на мифические «первичные образцы», поскольку его творческое самосознание говорит ему о происхождении замысла, проекта, модели создаваемого им произведения в его собственном воображении, даже если это осуществила неосознаваемая интуиция или если это произошло во время сна.