Повести Белкина.
Повести Белкина
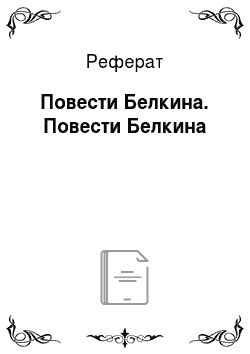
На эту особенность внутреннего устройства повести наводит нас наблюдение Б. Эйхенбаума в цитированной статье 1919 г.: «сами события» именно там останавливаются, где главные события повести только начинаются, и как раз там, где действие принимает интенсивный характер, оно, как оказывается, не идет. Можно возразить на это, что сон гробовщика идет — как сон, что сон это тоже событие; можно вспомнить… Читать ещё >
Повести Белкина. Повести Белкина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Рассчитанные как будто на простое нерасчлененное восприятие, «Повести Белкина» тем не менее побуждают к интерпретациям. И они поистине представляют собой пробный камень литературоведческой и критической интерпретации — который, как сказано, всегда был камнем преткновения. Исследователи стремились за простым текстом прочитать скрытый смысл. В свое время М. Гершензон предложил аналогию между чтением пушкинской повести и разгадыванием загадочной картинки.
" В «Гробовщике» — игра с фабулой при помощи ложного движения: развязка возвращает нас к тому моменту, с которого началась фабула, и уничтожает ее, превращая рассказ в пародию" [1] .
Предлагаемая статья посвящается «Гробовщику», и в ходе разбора повести нам предстоит критически рассмотреть ее понимание Б. Эйхенбаумом. Заметим, что композиционный анализ Б. Эйхенбаума также имеет дело с двумя планами в пушкинских повестях, как и традиционное истолкование, но если для В. Узина, например, эти планы определяются как кора и ядро, как «голая фабула», «внешний покров событий» и «их внутренняя телеологическая связь», то для Б. Эйхенбаума это «простая фабула» и «сложное построение». Так, в линейной, фабульной, но репутации, пушкинской прозе для того и другого исследователя не фабула главное, но некий другой план, и который преобразуется фабула: «смысл жизни» для одного исследователя, «конструкция» — для другого. Таким образом, эти исследования направлены на очень разные и даже прямо противоположные цели; методологически они, по-видимому, отрицают друг друга, и действительно, в свое время эти направления работы взаимно одно другое отрицали. Однако ведь смысл и конструкции противостоят друг другу в произведении лишь идеально; реально они образуют художественное единство. Так, очевидно, и в «Повестях Белкина». Так что композиционные наблюдения Б. Эйхенбаума не столь чужды, как это кажется выяснению смысла белкинских повестей, как раз которого Б. Эйхенбаум за ними не признает; это выглядит парадоксом, но таков был парадокс русского формализма. Занимаясь «Гробовщиком», мы увидим, что в анализе противоречия, в которое здесь вступают фабула повести и ее композиция, и открывается нам иными способами не выявленное значение повести. В то же время отсутствие установки на смысл сказывается на самых композиционных наблюдениях Б. Эйхенбаума; композиция в целом, самый ее рисунок, определена, на наш взгляд, неверно.
Обратимся к «Гробовщику». Эту повесть чаще всего определяют как шутку или пародию. Но, очевидно, она не сводится к шутке или пародии, и они, очевидно, не представляют последней цели всего, что предпринято Пушкиным в этой повести. Это-то, что предпринято, и следует рассмотреть в подробностях. Это значит прежде всего — «прочитать» композицию «Гробовщика» ,.
Главным событием повести является сон гробовщика с приходом мертвецов к нему на новоселье. Это, собственно, то, что в повести «происходит». Но происходит это, как оказывается, во сне, так что в итоге повести как раз ничего не происходит:
" - Ой ли! — сказал обрадованный гробовщик.
- 1. Вестимо так, — отвечала работница.
- 2. Ну коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей" .
Если, таким образом, сходит на нет приключение Адрияна Прохорова, то значит ли это, что сама повесть Пушкина «разрешается в ничто», как о ней заключал Б. Эйхенбаум?
В критике чаще всего в духе сюжетного итога повести формулировался и ее художественный итог.". И все оказывается вздором, маревом, сном, и он мирно садится пить чай" [1]. «Фантастический сюжет в последних строках начисто снимается мотивировкой сном» [2]. «Простейший случай („Гробовщик“), когда все ужасы оказываются сном» [3] .
Однако наше итоговое впечатление по прочтении повести не столь однозначно, не столь «просто». Оно не определяется только эффектом развязки. Как и в других своих «Повестях Белкина», автор «Гробовщика» искушает читателя простой развязкой, в которой вместе с фантастическим приключением как будто демонстративно снимается вся таинственность и значительность рассказанной истории. Но мы говорили уже, что эта «белкинская» интенция, совершенно определенно присутствующая в повестях и внушающая отношение к ним как к «побасенкам», как бы вписана в их структуру вместе с образом простодушного автора Белкина и пушкинского значения повестей не покрывает. В данном случае «простейшая» развязка не покрывает всего предшествующего повествования с кульминационным событием сна. Функция самой развязки оказывается неоднозначной: в одном отношении — как чисто фабульный элемент, как голый конец, развязка все упрощает, но в то же время как композиционный фактор она осложняет картину.
Повесть построена так, что развязка не просто снимает рассказанные события, но она заставляет на них оглянуться и развернуть их в обратном порядке: ведь герою приходится утром (как мы увидим, не без усилия)" возвращаться к реальности, и вместе с ним это делает? повествование: явь от сна отделяется ретроспективно. В утреннем свете развязки события сна обращаются вспять, обнаруживая свою верхнюю границу, свою исходную точку. Тем самым прочитанная нами история ретроспективно членится надвое, и выясняется соотношение двух этих частей истории как яви и сна; событие жизни гробовщика членится на два различных по своей природе события.
На эту особенность внутреннего устройства повести наводит нас наблюдение Б. Эйхенбаума в цитированной статье 1919 г.: «сами события» именно там останавливаются, где главные события повести только начинаются, и как раз там, где действие принимает интенсивный характер, оно, как оказывается, не идет. Можно возразить на это, что сон гробовщика идет — как сон, что сон это тоже событие; можно вспомнить у Пушкина другие сны, многозначащие и важные для действия (сны Татьяны, Отрепьева, Петруши Гринева). Но в сравнении с этими знаменитыми снами сон гробовщика имеет свою интересную специфику; она и отразилась в наблюдении Б. Эйхенбаума. Сон Адрияна Прохорова образует непохожий на них сюжетный рисунок. Этот сон не чета тем вещим пушкинским снам: их значительность утверждается ходом действия, этот низводится в результате как «только сон». Формальное же отличие, от которого и зависит этот эффект, заключается в том, что сон идет необъявленный, оказывается сном. Таков основной факт, определяющий структуру «Гробовщика» .
Классические пушкинские сны всегда объявлены: «И снится чудный сон Татьяне». Манифестируется и самый сон, и «чудный» его характер. «Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое.» Подобным образом вводится даже сон героини в «Метели» :". бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали" .
Адрияну Прохорову тоже снится чудный сон. Но он не вводится подобными словами. Переход из реального действия в сонное не отмечен в рассказе, переход совершенно правдоподобно замаскирован и от читателя скрыт. «На дворе было еще темно, как Адрияна разбудили». Так вводится сновидение. В естественно продолжающемся сюжете к гробовщику приходят покойники (по его приглашению, сделанному еще наяву), как статуя Командора приходит по приглашению Дон Гуана, — и только утром повествование «возвращается к действительности», вместе с самим героем.
Этим как бы попятным ходом, накладывающимся на поступательную динамику сонных событий, и производится тот эффект превращения динамического развития как бы в статическую фигуру, который был зафиксирован Б. Эйхенбаумом как определяющая особенность построения «Гробовщика», его конструктивный принцип. События «останавливаются», т. е. они выключаются из «реального» ряда жизни гробовщика, который связывается в последних строках, минуя и как бы уничтожая сон.
Означает ли это, однако, что динамику кульминационных событий можно определить как «ложное», «кажущееся» движение? У Б. Эйхенбаума эти характеристики методологически последовательны, но наше впечатление от повести с ними не соглашается. Дело в том, что композиционный анализ Б. Эйхенбаума методологически исключал «материал», т. е. самую тему гробовщика и самую фабулу, как таковую, в ее конкретности; рассматривалась чистая схема движения событий, вне того, что собственно «движется» в этих событиях, что снится и что не снится гробовщику. Приведем здесь цитату из книги, посвященной в 20-е годы критике «формального метода»; автор книги пишет об опоязовском понимании материала, согласно которому «материал должен быть абсолютно индифферентен» :
" Если бы смерть, именно как смерть, а не как безразличная сама по себе мотивировка отступления, входила бы в конструкцию произведения, то вся конструкция была бы совершенно иной. Смерть нельзя было бы заменить перестановкой глав. Фабула из безразличной опоры для сюжетного развертывания превратилась бы в самостоятельный и незаместимый элемент художественной конструкции" [1] .
Если бы самая фабула гробовщика, как она существует в пушкинской повести, рассматривалась бы в анализе Б. Эйхенбаума как «незаместимый элемент художественной конструкции», а эта последняя бы рассматривалась как небезразличная к наполняющему ее «материалу» и теме, — то конструкция в целом выглядела бы иначе, нежели как она предстает в итоге у Б. Эйхенбаума. Конечно, анализ этот краток и не включает «подробностей». Однако «подробности» исключаются принципиально из самой конструкции, а поэтому и из анализа.Б. Эйхенбаум замечает, что «все до известия о смерти купчихи Трюхиной и появления мертвецов кажется только приготовлением к повести, только завязкой.». Что же именно здесь «завязывается»? Мы увидим, читая повесть, что завязывается здесь тот самый сюжетный парадокс, который так остро схватил и определил Б. Эйхенбаум, — завязывается в «материале», в «подробностях». И не рассматривая по существу этой «завязки» (а она охватывает более половины текста «Гробовщика»), мы не получим ключа и к «конструкции» .
Итак, линейная фабула оборачивается скрытым параллелизмом построения: такова формула композиции «Гробовщика». Но линейная фабула именно «оборачивается», это — «оказывается» (слово, без которого не может обойтись никто из пишущих о «Гробовщике»), В том-то и дело в этой повести, что «семантический параллелизм» дневного и сонного действия скрыт в поступательном движении фабулы, два плана действия сведены на одну повествовательную плоскость, два ряда образов следуют в линию, в ряд.
Какова же семантика этой композиции? О чем рассказывает повесть, так построенная, если не согласиться, что она «разрешается в ничто»? Заметим, что видимое прямое движение повести возникает из постепенного совмещения и смешения «внешнего» и «внутреннего» плана существования ее героя; повествование словно теряет грань между явью и сном, реальностью и фантастикой, действительностью героя и его сонным сознанием. Читая «Гробовщика», мы видим, как постепенно это сплошное реально-фантастическое действие повести растет из ее «материала», реализует тему существования Адрияна Прохорова; в этом словно теряющем грань сюжете и вскрывается «скрытая семантика» жизни гробовщика, ему самому неведомая. Тот «узел» действия, каким является сон, завязан и постепенно затянут в «завязке» (первая и большая часть повести). Остроумие темы играет контрастами — оксюморонами живого и мертвого и вокруг пушкинского Адрияна с первой же фразы повести. Однако повествователь противопоставляет его классическим литературным могильщикам, выведенным «людьми веселыми и шутливыми» , — прежде всего шекспировскому могильщику, веселость которого обсуждается Гамлетом и Горацио: «Гамлет. Или этот молодец не чувствует, чем он занят, что он поет, роя могилу? Горацио. Привычка превратила это для него в самое простое дело. Гамлет. Так всегда: рука, которая мало трудится, всего чувствительнее». Однако затем, вступив в разговор с этим малым, Гамлет убеждается, что с ним надо «говорить осмотрительно, а не то мы погибнем от двусмысленности», и произносит свою знаменитую фразу о том, что все стали настолько остры, что мужик наступает дворянину на пятки. Принц и могильщик состязаются как равноправные партнеры в философском остроумии, обоснованном у одного из них с интеллектуального «верха», а у другого — с народного «низа». Могильщики у Шекспира и Вальтера Скотта [2] остроумны функционально: остроумие темы непосредственно выражается в том, что они даны людьми веселыми и шутливыми.
Пушкин хорошо знал этот «шекспировский» эффект, развитый в поэтике романтического контраста. Подобный эффект очевиден в «Пире во время чумы», написанном в Болдине после «Гробовщика». В «Гробовщике», однако, Пушкин не просто не пользуется этим эффектом, но открыто и нарочито (эффектно)" снимает" его в экспозиции повести, объясняя читателю своего героя.