Ясность.
Критика и истина
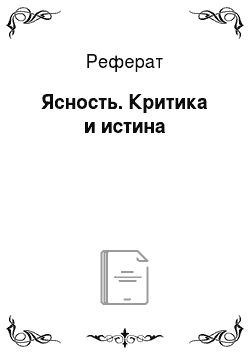
На самом-то деле литературный язык старой критики безразличен для нас. Мы знаем, что эта критика смогла бы писать иначе только в том случае, если бы сумела думать иначе. Ведь писать — уже значит определенным образом организовывать мир, уже значит думать о нем (узнать какой-либо язык — значит узнать, как люди думают на этом языке). Вот почему бесполезно требовать от человека (хотя адепт… Читать ещё >
Ясность. Критика и истина (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
И вот, наконец, последний запрет, налагаемый адептом критического правдоподобия. Как и следовало ожидать, он касается самого языка. Критику запрещают говорить на любом языке, именуемом «жаргоном». Ему предписывают один-единственный язык, именуемый «ясностью» .
Уже давным давно «ясность» во французском обществе воспринимается не просто как свойство словесной коммуникации, не как подвижный атрибут, приложимый к самым различным языкам, но как изолированный тип слова: дело идет об особом, священном языке, родственном французскому и подобном иероглифическим письменам, санскриту или латыни в эпоху средневековья. Этот язык, имя которому «французская ясность», по своему происхождению является языком политическим; он родился тогда, когда правящие классы — подчиняясь известному идеологическому закону — пожелали возвести свое собственное письмо, со всеми его особенностями, в ранг универсального языка, внушив тем самым мысль, будто «логика» французского языка является абсолютной логикой: эту логику принято было называть гением языка: гений французского языка требует, чтобы сначала был назван субъект действия, затем само действие и наконец его объект — в согласии, как тогда говорили, с требованиями «природы». С научных позиций этот миф был разоблачен современной лингвистикой Ваllу С. Linguistique generate et linguistique francaise/4e ed. Berne, 1965 (в русском переводе см.: Б ал ли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955).: французский язык «логичен» не более и не менее, нежели любой другой Не следует смешивать стремление классицизма видеть во французском синтаксисе наилучшее воплощение универсальной логики с глубокими воззрениями Пор-Рояля относительно общих проблем логики и языка (8) […]. .
Хорошо известно, каким именно образом классические институты калечили наш язык. Любопытно, что французы, не устающие гордиться тем, что у них был Расин (человек со словарем в две тысячи слов), никогда не жалеют о том, что у них не было Шекспира. Они и сегодня с комичной пылкостью все еще продолжают сражаться за свой «французский язык» — пишут пророческие хроники, мечут громы и молнии против иностранного засилия, приговаривают к смерти слова, имеющие репутацию нежелательных. В языке все время нужно что-то чистить, скоблить, запрещать, устранять, предохранять, подражая сугубо медицинской манере" старой критики судить языки, которые ей не нравятся (и которые она объявляет «патологическими»).
Нужно сказать, что мы страдаем национальной болезнью, которую можно назвать «комплексом ритуального очищения языка». Предоставим этно-психиатрии определить смысл этой болезни, а со своей стороны заметим, что в таком языковом мальтузианстве есть нечто зловещее. «Язык папуасов, — пишет географ Барон, — крайне беден. У каждого племени есть свой язык, словарный запас которого непрестанно обедняется, потому что всякий раз, когда кто-нибудь умирает, из языка исключается несколько слов — в знак траура» Вaron E. Geographie (Classe de Philosophie). P. 83.
В этом отношении мы далеко превзошли папуасов: мы почтительно бальзамируем язык умерших писателей и отвергаем любые новые слова и смыслы, рождающиеся в мире идей: траурные знаки сопутствуют у нас акту рождения, а не смерти.
Языковые запреты служат оружием в той небольшой войне, которую ведут между собой различные интеллектуальные касты. Старая критика — это одна из таких каст, а проповедуемая ею «французская ясность» — это жаргон, подобный любому другому. Это особый язык, которым пользуется совершенно определенная группа писателей, критиков, журналистов и который в основном подражает даже не языку наших писателей-классиков, но всего-навсего классицизму этих писателей.
Для этого пассеистского жаргона (9) характерны отнюдь не какие-либо конкретные требования, предъявляемые к способам рассуждения, и не аскетический отказ от всякой образности.
Во всем этом нетрудно разглядеть консервативную позицию, состоящую в стремлении ни в коем случае не трогать внутренние перегородки и лексический состав языка. Словно во время золотой лихорадки (где золотом является сам язык), каждой дисциплине (понятие, которое, по сути, тоже является сугубо факультативным) отводится небольшая языковая территория, терминологический золотоносный участок, за пределы которого выходить запрещается (так, философия, например, имеет право на свой собственный жаргон). При этом, однако, территория, предоставленная критике, выглядит весьма странно: будучи совершенно особенной именно в силу того, что употребление посторонних слов на ней запрещено (так, словно критик располагает лишь весьма скудными концептуальными потребностями), она, тем не менее, оказывается возведена в ранг универсального языка. Такая универсальность, на деле являющаяся воплощением всего общепринятого, основана на подтасовке: складываясь из громадного числа различных привычек и запретов, она оказывается всего лишь еще одной особенной формой языка — такая универсальность есть универсальность собственников.
Этот лингвистический нарциссизм можно обнаружить и другим путем: «жаргоном» принято называть язык чужого человека; чужой (а не другой) человек — это тот, кем не являешься ты сам; отсюда и неприятное ощущение от его языка. Как только мы сталкиваемся с языком, отличающимся от языка нашего собственного коллектива, мы сразу же объявляем его бесполезным, пустым, бредовым, утверждаем, что им пользуются не в силу серьезных, а в силу нестоящих или низменных причин (снобизм, зазнайство) […]: «Отчего не сказать то же самое, но только более просто?» Сколько раз мы слышали эту фразу? Но сколько же раз мы будем вправе отвергнуть ее!
Не станем говорить о некоторых откровенно забавных в своей эзотеричности народных говорах; но разве старая критика может быть уверена, будто свободна от всякого празднословия?
Если бы я сам был старым критиком, то разве не вправе я был бы попросить своих собратьев сказать просто: «Г-н Пируэ хорошо пишет по-французски» — вместо того, чтобы изъясняться следующим образом: «Нужно воздать должное г-ну Пируэ, столь часто щекочущему нас своими неожиданными и весьма удачно найденными выражениями»? Разве не вправе я был бы попросить их употребить обыкновенное слово «возмущение» вместо «сердечного пыла, накаляющего перо, которое наносит смертельные раны»? В самом деле, что следует думать о пере, которое то накаляется, то приятно щекочет, а то и служит орудием убийства? Сказать по правде, такой язык может считаться ясным лишь в той мере, в какой на нем принято говорить.
На самом-то деле литературный язык старой критики безразличен для нас. Мы знаем, что эта критика смогла бы писать иначе только в том случае, если бы сумела думать иначе. Ведь писать — уже значит определенным образом организовывать мир, уже значит думать о нем (узнать какой-либо язык — значит узнать, как люди думают на этом языке). Вот почему бесполезно требовать от человека (хотя адепт критического правдоподобия упорно на этом настаивает), чтобы он переписывал свои мысли, коль скоро он не решился их передумать. Вы усматриваете в жаргоне новой критики лишь экстравагантную форму, прикрывающую банальное содержание: конечно, любой язык можно «упростить» путем уничтожения составляющей его системы, иначе говоря, путем уничтожения тех связей, которые и образуют смысл слов: при таком подходе можно все что угодно «перевести» на добротный язык какого-нибудь Кризаля (10): к примеру, отчего бы не свести фрейдовское «сверх-я» к категории «нравственного сознания» классической психологии? Как? И только? Да, и только, если, конечно, исключить все остальное. В литературе не существует такого явления, как rewriting (11), ибо писатель отнюдь не располагает неким до-языком, где он мог бы подбирать для себя подходящие выражения среди известного числа формально признанных кодов (сказанное не значит, будто он избавлен от необходимости неустанно искать такие выражения). Ясность письма действительно существует, но она имеет гораздо большее отношение к тому Мраку Чернильницы, о котором говорил Малларме (12), чем к современным стилизациям под Вольтера или под Низара. Ясность — это не атрибут письма, это само письмо в тот самый момент, когда оно становится письмом, это блаженство письма, это все то желание, которое таится в письме. Разумеется, представление о границах той аудитории, в которой писатель будет принят, — это очень важная для него проблема.
Если ему случается согласиться с узостью этих границ, то причина как раз в том, что писать — отнюдь не значит вступать в легкий контакт с неким гипотетическим средним читателем. Это значит вступать в трудный контакт с нашим собственным языком: по отношению к собственному слову, которое и есть его истина, у писателя гораздо больше обязательств, нежели по отношению к критику из «Насьон франсез» или из «Монд». «Жаргон» — это вовсе не способ покрасоваться перед публикой, как нам тщетно внушают наши недоброжелатели; «жаргон» — это воплощенное воображение (они в равной степени ошеломляют), он родствен языку метафорики, к которому когда-нибудь прибегнет и собственно интеллектуальный дискурс.
Я защищаю здесь право на язык, а вовсе не на свой индивидуальный «жаргон». Да и могу ли я рассуждать о нем как о некоем объекте? Болезненное беспокойство (связанное с ощущением личностной самотождественности) вызывает сама мысль, что ты можешь владеть словом как вещью и что тебе необходимо защищать эту вещь, словно какое-то добро, обладающее независимой от тебя сущностью. Да неужели же я существую до своего языка? И что же в таком случае представляет собой это я, якобы владеющее языком, между тем как на самом деле именно язык вызывает я к бытию? Разве возможно для меня ощутить свой язык как обыкновенный атрибут собственной личности? Можно ли поверить, что я говорю потому, что я существую? Подобные иллюзии, на худой конец, возможны за пределами литературы; однако литература-то как раз и не допускает их. Запрет, налагаемый вами на все чужие языки, — это всего лишь способ самим себя исключить из литературы: отныне более невозможно, не должно быть возможно, как это было во времена Сен-Марка Жирардена Который предостерегал молодежь против «моральных иллюзий и путаницы», повсюду распространяемых «современными книгами» ., служить надсмотрщиком над искусством и вместе с тем претендовать на то, чтобы сказать о нем нечто.