Ф.М. Достоевский в критике Серебряного века
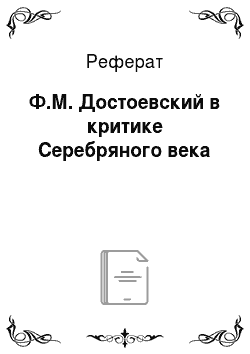
М. М. Бахтин пишет: «…Мы считаем Достоевского одним из величайших новаторов в области художественной формы. Он создал совершенно новый тип художественного мышления, который мы условно называем полифоническим… Можно даже сказать, что Достоевский создал как бы новую художественную модель мира, в которой многие из основных моментов старой художественной формы подвергались коренному преобразованию… Читать ещё >
Ф.М. Достоевский в критике Серебряного века (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В годы Серебряного века о Ф. М. Достоевском пишут, читают лекции, рассуждают, и все то, что десять лет назад народнической критике казалось его провалами, теперь обретает иное значение. В это время создается особая, философская критика, отметающая как примитивно социологические, так и собственно литературоведческие вопросы. Писатель впервые встает во весь рост как философ, а не просто бытописатель или даже реалист русской классической литературы. Критика начала века пытается осознать философскую концепцию Ф. М. Достоевского, и философы и критики самых разных направлений в эти годы пишут о нем, каждый отыскивает в его наследии основополагающие положения для обоснования своих воззрений. В. Розанов выявляет одну интересную особенность Ф. М. Достоевского — преломление его «публицистических» вещей в вечность, в «цельную всемирную историю», стремление его Слова «возвести к глубочайшему смыслу истории свой преходящий момент — вот что составляло его задачу и что сказать о нем — значит действительно определить его значение. Печать его эпохи, встревоженной, мятущейся, лежит на его взволнованных трудах, к счастью, однако, он уберегся от обычных путей своего времени даже еще в ученические годы — и в своем мощном воображении, гениальном уме и сердце, на тех уединенных путях, которыми проходил жизнь, несколько переиначив действительность, возвел ее к вечному смыслу…» (Розанов В. О Достоевском // Полное собр. соч. Ф. М. Достоевского. СПб, 1894).
В эти годы ближе к собственно литературному анализу творчества писателя подходит Д. Мережковский, рассматривающий Ф. М. Достоевского прежде всего в контексте литературы его времени. Он тоже отмечает особую, только ему присущую сложность, уходящую гораздо глубже, чем полагали его оппоненты народнического толка: «Может быть, именно для тех, кому Достоевский кажется жестоким и только „жестоким талантом“ , — самые главные жестокости его, самые смертельные жала и яды останутся навеки безвредными». И все же «столбовая» дорога нового познания Ф. М. Достоевского в Серебряном веке проходила именно через его философскую и богословскую концепции. С. Булгаков отмечает именно эту сторону его творчества: «В лице Достоевского мы имеем не только бесспорно гениального художника, великого гуманиста и народолюбца, но и выдающийся философский талант. Из всех наших писателей почетное звание художника-философа принадлежит по праву Достоевскому, даже Толстой, поставленный рядом с ним, в этом отношении теряет в своих колоссальных размерах…» (Булгаков С. Иван Карамазов в романе Достоевского «Братья Карамазовы» как философский тип. М., 1902).
Л. Шестов пытается понять не просто философа или церковного идеолога, а писателя-философа. Споря со старыми представлениями об учительной роли литературы, он высказывает глубочайшую истину, которую раньше заклеймили бы как истину презренного «чистого искусства»: люди, привыкшие к «простому» реализму ХIX столетия, «в его измученном тревожными думами лице… хотят видеть признаки безумия, чтобы приобрести право отречься от него… И с раздражением, смешанным с плохо скрываемою тревогой, они повторяют старый вопрос: да кто же, наконец, все эти Достоевские и Ницше, что говорят как власть имеющие? И чему они нас учат? Но они ничему нас не учат. Нет большего заблуждения, чем распространенное в русской публике мнение, что писатель существует для читателя. Наоборот — читатель существует для писателя. Достоевский и Ницше говорят не затем, чтобы распространить среди людей свои убеждения и просветить ближних. Они сами ищут света…» (Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии). СПб., 1903).
В более традиционном ключе пишет о нем И. Анненский: «Над Достоевским тяготела одна власть. Он был поэтом нашей совести… Достоевский реалист. Все, что он пишет, не только принадлежит действительности, но страшно обыденно. Совесть, видите ли, не любит тешить себя арабскими сказками… Достоевского упрекают в сгущении красок, в плеоназмах и нагромождениях — но пусть каждый проверит себя в минуты насторожившейся или властно упрекающей совести — и он ответит на это обвинение сам» (Анненский И. Достоевский. Казань, 1905). А. Белый характеризует Ф. М. Достоевского как «политиканствующего мистика», которому недоступен пресловутый «голос музыки», а через несколько лет он скажет о нем как о воплощении трагедии любого творчества: «Достоевский, как и Гоголь, как и Толстой, есть воплощенное осознание корней самого творчества, более того: крушение творчества. Достоевский, Гоголь, Толстой — предвестия того, что трагедия русского творчества есть начало конца самой нашей благополучной жизни» (Белый А. Трагедия творчества: Достоевский и Толстой. М.: Мусагет, 1911). Для А. Блока Ф. М. Достоевский прежде всего воплощение предвидений, ему в высшей степени открыта Музыка революции, которая в те годы и составляет для обостренного слуха поэта Дух музыки — в противовес утверждению А. Белого, что «у Достоевского не было слуха». Более серьезно подходят к пониманию Ф. М. Достоевского теоретики русского культурного ренессанса начала XX века — В. Иванов и Н. Бердяев. Последний, «гениальный описатель Серебряного века», по словам А. Ахматовой, в своих многочисленных работах о Ф. М. Достоевском вскрывает многие сущностные грани его творчества. Он говорит о Ф. М. Достоевском как о писателе-первопроходце человеческих миров, уподобляемых им вселенным — так никто еще не воспринимал Ф. М. Достоевского, но отныне именно такой взгляд на него будет лежать в основе лучших исследований: «Сложная фабула его романов есть раскрытие человека в разных аспектах, с разных сторон. Он открывает и изображает вечные стихии человеческого духа. В глубине человеческой природы он раскрывает Бога и Диавола и бесконечные миры, но всегда раскрывает через человека и из какого-то исступленного интереса к человеку…» .
Отталкиваясь от традиционных представлений о Ф. М. Достоевском, Н. Бердяев создает в своих работах совершенно новый образ писателя — не просто психолога и реалиста, но докапывается действительно до образа «реалиста в высшем смысле слова», отвечающего новому представлению о сложности жизни и литературного произведения. В своих работах Н. Бердяев всегда конкретен, доказателен, основателен, он не витает в облаках преувеличений и эффектных фраз, но выкапывает ту самую подпочвенную сущность писателя, которая упорно не давалась критикам до Серебряного века. В. Иванов, наоборот, в присущем ему стиле пишет о Ф. М. Достоевском, поднимая его до глубин мифической древности, тем самым, сообщая ему и его идеям панорамность самого величайшего масштаба. «…Все мы — одна система вселенского кровообращении, питающая единое всечеловеческое сердце» , — говорит он. Эти идеи сами по себе весьма близки идеям русской всечеловечности и всемирности, к которым пришел на закате своей жизни Ф. М. Достоевский. Для В. Иванова он становится одним из наиболее выразительных русских писателей, причастных к мировому духу, а масштаб этой величины позволил ему писать о Ф. М. Достоевском и о той роли, которую он сыграл в становлении новой русской культуры, в самом высоком смысле: «Достоевский зажег на краю горизонта самые отдаленные маяки, почти невероятные по силе неземного блеска, кажущиеся уже не маяками земли, а звездами неба… каждому взгляду поманившего нас водоворота, позвавшей нас бездны он отзывается пением головокружительных флейт глубины…». Таким образом, критика начала века как бы творит нового Ф. М. Достоевского — демона «слепого и могучего, пребывающего под страхом вечной пытки», по слову А. Блока. Писатель словно вырос внезапно вместе с интеллектуальным уровнем своих читателей, выпрямился во весь рост, открыл те бездны в своем, таком, казалось раньше, понятном творчестве. Знакомые интонации, пикантные еще и тем, что в них оказалось заключено пророчество, некстати услышанное «бесами» … Столь же прямолинейна и проста в своих установках и критика марксистского толка 1910;х годов. Так, в 1912 году В. Переверзев пишет статью, чем-то напоминающую будущие плакаты 20-х годов с мускулистыми рабочими, держащими на себе земной шар: «…С проникновенным чувством рисует Достоевский все перипетии скорбного существования «бедных людей» … Он сам переживает все их страдания, волнуется их волнениями, думает их думами… болит душой за своих погибших и погибающих… Итак, что же — «положение этих людей совсем безвыходно»? Неужели нет в поле «живого человека»? Неужели нет силы, способной подняться над сферой борьбы всех против всех… положить конец беспощадной давке людей? Гораздо страстней и категоричней, но и бескомпромиссней М. Горький. Во многом воспитанный на воззрениях народников, он повторяет мысль о «жестоком таланте». Добавляя еще и собственные эмоции: «Достоевский — сам великий мучитель и человек больной совести — любил писать именно эту темную, спутанную, противную душу…» .Все оказывается поразительно просто в этой критике и разительно возвращает нас в лоно спасительного народничества. И хотя в будущем победившие марксисты будут гнать и отзываться свысока о народнической доктрине, все же истоки их собственного мировоззрения коренятся в культурной установке более образованных, более интеллигентных народников со всеми их свойствами: плоскостью мышления, утилитаризмом, диктаторским догматизмом. Как выяснилось чуть позже, именно за ними было большое будущее, а вовсе не за сложными, рафинированными рассуждениями русской интеллигенции. С поэтическим пафосом и самозабвением пишет о Ф. М. Достоевском К. Бальмонт: «…Много раз растоптанный Судьбой и узнавший, что на остриях боли так же играет радуга, как она, играя стоит на горних высях свершившейся грозы, он, говоривший и с Богом и с Дьяволом в полной мере человеческого голоса, воистину питался душами… Он не страшился быть там, где страшно». Велеречиво, красиво, отвлеченно и несколько туманно — совсем как и полагается писать и говорить символистам.
Более конструктивно мыслит П. Струве: «Достоевский громадное религиозное явление, как бы учитель веры и отец церкви в оболочке великого светского писателя… Как таковой, он гораздо больше и сложнее, а потому и труднее для понимания, чем великие пророки и учителя веры прежних времен… Он был националистом во имя Бога, ибо в национальном призвании России он видел подлинный зов Божий…» .
М.М. Бахтин пишет: «…Мы считаем Достоевского одним из величайших новаторов в области художественной формы. Он создал совершенно новый тип художественного мышления, который мы условно называем полифоническим… Можно даже сказать, что Достоевский создал как бы новую художественную модель мира, в которой многие из основных моментов старой художественной формы подвергались коренному преобразованию». литературный писатель публицист Рядом же существовало и более традиционное, но от этого ничуть не проигрывающее литературоведение. Так, В. Виноградов в книге «Эволюция русского натурализма» пишет о «необычайной, тонкой архитектонике писем, извилистой сложности и законченности стилистическо-композиционного рисунка», которая отличает такое «классическое» произведение молодого Ф. М. Достоевского, как «Бедные люди», с которым, казалось бы, критике и читателям все уже давно стало ясно. Однако ученый отмечает, что это произведение на самом деле «разрушает как канон сентиментализма, так и шаблоны натурализма», выпадая из «исторической условности своей тематики» и поднимаясь над «ограниченностью тех смыслов, которые вложили в него его современники» .