Очерк седьмой МЕНТАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ КУЛЬТУРЫ В КОМПАРАТИВНО-РИТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (ЖОАШЕН ДЮ БЕЛЛЕ И БУЛАТ ОКУДЖАВА)
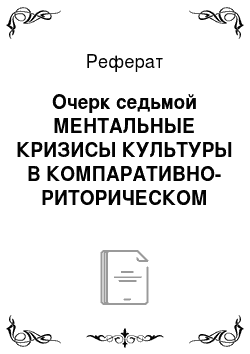
В 3-м сонете из цикла «Древности Рима» развернут грандиозный образ разрушающейся каменной гробницы некогда властительного Рима, предписывавшего миру свои законы, — на берегу не остановимого Тибра, оказывающего сопротивление времени не крепостью, а самовольной устремленностью к безбрежности моря. Однако данный поэтический текст разворачивается отнюдь не в эмблематику, с ее готовыми смыслами… Читать ещё >
Очерк седьмой МЕНТАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ КУЛЬТУРЫ В КОМПАРАТИВНО-РИТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (ЖОАШЕН ДЮ БЕЛЛЕ И БУЛАТ ОКУДЖАВА) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Говорят, что между двумя противоположными мнениями находится истина. Ни в коем случае!
Между ними лежит проблема.
Гёте.
Эпоха барокко
Эпоха барокко, как уже говорилось в начальном очерке, представляет собой своего рода классическую кризисную эпоху утраты одним менталитетом (нормативно-ролевым) доминантного положения в культуре и резкого роста значимости иного менталитета (дивергентного Я-сознания).
В «длинном» XVI столетии, растянувшемся и на век XVII, ментально развитый западноевропейский человек, по рассуждению А. В. Михайлова, «принужден играть некоторую роль, к которой его „я“, как это очевидно для него самого, не сводится», чем создается «проблема „самого себя“, своей самотождественности»[1]. В усложняющемся социуме роли нередко меняются или умножаются, и «всякая роль настаивает на своем, оставляя этому „я“ последний уголок для обдумывания своей судьбы. „Я“ завоевывает здесь себя»[2]. Самоощущение такого человека раздваивается: оно «складывается из требований роли и его же рефлексий по поводу таковой»[2] в ситуации многоролевого функционирования.
Без обращения к научному аппарату компаративной риторики всякие рассуждения подобного рода — при всей их убедительности — остаются беспочвенными: кто может знать самоощущение другого человека, да к тому же жившего четыре-пять веков тому назад? Судить об этом можно только на основании текстов, оставленных таким человеком, выявляя коммуникативные стратегии их порождения и функционирования в историческом контексте интересующей нас эпохи. В частности, кризисное раздвоение «барочного» креативного субъекта приводит к отступлениям от доминировавших на протяжении веков регламентарных форм авторского поведения.
За примером обратимся к творчеству Жоашена Дю Белле (1522— 1560), который создавал свои поэтические тексты в рамках жесткой жанровой формы сонета, и не нарушал предписаний сонетного канона. Однако его место уникально в поэтической культуре своего времени, где, словами С. Н. Бройтмана, нормативно личное авторство — «это не феномен „я“, а эйдос „я“»[4]. Таким «правильным» автором в стихах Дю Белле предстает его современник Ронсар, тогда как собственное авторство мыслится им как индивидуальное уклонение от нормы: «Я шел необщею дорогой Аполлона».
Являя внепарадигмальную оригинальность, Дю Белле открывает для себя, что жесткая внешняя форма сонета (поэт прибегает к образу затвердевшей кожуры апельсина, охраняющей его сочную мякоть) оставляет свободное внутреннее пространство для парадоксального существования уединенного «я»: «Усладу нахожу в переносимых муках», «Мне тьма светла, а свет мне темен» и т. п. (перевод В. Левика; в тех случаях, когда фамилия переводчика не указана, цитата приводится в моей собственной передаче. —В. Г.).
Каноническая форма сонета служила автору своего рода литературным «париком» (знаменательное изобретение XVI века), тогда как по своему содержанию высказывания этого поэта явно тяготели к иной, еще не сформировавшейся дискурсной формации, поскольку их риторический этос был этосом отнюдь не легитимности, но — самодостаточности:
Лишь тот король, кому не могут повелеть.
Другие короли, кого и как воспеть.
Культ мастерства, составляющий одну из ведущих тем французского поэта, для литературы второй дискурсной формации привычен и даже тривиален. Он всегда был сопряжен с нормативной метастратегией монологического согласия (дискурсом власти). Ранним сонетам Дю Белле «дорийского» периода также свойственна героика поэтического служения. Однако в римских циклах поэтическое мастерство знаменует уже не власть поэта над умами и чувствами слушателей и не служение Власти, а его собственный «свободный Дух». Теперь мастерство наделяет Мастера властью только над самим собой и над собственным высказыванием.
Это отвечает отсутствующей в художественном опыте современников Дю Белле стратегии самоактуализации, органичной лишь для акратической коммуникативной метаситуации. За формулой «поэзия сама себе награда» (пер. В. Левика) скрывается установка индивидуальной мотивации — интенция желания, а не долженствования. Внеимперативное властвование собой, а не другими приносит поэту «светлое имя», неподвластное смерти. Тогда как ценности Власти (уподобляемые школярскому педантству в 66-м сонете книги «Сожалений») — призрачны. Ведь того, кто, властвуя людьми, принадлежит энкратическому социальному пространству, «погребут под тем же камнем: / Тебя и имя темное твое» (пер. Э. Шапиро).
Лирический герой Дю Белле — одинокое «я», поневоле участвующее в «париковом» маскараде Власти:
Я не люблю двора, но в Риме я придворный.
Свободу я люблю, но должен быть рабом.
Не лицемер, учу язык похвал притворный;
Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все кругом.
Я болен, но всегда в карете иль верхом.
В мечтах я музы жрец, на деле эконом.
Ну, можно ли, Морелъ, несчастней быть на свете!
(пер. В. Левика) Дословный перевод последних двух стихов несколько отличается от слишком стандартного завершения у Левика: «Я рожден для Музы, меня вынуждают экономить. / Не являюсь ли я, Морель, самым жалким из всех?» Здесь важно и то, что лирический субъект не просто «мечтает» о творчестве, но по внутренней природе своей является творцом; и то, что в метафорическом прочтении творить означает расточать (дары «свободного Духа»), а не «экономить»; и то, что к недолжным формам присутствия во внешнем бытии его принуждает некая безличная сила («on me fait») течения жизни. Особо существен исчезнувший в переводе акцент на своем единственном и исключительном («из всех»), хотя и «жалком» эго, а не на типовой ситуации неудачника: уничижительное «chetif» означает не столько «несчастный» (эвиденциально-эмблематический смысл), сколько «хилый, тщедушный» (имагинативное значение). Это словечко повторно на протяжении финального терцета отсылает к болезненному физическому состоянию реально-биографического автора, демонстративно осуществляя тем самым самоактуализацию коммуникативного субъекта.
Поэтическая культура нормативно-риторической дискурсной формации предполагала отнюдь не персональный, а жестко регламентированный жанровый образ автора. Позицией индивидуального «я-длясебя» в поэтическом дискурсе впервые начинают овладевать писатели предромантической поры, культивирующие «поэтику художественной модальности»[5]. В данном же случае Дю Белле запечатлевает для нас самый момент раскола, раздвоения креативной позиции поэта, ее кризисно промежуточное функционирование в культуре.
Как отмечал В. Н. Топоров, «регенерация жанровой памяти» в сонетах Дю Белле «драматизируется введением авторского я […] отсылающего к осознающему себя личностному началу»[6]. Это начало обретает себя отнюдь не в рамках императивного миропорядка, проникнутого долженствованием. Оно вписывается в окказиональную, по сути своей авантюрную картину мировой жизни:
Живи, используй жизнь! Она столь дорога,
Что даже сам король в ней только арендатор.
В 3-м сонете из цикла «Древности Рима» развернут грандиозный образ разрушающейся каменной гробницы некогда властительного Рима, предписывавшего миру свои законы, — на берегу не остановимого Тибра, оказывающего сопротивление времени не крепостью, а самовольной устремленностью к безбрежности моря. Однако данный поэтический текст разворачивается отнюдь не в эмблематику, с ее готовыми смыслами, но являет собой раннюю форму имагинативной детализации, время которой наступит лишь в XIX веке (вследствие расцвета иконической культуры художественного письма). Эвиденциальное тождество интеллигибельности и визуальности эмблематического образа «вечного города» разлагается оригинальной детализацией и преображает когнитивную модальность текста, вытесняя регулятивную установку чтения — деструктивной, предполагающей сотворческую рецепцию.
Жесткая форма сонета, на первый взгляд, должна была бы сигнализировать о креативной позиции регламентарного самоограничения. Однако, как говорит Дю Белле, «нет мысли пламенней, чем та, что взаперти» (пер. В. Левика). Не отступая от жанрового канона, поэт, тем не менее, достигает авторской автономии в его пределах средствами иронии, которую он именует «сардоническим смехом»: «Je ry, comme on dit, d’un riz sardonien». Это очень ранний, по сути дела зарождающийся, феномен трагической иронии уединяющегося в себе, дивергентного сознания, разобщенного с миропорядком. Ментальная природа такой иронии столетия спустя будет проанализирована Сёреном Киркегором[7].
Знаменательной аналогией трагической иронии Дю Белле в пределах «параллельного исторического ряда» (Веселовский) восточной поэзии может служить рубайят Омара Хайяма. Тогда как шутливому стихотворству предшественника по национальной традиции Франсуа Вийона присуща совсем иная ментальность. Если поэтические жалобы Вийона ощутимо сохраняли генетическую связь с площадной карнавальностью, были скрытыми, а часто и открытыми веселыми насмешками, сочащимися юмором, то ирония «Сожалений» Дю Белле — это уже не карнавал жизнелюбия, а маскарад скорби. В 77-м сонете этой книги поэт предлагает воспринимать его «сардонические смешки» как «ряженые стенания». Именно здесь пролегает грань между лирическим героем и его автором: герой — стенает, автор — облекает эти стенания не только в чеканную форму сонета, но и в сардоническую маску смеха. Этим смехом самоактуализации Мастер оберегает человечность обособленного «я» от бесчеловечности миропорядка.
«Баллада примет» Вийона с ее рефреном «Я знаю все, но только не себя» утверждала позитивно-смеховое отношение к жизни в ее неисчислимом многообразии. Личность насмешливо, но благожелательно приемлет мир. Такое «я» по сути своей еще почти «анонимно», оно не вполне выделилось из карнавального Мы-сознания. В знаменитых словах тюремного четверостишия: «Я Франсуа, чему не рад, / Увы, ждет смерть злодея», — лирическое «я» легко и весело отделяет себя от своего имени и своего злодейства, не дорожа первым и не раскаиваясь во втором, но оставаясь в карнавальном единении с окружающим миром, не исключая и площадного действа собственной предполагаемой казни.
Ирония Дю Белле диаметрально противоположна. Вместо смехового приятия мира — смеховой бунт против его упорядоченности, которая отнюдь не мыслится непреложной. В 9-м сонете «Древностей Рима» поэт обличает «жестокие звезды», «бесчеловечных богов», «завистливое небо», «мачеху-Природу», ставя им в вину непереносимость для смертного руководимого ими бытия. В пуанте же сонета формулируется искупительная для страдающего «я» сардоническая радость по поводу того, что и само «это великое Всё рано или поздно должно погибнуть».
Ироническая позиция поэта, не разрушая нормативной сонетной формы, приводит к реализации принципиально новой для своего времени провокативной стратегии общения — стратегии девиантной самоактуализации уединенного сознания с его установкой на диалогическое разногласие с другими:
Ты жаждешь нравиться? — храни тебя Всевышний
За столь бесславное приняться ремесло.
(пер. Р. Дубровкина) Метастратегия диалогического разногласия в историческом окружении риторической практики монологического «готового» слова явилась несомненным симптомом кризиса нормативной ментальности. Это стратегия внеролевого самоутверждения: «Не титулован я и в сан не возведен […] Зато мой ранг — он мой».
Инновационность поэтического письма Дю Белле по своей коммуникативной природе аналогична целому ряду художественных явлений «длинного» XVI века.
Поистине провокативными в своей девиантности предстают многие произведения изобразительного искусства кризисной эпохи: подчеркнуто субъективное вйдение итальянских маньеристов с его диспропорциональными, нарочито изломанными фигурами, как в «Мадонне с длинной шеей» Пармиджанино или в его же автопортрете в выпуклом зеркале; экстатическая акцентуация плоти у Рубенса; динамическая скульптура барокко, побуждающая зрителя не к статичному созерцанию («Давид» Микеланджело), а к судорожному внутреннему порыву («Давид» Бернини).
Девиантны в своей эклектике и архитектурные ансамбли барокко — индивидуальные целостности, порожденные не следованием «правилу», но изобретательной контаминацией разнородных стилевых нормативов. На фоне регламентарной ренессансной гармонии вычурность, гипертрофированная орнаментальность, скульптурное оформление архитектурных поверхностей, повышенная контрастность, установка на неожиданный эффект — всё это прихоти субъективного «я», не желающего более мерить себя общей меркой и шествующего «необщею дорогой Аполлона», уподобляя свои творения крупной жемчужине неправильной, но оригинальной формы (первоначальное значение слова «барокко»).
В области музыкальной культуры эпоха барокко ознаменовалась рождением оперы, принесшей гомофонную монодию — преобладание одноголосой мелодии над хоровой полифонией. Если последняя была лишь умножением одного и того же музыкального рисунка на разной высоте (в научном языке Бахтина термин «полифония» приобрел принципиально иное значение), то оперная ария в момент своего возникновения явилась манифестацией человеческой индивидуальности в ее противопоставленности хору как голосу энкратического социума.
При этом, как разъясняет П. Г. Ланг, «музыканты эпохи барокко […] считали свободное владение импровизируемым орнаментом главным художественным достоинством […] Каждый музыкант оркестра должен был уметь в нужный момент изобрести свободный контрапунктический голос на основе данного фигурированного баса»[8]. Однако с приходом эстетической «контрреформации» классицизма импровизационная индивидуальность исполнителя надолго утрачивает свою востребованность.
Лирика Дю Белле в историческом контексте своего времени звучит именно таким «свободным контрапунктическим голосом» внутренне независимого субъекта, влачащего свое внешнее существование «в тусклом мире, где все и гладко и законно» (пер. В. Левика). Поэт уподоблял собственное творчество песне каторжника, клянущего судьбу и слагающего хвалу свободе. И действительно, по своей коммуникативной стратегии творчество этого поэта — пока еще несмелый и сдержанный, но вполне акратический дискурс поэтической свободы в культурной ситуации доминирования регламентарного авторского поведения в энкратических социальных обстоятельствах. Феномен ментального кризиса культуры в том именно и заключается, что духовная жизнь эпохи более не укладывается в единую дискурсную формацию: возникает описанное синергетикой «ветвление» альтернативных перспектив дальнейшего культурно-исторического процесса.
Знаменательным кризисным аналогом поэтической иронии Дю Белле явился философский скептицизм его современника и соотечественника Монтеня. Знаменитое монтеневское Que sais-je? («Что я знаю?») представляется показательным примером провокативного высказывания. Этот вопрос у Монтеня выступает актом самоактуализации, совершаемым не в модальности знания, а в модальности мнения (философствовать для него означало — сомневаться) и ориентированным на свободную реакцию воспринимающего, призванного задать себе аналогичный вопрос. Можно отметить провокативность и знаменитой картезианской формулы Cogito ergo sum, отсылающей каждого к его собственному бытию и мышлению, опирающейся на этос самодостаточности: в рамках этой максимы интенция легитимности начисто отсутствует.
Особого внимания заслуживает изобретение Андреа Альчиато — «Книга эмблем» 1531 года — столь популярный в барочную эпоху жанр, предлагавший индивидуально авторские контаминации вербального и визуального семиотических рядов. За этим феноменом «бимедиальности» скрывается «культурное содержание эпохи», характеризуемое И. А. Черновым как «транспонирование рационального, умопостигаемого в визуально-чувственное, ощутимое, вещное»[9], иначе говоря, нормативного — в индивидуально воспринимаемое, эмблематического — в иконическое, эвиденциального смысла — в имагинативное значение.
На первый взгляд, многочисленные книги эмблем могут казаться простым и наглядным воплощением доминантной роли эмблематической дискурсивное™ в текстообразовании нормативно-риторической формации. Однако, на самом деле, это продукт не только «напряженной кульминации» (А. В. Михайлов), но одновременно и кризиса такой дискурсивное™. Эмблематический семиозис предполагает умножение значений единого смысла, тогда как книга эмблем, напротив, в известной степени свертывала возможную область значений к единичному авторскому представлению, закрепляемому графически. Происходило раздвоение нормативной эвиденциальности готового смысла на вербальную интеллигибельность и визуальную имагинативность. Данное раздвоение сигнализировало о нарастающей недостаточности эмблематической дискурсии для вызревающих в культуре субъектов Я-сознания и открывало путь иконичности (внеконвенциональной изобразительности) как семиотическому механизму самоактуализации. Кризисное «изменение структуры семиозиса» в барочную эпоху И. А. Чернов трактует как «характеризующееся плюрализацией […] отношения к знаку […] заменой конвенционального знака как основного в семиотическом репертуаре предшествующего типа культуры иконическим, или, говоря более осторожно, его деконвенциализацией, переходом к его индивидуализированному (в отличие от универсального) употреблению»[10].
Указанная перспектива подтверждается высказыванием одного из завершителей традиции эмблемотворчества — Богуслава Бальбина: «Нет такой вещи под Солнцем, которая не могла бы дать материал для эмблемы»[11]. Инициативное вкладывание смысла в любую «вещь», читаемую как потенциальный знак, — это уже стратегия иконической дискурсивности. Данная стратегия находит свое отражение в отходе барочных поэтик от аристотелевской ортодоксии; в связывании поэтического слова с вещью, а не с понятием (Скалигер); в провозглашении удивления высшим ценностным свойством поэзии (Патриции) и т. п.[12] Освоение принципиально новой дискурсивности последовательно ведет по пути самоцельности текстовой организации (фигурная поэзия, орнаментальная, а позднее и абстрактная живопись, позднее — алеаторическая музыка), укореняющейся в культуре, начиная с эпохи барокко.
Завершением кризисного периода явилась реставрация прежнего нормативно-ролевого вектора европейской ментальности в коммуникативных стратегиях нормативно-риторической дискурсной формации. Явным образом такого рода реставрация была осуществлена и в религии (контрреформация), и в искусстве (классицизм — последняя, наиболее регламентированная модификация рефлективного традиционализма), в частности, в музыке, где «композиторы нового поколения во главе с маннгеймцами были в первую очередь заинтересованы в создании тематически интегрированных форм и в контроле над их фактурой, динамикой и тембровыми свойствами […] В рамках тщательно продуманных архитектонических структур не было места импровизационной свободе и непредсказуемости»[13].
Восстановление прежней культурной парадигмы не могло обойтись без последствий преодоления кризисного состояния коммуникативных сфер социокультурной жизни. Так, в поэтике, например, мы имеем дело не только с рефлективным ужесточением ее регламентарности, но с известного рода ментальным компромиссом. Поскольку Буало уже известна взрывоопасная сила субъективности, он в своем «Поэтическом искусстве» отдает ей компромиссную дань, замыкая, тем не менее, нормативными «пределами», оказывающимися у него более эластичными, чем у Горация: «Творческий порыв, / Душою овладев и разум окрылив, / Оковы правил сняв решительно и смело, / Умеет расширять поэзии пределы» (пер. Э. Линецкой).
Европейскую культуру компромиссно-нормативного сознания радикальный кризис «просветительства» настигает во второй половине.
XVIII века. Он приводит, в конечном счете, к Великой французской буржуазной революции и потрясшим Европу наполеоновским войнам, а в духовной сфере — к романтическому взлету дивергентной ментальности с ее девиантным авторством, самодостаточностью общающихся сознаний и диалогическим разногласием в качестве ментального пространства общения. Художественное творчество приобретает статус привилегированной культурной деятельности. «На место иерархического миропорядка, — формулирует Дирк Кемпер, — возводится индивидуальный, рождающийся из природы и творческих сил индивида порядок художественного произведения, источник которого и тем самым эстетический критерий находятся в самом художнике»[14].
Прежние дискурсные формации, естественно, не исчезают из социокультурного пространства, но оттесняются на его периферию. Сколько бы они ни поддерживались традиционными дискурсивными практиками «народной» жизни, с одной стороны, и «официальной» жизни государственного аппарата — с другой, европейская и, в частности, русская культура в XIX веке прирастает в основном дискурсами иного рода. Это утверждающие эгореферентную картину мира девиантноиконические дискурсы игровой альтернативности самодостаточных коммуникантов — с их риторической установкой на субъективную мотивацию общения (интенция желания).
«Образ одиночного я» и «представление о свободе как способности действовать самостоятельно, без внешнего вмешательства или подчинения внешнему авторитету»[15] Ч. Тейлор приписывает «космологическому сдвигу» XX века, окончательно утратившего нормативную концепцию миропорядка. Однако эти ментальные сдвиги произошли еще в наполеоновскую эпоху. Общий знаменатель дискурсивных практик автономного сознания может быть сформулирован словами Патрика Серио: «Отношение к „другому“ является разновидностью отношения к самому себе»[16]. Именно таким коммуникативным отношением проникнуты европейские культуры XIX столетия.
Культуре Я-сознания обязаны своим расцветом и высоким общественным статусом психология и многие другие дисциплины гуманитарного научного познания, формирующегося в XIX веке. В частности, это касается лингвистики, пришедшей на смену классической риторике, и позднейшей семиотики. Как справедливо заметил Майкл Холквист, «Соссюр представлял отдельного пользователя языка как абсолютно свободного агента, способного выбирать любые слова для воплощения конкретного намерения»[17]. Это формула торжества третьей дискурсной формации, ростки которой обнаруживаются в кризисном XVI веке.
- [1] Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 130.
- [2] Там же.
- [3] Там же.
- [4] Бройтман С. Н. Историческая поэтика // Тамарченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройт-ман С. Н. Теория литературы: в 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 124.
- [5] См.: Бройтман С. Н. Историческая поэтика. (Раздел третий).
- [6] Топоров В. Н. Сонеты Дю Белле: к предыстории жанра // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 35, 39.
- [7] См.: Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. М., 1970.
- [8] Lang Р. Н. Music in Western Civilization. N. Y., 1969. P. 359—360. Цит. по: Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон; СПб., 1992. С. 194—195.
- [9] Чернов И. А. Опыт типологической интерпретации барокко // Сборник статейпо вторичным моделирующим системам. Тарту, 1979. С. 103.
- [10] Чернов И. А. Опыт типологической интерпретации барокко.
- [11] Цит. по: Михайлов А. В. Языки культуры. С. 147.
- [12] См.: Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель. М., 2010.
- [13] Орлов Г. Древо музыки. С. 195.
- [14] Кемпер Д. Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна / пер. А. И. Жеребина. М., 2009. С. 24.
- [15] Цит. по: Берч Дж. Голос разума. М., 1996. С. 83.
- [16] Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французскаяшкола анализа дискурса. М., 2002. С. 30.
- [17] Holquist М. Introduction // М. М. Bakhtin. Speech genres and other late essays. Austin, 1986. P. XVI.