Спор историка и художника об Андрее Рублеве и его эпохе (А. Солженицын и А. Тарковский)
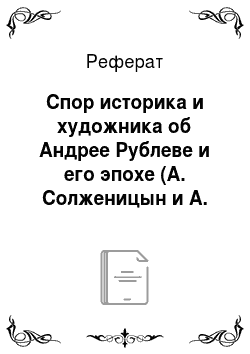
Итак, как видно из этого короткого экскурса, последовательно обращаясь сначала к А. Тарковскому, а затем — к М. Шолохову и А. Синявскому, во всех трех этюдах А. Солженицын обращается к проблеме «бессердечности» исторической оценки, повествовательной техники, критического ли подхода. Возможно, этот опыт «воинствующей сердечности» потребовался автору создающегося «Красного колеса» как своеобразный… Читать ещё >
Спор историка и художника об Андрее Рублеве и его эпохе (А. Солженицын и А. Тарковский) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Спор историка и художника об Андрее Рублеве и его эпохе (А. Солженицын и А. Тарковский)
М.А. Перепелкин.
1 сентября 1970 года А. Тарковский записал в своем дневнике: «Очень хочется показать „Рублева“ Солженицыну. Поговорить с Шостаковичем?» [1, с. 24]. Примерно тогда же, составляя списки того, что ему хотелось бы поставить в кино, в тех же дневниках, А. Тарковский назвал солженицынский «Матренин двор» [1, с. 30]. Ничто из этого не сбылось: не состоялся ни показ «Рублева», которого Солженицын посмотрел самостоятельно в 1972 году, в Тамбове, ни постановка «Матрениного двора», вначале отложенная для осуществления других планов и намерений, а еще чуть позже сделавшаяся невозможной из-за изгнания А. Солженицына из СССР. О замысле А. Тарковского экранизировать «Матренин двор» см. также: [2, с. 38].
Сюжет взаимоотношений А. Тарковского и А. Солженицына получил свое дальнейшее развитие только десять с лишним лет спустя, когда А. Солженицын выступил со статьей «Фильм о Рублеве», впервые опубликованной в 1984 году в «Вестнике РХД». Автор статьи, задетый за живое, даже не спорит с создателем фильма, а разбивает, как ему представляется, весь фильм от и до — от замысла до конкретных моментов его реализации. В статье поставлены под сомнение как отдельные эпизоды («Скоморох», «Ночь под Ивана Купалу», «Колокол» и другие), так и фигуры персонажей, сюжетные ходы, мотивы.
Сам факт обращения А. Солженицына к фильму А. Тарковского значим и требует анализа. Отметим, что такой анализ был начат несколько лет назад А. М. Шемякиным, увидевшим в позиции А. Солженицына «программную глухоту человека, видящего искусство только в одной функции — учительно-воспитывающей» [3, с. 162]. Естественно, что рассматривающий искусство таким образом, Солженицын, как это показывает А. М. Шемякин, не принял искусства, которое «вопреки распространенным представлениям об „учительстве“ и „морализме“ не подчинено этим качествам. Оно свободно. „Задняя мысль“ не преодолевается Правдой, а. исчезает, и в произведении открывается множество смыслов» [3, с. 162]. В итоге делается вывод о том, что «ревность Солженицына к „Рублеву“ совершенно очевидна», ибо «вся публицистика большого писателя посвящена одной теме: условиям освобождения русского человека от большевизма. А тут он сталкивается с явленной воочию свободой художника (не Рублева, а Тарковского). И его трактовка неизбежно превращает ленту в сплошное злоумышление» [3, с. 162]. В работе А. М. Шемякина есть и другие чрезвычайно любопытные соображения о мотивах «невстречи» двух художников, в том числе имеющие непосредственное отношение к проблеме слова у А. Тарковского. Вот что он пишет: «Однако в полемике Солженицына с созданным им вместо „Рублева“ врагом есть еще один, существенный для истории культуры акцент: борьба традиционного слова в его инструктивно-педагогической функции с внесловесным способом высказывания с помощью кинообраза. Солженицын, естественно мыслящий себя в российской литературной традиции пророчества и учительства, возрожденной им в первую очередь именно ради литературы, но действующей неизбежно и помимо литературы, в целях идейной борьбы, — столкнулся с парадоксом: с возрождением этих же традиций в другом искусстве, не требующем полной вербализации, хоть и использующем слово. Кинематограф 60-х годов, и прежде всего кинематограф Тарковского, стал в советских условиях социокультурным, даже культурно-историческим аналогом русской классики XIX века. Творцы этого кинематографа были воспитаны на отечественной классике и — пытаясь достичь преемственности культурного развития — „замахнулись“ на те же „проклятые“ вопросы, что и наша великая словесность. А Солженицын хотел бы увидеть кинокопию истории (или литературного произведения) — „как она есть“. То есть иллюстрацию. Но кино уходит от литературности к новым взаимоотношениям с образом мира — взаимоотношениям, запечатленным на пленке» [3, с. 165]. Претензий к А. Тарковскому у А. Солженицына так много, что вряд ли стоит останавливаться на каждой из них в отдельности. Имеет смысл поискать общую причину, по которой А. Солженицын не принял «Рублева». Для этого предельно кратко остановимся на конкретных положениях критического разбора фильма, предпринятого писателем, и попытаемся суммировать все высказанные претензии в более или менее крупные общности.
Главная претензия А. Солженицына к создателям «Рублева» (кроме А. Тарковского это также А. Кончаловский, соавтор сценария фильма) состоит в том, что они обратились к истории «не со специальной целью изучения того периода, а для поиска аналогии, ключа для ожидаемого подкрепления своей мысли, для сегодняшней своей цели». Следствием этого обстоятельства стали следующие «промахи» А. Тарковского.Первое. Атмосфера благой доброжелательности, имевшая место быть на Руси в пятнадцатом веке, подменена цепью уродливых жестокостей.
Второе. В фильме обойден творческий стержень иконописной работы Рублева, а мировоззрение героя упрощено до современных гуманистических интенций.
Третье. Упрощенно-плоско трактуется целый ряд ключевых для понимания эпохи Рублева и фигуры самого героя мотивов, таких, например, как присутствие в художественной ткани фильма Священного Писания («тексты выбраны не в духовном внутреннем родстве с повествованием» [4, с. 147]), обет молчальничества героя («в поиске объяснить обет молчальничества приводится мотивировка совсем не христианская» [4, с. 147]).
Четвертое. Фильм перегружен побочными, не относящимися к делу персонажами и эпизодами. К числу первых относятся Даниил Черный и Кирилл, ко вторым — сцена со скоморохом, эпизод ночи под Ивана Купалу, отливка колокола, пролог с воздушным шаром. Например, последний, с точки зрения Солженицына, лишен какой бы то ни было связи с целым, случаен и не обязателен в фильме («кто летел? куда торопились? какие еще татары на них бежали?» [4, с. 149]).
В завершение этого перечня минусов, предъявленного А. Солженицыным автору «Рублева», процитируем еще одну высказанную им мысль, которая, по всей видимости, касается контрапункта несовпадений позиций А. Солженицына и А. Тарковского. «Если искать общую характеристику фильма в одном слове, — пишет А. Солженицын, — то будет, пожалуй: несердечность» [4, с. 146].
Итак, главный упрек А. Солженицына в адрес А. Тарковского связан все-таки не с внеисторизмом картины или с ее «побочными» эпизодами, а с ее «несердечностью». «Рублев» «несердечен», и отсюда упрощенно-плоская трактовка ключевых мотивов, редукция духовного подвига великого мастера до метаний неуверенного в себе интеллигента и т. д.
Но тогда надо разобраться, что понимает под «сердечностью» (и «несердечностью») А. Солженицын и почему «несердечен» А. Тарковский, то есть является ли его «несердечность» художественным промахом или результатом сознательного эстетического выбора.
Исследуя солженицынскую «сердечность» и «несердечность» А. Тарковского, мы постараемся ответить на вопрос, который касается существа солженицынской критики «Рублева». Почему вообще Солженицын не мог пройти мимо этой картины А. Тарковского (благополучно пройдя мимо «Зеркала», «Сталкера» и даже мимо «Ностальгии» , — не снятым к моменту написания статьи осталось только «Жертвоприношение»)? Что заставило А. Солженицына-критика вернуться к уже написанной и опубликованной статье полгода спустя, в мае 1985 года, и сделать добавление — не менее жесткое, безапелляционное и осуждающее нравственный выбор автора «Рублева» ?
Но прежде чем отвечать на вопрос, почему А. Солженицын отверг «Рублева», скажем несколько слов о том, когда и в какой связи была написана его статья об этом фильме.
Статья о «Рублеве» вышла в свет в октябре 1983 года, во время паузы в работе над романом-хроникой «Красное колесо». Почти сразу вслед за ее опубликованием А. Солженицыным были написаны еще два «критических этюда» — «По донскому разбору» и «…Колеблет твой треножник», первый из которых был завершен в январе, а второй — в апреле 1984 года.
В этюде «По донскому разбору» объектом критического рассмотрения стала шолоховская «Поднятая целина», «случайно» попавшая под руку автору этюда, когда он «перебирал книги о Доне» .
" Этюд" носит разоблачительный характер. Шаг за шагом «продираясь» (так у А. Солженицына) сквозь «Поднятую целину», автор «донского разбора» приходит к итоговому вопросу-выводу: «И нас хотят убедить, что этим же самым пером воздвигнут и «Тихий Дон»? [5, с. 143].
Для самого А. Солженицына ответ на этот вопрос очевиден: у «Поднятой целины» и у «Тихого Дона» — разные авторы. Первый, «хотя и зная Дон, не проявляет любви к его жителям, а мысли содержит на уровне советского агитпропа», второй «был сердечно предан Дону, страстно любил казачество и имел собственные мысли о судьбе края» [5, с. 143].
Напрашивается вопрос: что заставило А. Солженицына «продираться» сквозь почти нечитабельный текст «Целины», что-то доказывать и опровергать, а с чем-то спорить? Чтобы поставить под сомнение значимость фигуры «вешенского аборигена», как называет он М. Шолохова? Вряд ли, так как несостоятельность этого авторитета для А. Солженицына — факт, не нуждающийся в доказательствах. Тогда во имя чего?
Полагаем, что во имя «Тихого Дона», написанного не Шолоховым и многократно теряющим в цене, если согласиться с тем, что у этого романа и у «Поднятой целины» — один автор. «Поднятая целина», а точнее, ее вторая часть, представляющаяся А. Солженицыну особенно ущербной и беспомощной, «долго… рожалась — и спуста рождена», то есть безжизненна, бессердечна. Допустить, что «Тихий Дон» написан тем же человеком, означает в солженицынской системе ценностей поставить под сомнение «сердечность» и этого — подлинного, живого — романа.
Так от разговора о проблемах эстетического освоения исторического процесса А. Солженицын, как и в случае с фильмами А. Тарковского, переходит к размышлениям о мнимой сердечности — «пустоте» — одной книги и о подлинно-сердечном «Тихом Доне» .
В следующем «этюде» предметом разбора и не менее ядовитой, чем в двух предыдущих случаях, критики стали «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского. И снова — пространный разбор со скачками от одного высказывания автора «Прогулок» к другому и от одной гневной тирады — к другой («это — продуманный танец вокруг Пушкина, не проникающий в его ядро, и часть па — меткого подражания, существенных примет, а часть и пустой припляс» и т. п.).
Опять напрашивается тот же, что и в случае с «Донским разбором», вопрос: что заставило А. Солженицына высказаться? На этот раз предмет «разбора» как будто даже более удален от сферы непосредственного солженицынского интереса, чем фильм о Рублеве и роман о коллективизации, — автор «Прогулок с Пушкиным» не касается вопросов исторического развития России, и даже Пушкин у Синявского — внеисторичен, представлен как автономная эстетическая система, работающая по своим законам, не имеющим прямых выходов в историческое пространство. Тем не менее «Прогулки» А. Синявского не просто попались под руку А. Солженицыну, но и удостоились многостраничного тщательного разбора. Почему?
Процитируем один из самых ярких пассажей солженицынского «этюда», на наш взгляд, приближающий к ответу на вопрос, почему автор «Матрениного двора» и «Красного колеса» не мог пройти мимо «Прогулок с Пушкиным». «Поражаясь пушкинской широте и глубине восприятия существующего, Синявский изощряется объяснить их „сердечной неполноценностью“, пустотой или „почти механической реакцией“, „расфасовкой страстей и намерений по полочкам“. „Много ль надо вложить, коли нечего вкладывать“, когда „не хватает своей начинки“. В бессилии уловить тайну пушкинского приятия мира, критик нетерпеливо толкает поэта — в пустоту» [6, с. 153].
Итак, снова «сердечная неполноценность», или «несердечность», в которой уличает А. Синявский А. Пушкина, а А. Солженицын — А. Синявского. Не вдаваясь в существо «разоблачений» первого и второго, укажем только на то обстоятельство, что именно механистичность трактовки Пушкина у А. Синявского вызвала гнев автора этюда «Колеблет твой треножник», отстаивающего «бездонную глубину», таинственность как средоточие пушкинского мироздания, спутанную автором «Прогулок» с «прыжками и ужимками» пустоты бессердечия.
Итак, как видно из этого короткого экскурса, последовательно обращаясь сначала к А. Тарковскому, а затем — к М. Шолохову и А. Синявскому, во всех трех этюдах А. Солженицын обращается к проблеме «бессердечности» исторической оценки, повествовательной техники, критического ли подхода. Возможно, этот опыт «воинствующей сердечности» потребовался автору создающегося «Красного колеса» как своеобразный способ настроить собственное художественное зрение таким образом, чтобы избежать сухого и бесстрастного изложения фактов в романе-хронике. Может быть, были и другие причины эстетического или чисто человеческого характера, заставившие бывшего зэка Солженицына расправиться с бывшим зэком Синявским и нобелевского лауреата 1970 года — с нобелевским же лауреатом 1965 года. Для нас сейчас важно другое, а именно — то, что солженицынская критика в адрес «Рублева» касалась не только и исключительно его создателей, но была звеном в целой цепи критических анализов «несердечных» явлений искусства «сердечным» Солженицыным. Другими словами, неприятие «Рублева», с нашей точки зрения, было направлено прежде всего не на «Рублева» и совсем не его имело своей целью. Метая критические стрелы в фильм А. Тарковского, А. Солженицын имел в виду оттачивание своего — «сердечного» — художественного инструментария, заострение своей эстетической и человеческой позиции — позиции человека, сопротивляющегося всему бездыханному и мнимо живому.
И все же неясным остается одно обстоятельство: почему А. Тарковский и почему «Рублев»? Если с М. Шолоховым и А. Синявским все более или менее понятно — здесь А. Солженицына возмутило то, что ущербно-бездыханная «Поднятая целина» приписывается автору «Тихого Дона» и хулигански-фривольное прочтение Пушкина подменяет «плоским анекдотом» его художественную глубину, то в случае с А. Тарковским все сложнее. Сложнее, потому что А. Тарковский, как и А. Солженицын, был одинаково чужд и советскому идеологическому мифотворчеству, выразительным знаком которого явилась «Поднятая целина», и шутовскому, карнавальному развенчанию пушкинского мифа, предпринятому А. Синявским. солженицин тарковский фильм творческий Здесь должна быть сделана одна, но существенная оговорка. Напомним, что «Рублев» был снят в 1966 году А. Тарковским, главные «метафизические» фильмы которого были еще впереди. А. Солженицын же обратился к «Рублеву» в 1983;м, пройдя, как уже указывалось, мимо «Зеркала», «Сталкера» и других, снятых к этому времени, картин. Почему?
Как нам представляется, дело в следующем. Снимая «Рублева», А. Тарковский еще только искал ту метафизическую парадигму, которая, по большому счету, будет найдена им только в «домашних» эпизодах в «Солярисе» и еще полнее обозначится в «Зеркале», «Сталкере» и «Ностальгии». Видимо, и сам А. Тарковский чувствовал «бессердечность» своей картины о Рублеве, поэтому и хватался за любой намек, казавшийся ему похожим на мечту о собственном «матренином дворе». Отсюда, кстати, его интерес к этому рассказу А. Солженицына, еще не ставшему для метафизика А. Тарковского реальностью его собственных философских и эстетических обретений. Другими словами, возможно, и ощущая в зрелом А. Тарковском определенное родство, А. Солженицын не мог принять «несердечного» «Рублева» .
Более того, сопоставляя «этюд» о «Рублеве» с «Донским разбором», приходится сделать еще один, довольно парадоксальный, вывод: нападая на «Рублева», Солженицын отстаивает А. Тарковского — автора других, не названных им, но, конечно, принятых во внимание, фильмов. Аналогично тому, как в статье о М. Шолохове и о «Поднятой целине» критический анализ последней служил утверждению подлинности «Тихого Дона», расщепляя несостоятельного, с точки зрения А. Солженицына, «Рублева», автор «критического этюда» утверждал состоятельность и «сердечность» более поздних картин режиссера. Утверждал, правда, окольно, не в лоб, сделав вид, что А. Тарковского после «Рублева» он не знает.
Таким образом, можно констатировать, что «ссора» А. Солженицына и А. Тарковского носила характер напряженной обоюдной заинтересованности художников, ощущающих взаимное творческое родство. Так эту ситуацию понимают и П. Вайль и А. Генис, можно сказать, возводящие «Рублева» к направлению, заложенному «Матрениным двором»: «Литература, выдвинувшая на первый план Матрену Солженицына вместо Павки Корчагина, конечно, не стала христианской, но подготовила почву для того, что потом назвали религиозным возрождением. Ярче всего эта тенденция проявилась в „Андрее Рублеве“ Тарковский показал разобщенную, униженную и измученную Русь как истинную родину великой идеи страдания и искупления. Христос родился в России не потому, что она лучше других, а потому, что она страдает более всех» [7, с. 272]. Пристрастно разбирая ранний фильм режиссера, в котором А. Солженицын увидел не достигшее цели блуждание в поисках сокровенного, «сердечный» А. Солженицын восставал против «несердечного» в кинематографе раннего А. Тарковского, которому еще только предстояло найти свой язык и свои образы.
Библиографический список
- 1. Тарковский А. Мартиролог. Дневники. 1970;1986. Международный Институт имени Андрея Тарковского, 2008.
- 2. Зоркая Н. Ностальгия по Тарковскому // Новое время. 1991. № 14.
- 3. Шемякин А. М. Солженицын и Тарковский (К истории одной невстречи) // Киноведческие записки. 1992. № 14.
- 4. Солженицын А. Фильм о Рублеве // Звезда. 1992. № 7.
- 5. Солженицын А. По донскому разбору // Звезда. 1992. № 7.
- 6. Солженицын А. …Колеблет твой треножник // Новый мир. 1991. № 5.
- 7. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 2001.