Русская формальная школа
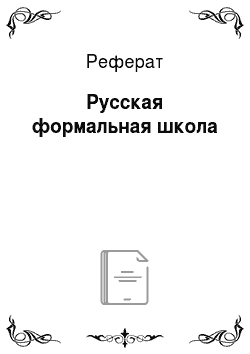
Теории поэтического языка, разработанные Дж. Рэнсомом, К. Бруксом, А. Тейтом и др., представляли поэзию в совершенно новом свете. Но самой радикальной была мысль о том, что поэзия не является отражением реальности, а творит свой собственный поэтический мир. Слова в стихотворении приобретают «внутренний смысл». Например, слово «Византия» в известном стихотворении У. Ейтса «Поездка в Византию… Читать ещё >
Русская формальная школа (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Просуществовав короткое время (с середины 10-х до середины 20-х гг.), эта школа тем не менее оказала большое влияние на литературоведческую мысль XX столетия. Идеи, выдвинутые русскими формалистами, дали первоначальный толчок развитию подобных методов исследования во многих странах.
Русские формалисты составляли две группы. Первая именовала себя «Обществом изучения поэтического языка» (ОПОЯЗ), вторая — «Московским лингвистическим кружком». Членами этих групп и сочувствующими им были многие известные ученые-лингвисты и литературоведы. Среди них — В. Виноградов, Е. Поливанов, Л. Якубинский, Г. Винокур, Р. Якобсон, Ю. Тынянов, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Б. Томашевский и ряд других.
Основополагающим в подходе русских (как, впрочем, и всех других) формалистов к художественному произведению (прежде всего к поэтическому) было утверждение, что именно форма делает поэзию поэзией, определяя специфику последней. Содержание стихотворения можно пересказать без использования рифмы, ритма, то есть разрушив его форму, но при этом улетучивается и поэтическое впечатление. Поэзия исчезает.
Таким образом, поэтической форме, поэтическому языку придавалось первостепенное значение. Более того, признавалась возможность саморазвития поэтической формы вне зависимости от содержания.
Это были радикально новые взгляды на поэзию. До этого форма понималась скорее как служанка содержания. Издавна наиболее выдающиеся литературные мыслители от Аристотеля до Белинского уделяли большое внимание и форме произведения, все же только в XX веке вспыхнул подлинный ее культ. И начало ему было положено русскими учеными.
Один из основоположников формального метода, В. Шкловский, выдвинул тезис «искусство как прием», взятый затем на вооружение другими литературоведами-формалистами. «Прием» понимался как главный инструмент создания художественного произведения. С помощью различных поэтических приемов, сознательно применяемых авторами произведений, предметы и явления реальности превращаются в факт искусства. Приемы могут быть традиционными и новаторскими. Последним русские формалисты уделяли много внимания. Характерно, что затем и американские формалисты будут восхвалять модернистскую поэзию, считая ее высшим достижением поэтического творчества. В этой связи представляется чрезвычайно интересным вопрос о взаимосвязях формалистов-теоретиков и формалистов-художников, экспериментировавших с формой, используя самые экстравагантные «приемы» .
Одним из важнейших художественных «приемов» формалисты считали «остранение» (от слова «странный»). Это понятие было впервые введено В. Шкловским в книге «Воскрешение слова» (1914) и получило дальнейшую разработку в его статье «Искусство как прием» (1917). В произведении, по мысли Шкловского, знакомые вещи должны представать в неожиданном, необычном, «странном» свете. Только тогда они привлекут внимание читателя, разрушив «автоматизм восприятия». Остранение, таким образом, понимается как универсальный и важнейший художественный прием. В качестве примера В. Шкловский приводит необычное, «странное» описание оперного представления в «Войне и мире». «Был какойто черт, который пел, махая руками до тех пор, пока не выдвинули под ним доски, и он не опустился туда» .
Разрушить автоматизм читательского восприятия могут ирония (как в приведенном примере), а также парадокс, употребление непривычных (бытовых или областных) слов и т. п. В более широком плане нарушение привычного и ожидаемого выражается в борьбе «старшей» и «младшей» линий в литературе, то есть в борьбе традиции и новаторства.
Очевидно, что так понятый текст несет в себе внутренний накал и стимулирует подобное напряжение в читательском восприятии. Более подробно проблему напряжения внутри поэтического текста будут разрабатывать американские «новые критики», которые станут искать в художественном произведении борьбу различных художественных элементов. Например, К. Брукс выделит парадокс в качестве универсального художественного средства (по терминологии русских ученых — «приема»), который определяет специфику поэзии.
" Новая критика" возникла в Соединенных Штатах в конце 1930;х годов. Ее крупнейшими представителями были Дж. Рэнсом, А. Тейт, К. Брукс, А. Уинтерс, Р. Блэкмур. «Новые критики» исходили из понимания поэтического произведения как автономного, замкнутого в самом себе, в своей «поэтической реальности» объекта. Очевидно, что эта исходная позиция является в основе своей кантианской, напоминая знаменитое положение И. Канта о «вещи в себе». Все «внешние» связи произведения «неокритиками» обрывались. Оно не являлось для них социологическим или политическим документом, не связывалось даже с психологией или биографией художника. По их мнению, стихотворение относится к поэту, как «брошь к ювелиру». Оно живет своей собственной жизнью. Не обращали внимания «новые критики» и на эмоции, выражаемые в произведении. Для них художественное произведение — особый вид знания, а не способ выражения эмоций. Это «поэтическое» знание, как более «плотное» и живое, они противопоставляли схематическому, «скелетному», научному. Для анализа этого «знания», т. е. поэзии, рекомендовалось «пристальное прочтение», цель которого- выявить в произведении особые поэтические средства выражения, делающие поэзию поэзией.
Дж. Рэнсом разработал учение о структуре и текстуре. Структура произведения — это его смысл, который можно передать и другими словами. Текстуру же другими словами не передашь. Она слишком тесно связана с ритмом, рифмой, звуковым символизмом. Именно текстура делает стихотворение неповторимым, автономным, непереводимым на другой «язык». К. Брукс добавил к этому учение об ироническом и парадоксальном аспекте, являющемся основным признаком поэтической речи. Это учение, как уже отмечалось, очень близко по смыслу к учению об «остраненности», разработанному в русле русской «формальной» школы. В поэзии обычные предметы приобретают особый «странный» или «парадоксальный» смысл. Так, Лондон в стихотворении Вордсворта «Вестминстерский мост» предстает, считает К. Брукс, в новом, парадоксальном свете- не как «сердце империи», а как часть природы. Вся поэзия, по мысли К. Брукса, парадоксальна, чем и отличается от обыденного или научного языка.
Некоторое отличие в понимании поэзии К. Бруксом от ее понимания русскими формалистами состоит в том, что последние больше акцентировали внимание на сознательном «делании» поэзии, на сознательном применении различных «приемов» (в том числе и парадокса). К. Брукс же склонен к пониманию парадокса как имманентно присущего поэзии качества. Не обязательно поэт должен делать поэзию «странной» и парадоксальной. Таковой она является сама по себе. В этом ее, по мнению К. Брукса, глубинная сущность.
Диалектичность, или «драматичность», поэтического языка, состоящего из разнородных, создающих семантическое, смысловое напряжение элементов, отмечал и третий теоретик «новой критики» — А. Тейт, разработавший учение о «тенсивности» (напряженности) поэтической речи.
Теории поэтического языка, разработанные Дж. Рэнсомом, К. Бруксом, А. Тейтом и др., представляли поэзию в совершенно новом свете. Но самой радикальной была мысль о том, что поэзия не является отражением реальности, а творит свой собственный поэтический мир. Слова в стихотворении приобретают «внутренний смысл». Например, слово «Византия» в известном стихотворении У. Ейтса «Поездка в Византию» является уже, по словам Э. Олсона, «не местом на карте, а поэтическим термином». И смысл этого термина «реализуется» внутри произведения, во взаимодействии с другими его элементами. В частности, при противопоставлении молодости и старости. Примечательно, что английский энтузиаст методологии «новой критики» П. Лаббок, применявший ее уже для объяснения прозаических жанров, в противопоставлении старости и молодости видел главный «внутренний» смысл «Войны и мира». Таким образом, даже этот реалистический и исторический роман отрывался «новым критиком» от действительности. Во всяком случае, «внутренний» смысл представлялся важнейшим и определяющим.
Ярким примером конкретного применения «неокритического» метода является предложенная К. Бруксом интерпретация знаменитой «Оды к греческой вазе» Дж. Китса.
Анализу названной выше оды Дж. Китса К. Брукс посвятил специальную работу, которая в качестве «неокритической» классики перепечатывается в хрестоматиях по истории американской критики. Исследователь стремится показать, что отрыв от контекста произведения, непонимание его органичности, его «внутреннего» значения, открывающегося лишь при «тщательном прочтении», ведет к непониманию и даже к искажению смысла, вложенного в него поэтом.
Анализ «Оды», проведенный К. Бруксом, действительно помогает выявить в ней такие аспекты, которые могли выпасть из поля зрения тех, кто использует для истолкования поэзии более «внешние» методы. Нельзя игнорировать ни особенностей внутренней организации поэтического произведения, ни специфику его семантики. В то же время нельзя и замыкаться только на его внутренних особенностях. Да это и невозможно. Сам К. Брукс постоянно выходит за рамки «пристального прочтения». Об этом свидетельствует его понимание общей основы поэтического парадокса, вырастающего на месте разрыва мечты и действительности, на конфликте научного и поэтического, духовного и телесного. В более узком плане, при анализе конкретных произведений неизбежны, как показывает уже анализ «Оды», исторические и социологические экскурсы. Нельзя также напрочь отбросить и проблему читательского восприятия и психологию автора.
" Новые критики" видят свою заслугу в том, что они анализируют художественные произведения «изнутри», а не подходят к ним с социологическими, психологическими и т. п. мерками. И при этом «неокритики» подчеркивают, что их анализ базируется на строго научных принципах.
Структурализм в литературоведении возник на основе лингвистического структурализма, теория которого была разработана Ф. де Соссюром. Структуралисты-литературоведы (Р. Барт, Ц. Тодоров, А. Ж. Греймас, Ю. Кристева и др.) стремились к созданию «морфологии» литературы, т. е. к нахождению общих законов и правил построения художественного произведения. Структуралисты справедливо критиковали представителей «внешних» подходов к литературе за то, что они в «объекте» исследования, т. е. в произведении, находят и анализируют лишь свой «предмет». Например, психоаналитиков интересует лишь то, как в произведении выражено «бессознательное» автора, представители культурно-исторической школы отыскивают в нем «слепки» общественных нравов и т. д.
Как и американские «новые критики», структуралисты (в большинстве французы) задались целью объяснить литературу «изнутри», опираясь на нее самое.
Художественное произведение они стали рассматривать как «систему отношений», где, подобно фонемам в слове, составляющие произведение элементы приобретают смысл лишь во взаимодействии. Особым вниманием у структуралистов стали пользоваться «бинарные» пары или пары-противоположности: «верх-низ», «жизнь-смерть», «свет-тьма» и т. п. Анализ художественного произведения часто сводился к отысканию в нем названных пар. На этом принципе, в частности, строит анализ произведений Расина Р. Барт, а Вяч. В. Иванов и В. Топоров отыскивают оппозиции в белорусских народных сказках[1].
Вся литература в ее отношении к изображаемому определялась структуралистами как «означающее». Последнее же, по Ф. де Соссюру, ничем не связано с «означаемым», являясь лишь случайным «знаком» последнего. Из этого литературные структуралисты сделали вывод о самодовлеющей силе этого означающего, т. е. литературы, и сосредоточили внимание не на том, что она «означает», а на ее внутренних структурах и отношениях элементов. На этой основе и строится структуралистами «морфология» литературы. Они стремятся не к выявлению того или другого «значения», как это делают представители «внешних» подходов (психоаналитики, марксисты и др.), а к описанию взаимодействующих элементов внутри произведения. В этой связи Р. Барт сравнивает работу структуралистов с работой тех лингвистов, которые «описывают грамматическое построения фразы, а не ее значение» .
Таким образом, структуралисты стремятся, в отличие от американских «формалистов», не к анализу отдельного произведения, а к нахождению тех универсальных принципов и законов, по которым создается вся литература, точнее говоря — любая литературная форма. Именно поэтому свою поэтику структуралисты именуют «морфологией» литературы.
Примером тому, как строится «грамматика» литературы, может служить известная работа русского литературоведа В. Проппа «Морфология сказки» (1928), увидевшая свет задолго до расцвета французского структурализма. Пропп выделяет в русской волшебной сказке несколько десятков «мотивов», первичных сюжетов, к которым и сводится все содержание этого жанра.
В отличие от В. Проппа западные структуралисты были более амбициозны, претендуя на построение универсальных «грамматик» литературы. Так, А. Ж. Греймас выявляет во всем словесном творчестве (от мифа до современного романа) шесть носителей сюжетных функций (объект, субъект, податель, получатель, помощник, противник). Действительно, это так и есть. Однако эта структурная вытяжка из литературы почти ничего не дает для понимания последней. Как пишет по этому поводу Г. Косиков, «такое признание даст нам нечто для понимания всеобщей логики построения сюжета. Но оно ровным счетом ничего не даст для понимания принципиальных отличий современного романа от мифа или даже сказки от мифа»[2].
Эти слова, адресованные конкретному литературоведу, характеризуют и наиболее слабые стороны структуралистских теорий вообще.
Структуралисты наряду с семиотиками являются сайентистски настроенными литературоведами. Для них характерна позитивистская вера в полное научное объяснение всех загадок и тайн художественного творчества. Эта вера во многом основана на том, что последнее ими явно упрощается. Они даже не употребляют слово «произведение», предпочитая ему более упрощенное — «текст». Причем структуралисты (опять же в отличие от «новых критиков», также «текстологов») не видят принципиальной разницы между художественным и любым другим текстом. В этой связи глава известной Йельской литературоведческой школы, тяготеющей к структурализму, Поль де Мэн писал в 1971 году: «Методологически обоснованное наступление на понимание литературы и поэтического сознания в качестве привилегированной автономии является основной тенденцией в литературоведении Европы»[3].
Структурализм в литературоведении представляет собой очень сложный комплекс идей и методов. В орбите его влияния находится большое число различных школ, специализирующихся на проблемах лингвистики текста, его стиля (Р. Якобсон, М. Риффатер), занимающихся исследованием глубинных «ментальных структур» и их художественным выражением (К. Леви-Стросс), вопросами «мотивов» и сюжетосложения (В. Пропп, А. Ж. Греймас), исследованием социологии литературы (Ц. Тодоров) и ее мифологических составляющих (Н. Фрай).
Структурализм, особенно французский, нередко именуют «новой критикой». Однако это название требует уточнений. Действительно, структурализм был радикально новым методом исследования как в лингвистике, так и в литературоведении. И впервые теории структурализма были разработаны и применены в качестве исследовательского метода во Франции. Вместе с тем «новыми критиками» называют и чрезвычайно влиятельную группу американских литературоведов-формалистов, чья исследовательская методология существенно отличается от структуралистской. Их объединяет лишь то, что обе методологии носят текстоцентрический характер. Но американские «новые критики» в центр внимания ставят индивидуальный текст, подчеркивая его неповторимость, структуралисты же, наоборот, ищут то общее, что присуще всем или группе художественных текстов.
В 1960;е годы, в пору своего расцвета, структурализм весьма широко использовался в фольклористике. И это не удивительно, ибо один из самых активных французских структуралистов, К. Леви-Стросс, занимался проблемами культуры древнего человека, мифологией и фольклором. Он, между прочим, посвятил целую главу в своем втором томе «Структурной антропологии» (1973) рассмотрению особенностей исследовательского метода В. Проппа, анализировавшего структуру русской волшебной сказки.
В своем классическом виде структурализм просуществовал недолго — с конца 1950;х по 1970;е годы. Ему на смену пришли различные текстоцентрические методологии, объединяемые общим названием «постструктуралистских». Особое место среди них занимает так называемый «деконструктивизм» .
Деконструктивизм в 1980—1990;е годы приобрел столь сильное влияние в западной науке о литературе, что часто выступает в качестве синонима ко всему понятию «постструктурализм», хотя это и не совсем точно.
Деконструктивизм, как и структурализм, возник на основе лингвистического структурализма Ф. де Соссюра. Последний понимал слово «означающее» как нечто внутренне пустое, совершенно случайно связанное с обозначаемым им предметом или явлением действительности.
Опираясь на этот постулат Ф. де Соссюра, основоположник деконструктивизма француз Ж. Деррида стал утверждать, что слово и, шире, художественный текст теряют связь с действительностью, ничего фактически в ней не обозначают, ничего не «отражают», а живут своей собственной жизнью, по особым «текстовым» законам.
Мысль об автономии художественного текста не нова. К подобному пониманию сущности текста склонились и американские «новые критики», опиравшиеся, правда, не на Ф. де Соссюра, а на учения И. Канта и Э. Кассирера о «вещи в себе» и об «автономии символических форм». Но «новые критики» находили внутри поэтического текста хоть и автономный, но вполне твердый смысл. Ж. Деррида же считает, что художественный текст не несет и не может нести в принципе никакого твердого смысла. Последний «вчитывается» в него «наивным читателем», у которого логоцентрическая западная цивилизация воспитала ошибочную уверенность в том, что во всем есть смысл. Эта уверенность, естественно, присуща и наивным критикам, вносящим в исследуемые тексты сомнительную «осмысленность», определяемую их научными пристрастиями, а также общим уровнем культуры. Читателя или критика деконструктивисты тоже понимают в качестве своеобразного «текста», точнее — носителя различных смыслов, способного ко всевозможным самовыражениям.
Твердый смысл текста, утверждает Ж. Деррида, — это выдумка. Его нет. И искать не следует. Лучшее, что может сделать критик, — отдаться «свободной игре» с текстом, внося в него какой заблагорассудится смысл, давая ему любые истолкования. Что касается общей теории литературы, разработанной деконструктивистами, то она исходит из основополагающего вывода Ж. Деррида: «Литература уничтожает себя вследствие своей безграничности»[4]. Следует лишь пояснить, что в данном случае имеется в виду «безграничность» смыслов, присущих каждому художественному тексту.
В более широком, философском плане (а деконструктивизм не лишен общефилософских претензий) деконструктивистами ставится под сомнение способность человека к объективному познанию мира и осуждается вся традиционная философская практика европейской цивилизации, основанная на линейной логике, на стремлении во всем отыскать твердый смысл.
В Соединенных Штатах Ж. Деррида нашел как критиков, так и сторонников, не только использовавших, но и активно разрабатывающих его концепции. Центром американского деконструктивизма стал Йельский университет. Профессора этого университета П. де Мэн, Дж. Хартмен, Г. Блум, Дж. X. Миллер получили мировую известность во многом как литературоведы-деконструктивисты.
Подчеркивая ориентацию йельских деконструктивистов на внутренние потенции текста, Дж. Хартмен писал: «Деконструктивизм… отказывается связывать силу литературы с заключенным в нее значением и показывает, как глубоко эта логоцентрическая идея проникла в наше понимание искусства. Мы считаем, что „наличие слова“ не менее важно, чем наличие смысла»[5].
Это высказывание Дж. Хартмена является лишь эхом идей главы деконструктивистской школы, который, подчеркивая «текстуальный» характер значения или даже истины, писал: «Ни одно значение не может быть определено вне контекста» .
Особую роль деконструктивисты, развиваясь в общем русле современного неориторизма, приписывают фигурам речи. Причем находят их не только в художественных, но и в научных и философских текстах. Кроме того, они относят к фигурам речи и те явления, которые никогда таковыми не числились. Например, Г. Блум само понятие «форма художественного произведения» рассматривает как фигуральное выражение. «То, что мы называем формой в поэзии, — пишет он в статье «Разрыв формы» , — есть не что другое, как троп, фигуральная подстановка того, что стихотворение, как нам кажется, изображает вместо действительных или также кажущихся «внешних событий»[6]. В этом смысле даже все произведение, по мнению Г. Блума, может быть определено как «троп», иносказание.
Говоря о форме, Г. Блум имеет в виду не только поэзию, но и форму любого выражения. Так, он говорит о «тропизме» своих более ранних работ, которые для многих читателей не только ничего не проясняют, но скорее наоборот, ибо «для читателей ясность чаще всего «троп», обозначающий философский редукцианизм или даже «отвратительное литературничание, извращающее истинное и глубокое понимание поэзии и критики» .
Очень показательна для понимания позиции деконструктивизма и такая фраза Г. Блума: «Свобода в поэзии должна обозначать свободу значения, то есть свободу иметь свое собственное значение»[7]. Очевидно, что так понятая свобода близка к абсолютному семантическому произволу.
Семантический нигилизм деконструктивистов проявляется в их утверждении о ничем не ограниченном смысловом произволе текста, содержащего или стимулирующего бесчисленное множество значений, что ведет, как сказал П. де Мэн, к «систематическому уничтожению значения» .
Мысль об «абсолютном произволе» языка- ключевая в философии и методологии деконструктивизма. Она находит свое выражение не только в сугубо теоретических работах, но и в практической критике. Так, в работе о Шелли П. де Мэн, анализируя последнее собранное по фрагментам произведение Шелли «Триумф жизни», говорит о «сумасшествии слов», запутывающих не только рядовых читателей, но и специалистов-текстологов. Критики наивно и примитивно, по мысли исследователя, «историзируют и эстетизируют» тексты, подгоняя их под свои методологические и идеологические схемы. Они выстраивают цепь якобы «исторически связанных» событий, тогда как главное в этих событиях (или текстах) — как раз их спонтанность и произвольность. Историзм вносится и в текст «Триумфа жизни». Критики пытаются проследить идейную связь Шелли с Руссо и другими упомянутыми в поэме философами. Делаются и более претенциозные, по мнению критика, попытки «поставить романтизм в связь с другими литературными течениями»[8]. На самом деле произведение Шелли говорит об обратном, «предупреждая нас, что ничто, будь то поступок, слово или текст, не связано с чем-то предшествующим, но случается только произвольно, и сила его заключается в этой произвольности»[9].
При всей оригинальности своих положений деконструктивисты разделяют со структуралистами и даже с «новыми критиками» их базовый принцип — в центре исследования ставить текст.
Но «новые» критики все же стремились найти в тексте более или менее твердое значение, а деконструктивисты довели почти до абсурда мысль структуралистов о множественности «текстовых истин». Истина, значение произведения стали у них неуловимыми, что, в свою очередь, предопределило положение об абсурдности ее поисков критиком. Лучшее, что он может сделать, — это предложить свой «текст», свой взгляд на ту или другую литературную проблему или произведение, не претендуя на обладание истиной. Критика становится своеобразной, не лишенной элементов абсурда игрой.
Наиболее полное представление о методе П. де Мэна дает, пожалуй, его книга «Аллегории чтения: фигуры речи у Руссо, Ницше, Рильке и Пруста» (1979). В этой работе П. де Мэн обстоятельно излагает основы своих литературно-критических взглядов и затем применяет их на практике, анализируя тексты названных авторов. Показательно, что среди последних — два философа, поэт и прозаик. Уже одно это говорит о более широком взгляде на «текст» П. де Мэна по сравнению с «новыми критиками», хотя он и близок к ним в своем стремлении «пристально» прочитывать произведения. В целом указанная книга дает обильный материал для исследования общих тенденций в современных текстуально ориентированных критических школах — в семиотике, структурализме, «новой» и семантической критике. В определенной степени П. де Мэн заимствует что-то у каждой из них. Следует напомнить, что все эти школы в большей или меньшей степени представляют собой современные «неориторические» подходы к литературе, занимаясь формой выражения, фигурами речи.
П. де Мэн был в группе йельских критиков наиболее «профессиональным» деконструктивистом (Дж. Хартман называл Г. Блума и себя «деконструктивистами-любителями»), но и в его работах крайности этого метода преодолеваются — в отличие от Ж. Деррида американский исследователь избегает ироничности, стилистической развязности. В своей практической критике он серьезен и скорее ищет единственную истину, чем демонстрирует абсурдность и бесполезность ее поисков.
Семиотика (греч. semion — знак) — наука о знаковых системах, знаках, имеющая значительное влияние и в литературоведении. Основы семиотики как науки были заложены Ф. де Соссюром и американцем Ч. Пирсом еще в конце XIX века. Однако мощное развитие семиотики как универсальной дисциплины, исследующей все знаковые системы, относится к середине XX столетия. Среди наиболее значительных знаковых систем или, как говорят, «языков» самыми значительными являются следующие:
- а) естественные (национальные) языки;
- б) искусственные языки (например, программы в системе «человек-машина»);
- в) метаязыки (искусственно создаваемые языки науки);
- г) вторичные языки (в частности, «языки» различных видов искусства).
Уже то, что имя Ф. де Соссюра упоминается в тех случаях, когда речь идет не только о семиотике, но также о структурализме и деконструктивизме, свидетельствует о родственности этих направлений. Все эти учения в центр своего внимания ставят текст. Но если деконструктивисты отрицают возможность научного истолкования текста, то семиотики, наоборот, уверены, что текст поддается строгому научному анализу. В этом отношении семиотическое литературоведение является, пожалуй, самым «сайентистским» из всех исследовательских методов. Стремление стать строго научным методом исследования литературы стимулировалось тем, что по большей части наука о литературе была лишь «наукой мнений». Литературоведы-семиотики попытались сделать науку о литературе точной и видели в этом свою заслугу. Ведущий представитель московско-тартуской семиотической школы в литературоведении Ю. Лотман об этом писал, что применение семиотического аппарата к описанию литературных текстов «создавало надежду ухода от традиционных для гуманитарных наук субъективно-вкусовых методов анализа, что давало основание… как сторонникам, так и противникам семиотических методов называть их «точными» и связывать с противопоставлением «точных наук» «гуманитарным» .
Примечательно, что один из основоположников семиотики, Ч. Пирс, стремился сделать точной наукой даже философию, ввести ее в лабораторию. «Современное инфантильное состояние философии обусловлено тем, — считал Ч. Пирс, — что она создавалась людьми, не видевшими препараторских и других лабораторий…» .
Таким образом, семиотика с самого начала своего существования претендовала на статус «точной науки» и в качестве таковой обещала произвести настоящий переворот в литературоведении, которое действительно было по большей части «субъективно-вкусовой» дисциплиной.
Семиотическая методология получила очень широкое распространение во Франции (Р. Барт, А. Греймас), Италии (У. Эко), США (Ч. Моррисон, Т. Себек), Польше (Г. Котарбиньский) и в целом ряде других стран. Одной из ведущих семиотических школ в литературоведении является уже упомянутая московско-тартуская школа, возглавляемая Ю. Лотманом. Усилия ученых этой школы были сосредоточены сначала на выявлении (посредством лингвистических моделей) специфики «языков» различных видов художественного творчества (танца, драмы, кино и т. п.). Позже наметился интерес к внетекстовым аспектам. Так, Ю. Лотман, концентрируя внимание на самом тексте, пришел к заключению, что невозможно понять последний, изолируя его от «экстратекстовых идей, повседневного здравого смысла и всего комплекса жизненных ассоциаций» .
Таким образом, ученый пришел от первоначального понимания текста только как носителя «внутреннего значения» к признанию важности внешних связей и влияний. В этом отношении показательно различие, которое проводит Лотман между «текстом» и «произведением искусства». Текст понимается им как «один из компонентов произведения искусства», художественный эффект которого возникает только из соотношения текста с целым рядом жизненных и эстетических явлений, идей, ассоциаций. Эти ассоциации могут носить чисто субъективный характер и, значит, быть вне досягаемости объективного научного анализа, хотя во многом они предопределены историческими и социальными факторами.
Очевидно, что значение текста ставится в зависимость от воспринимающего субъекта, и он не понимается в качестве носителя автономного, сугубо внутреннего смысла. В зависимости от воспринимающего лица и данной культурной системы один и тот же текст может восприниматься то как художественный, то как нехудожественный. Текст может восприниматься в качестве «литературного» только в том случае, когда в сознании воспринимающего субъекта существует само понятие «литература» .
Восприятие текста состоит, по учению семиотиков, из трех стадий:
- а) восприятие текста;
- б) выбор или создание кода;
- в) сравнение текста и кода.
Семиотическая «трансфигурация» текста происходит на границе между «коллективной памятью о культуре» и индивидуальным сознанием. Процесс «декодирования» текста включает в себя выявление «значащих», входящих в данную систему элементов и, наоборот, отбрасывание «несистемных» элементов. Читатель сам выбирает и использует при восприятии текста семиотические системы, но этот выбор никогда не бывает полностью произвольным. В значительной степени он детерминирован социальными факторами данной культуры. А раз так, то многие семиотики переключились на изучение этих факторов. При этом текстам стало отводиться лишь место документов той или другой культуры, что очень напоминает методологию исследования литературы И. Тэном и всей культурно-исторической школой. Как замечает американский ученый А. Блеим, при таком повороте перед семиотикой открывается более широкое поле деятельности. Однако, превращаясь в «историческую науку», семиотика вместе с тем демонстрирует свою неспособность выявить истинное значение текста, на что она претендовала на заре своего развития. В оправдание семиотиков А. Блеим говорит, что их бессилие обусловлено не слабостью метода, а природой исследуемого объекта, то есть природой художественного произведения, значение которого находится «в голове его потребителя». Текст же призван лишь инициировать сложные процессы смыслообразования, происходящие в мозгу «социологизированного субъекта» .
Как и в большинстве современных литературоведческих методологий, в семиотике разработана своя система понятий и терминов. Представление о характере применения некоторых из них дают работы известного американского семиотика Т. Себека. Возьмем для примера термины «символ» и «иконический знак». Т. Себек характеризует их как общепринятые в семиотике. «Символ» определяется как знак, не предполагающий, в отличие от «икона», сходства между «означающим» и его «денотатом». Проще говоря, символ может внешне ничем не напоминать то, что символизирует. «Икон» же связан с «денотатом», т. е. с обозначаемым им предметом или субъектом прямо, по сходству. Идеальным «иконическим знаком» является портрет. Но к «иконическим знакам» Т. Себек относит также геометрические изображения. А это значит, что специфика художественного изображения растворяется в слишком общем и широком понятии «икона». Гениальный портрет и треугольник, начерченный школьником, предстают как «иконы» на одном уровне.
Еще сложнее обстоит дело с символом. Сам Т. Себек жалуется на то, что символ — «самый капризный» из всех семиотических терминов. Он может то понятийно раздуваться «до гротескности», то редуцироваться до уровня «бихевиористского стимула»[10]. Кроме того, Т. Себек, в отличие от Э. Кассирера, не считает, что символ является сугубо человеческой формой выражения и общения. Животные также являются символотворцами. В качестве примера американский ученый ссылается на «произвольное символотворчество» собак и кошек, которые помахиванием хвоста выражают определенное (и диаметрально противоположное) настроение.
Очевидно, что так понятый символ не может служить средством определения специфики художественного творчества и, в частности, специфики художественного текста. В целом, несмотря на некоторые удачные наблюдения семиотиков, касающиеся прежде всего того, что есть общего у литературы с другими знаковыми системами, новой и строгой науки о литературе они не создали. Как и каждая из современных методологий, семиотика может претендовать лишь на объяснение одного из многочисленных аспектов художественного творчества, а вовсе не на то, чтобы стать универсальным методом его анализа.
- [1] См.: Barthes R. Sur Racine. Р., 1963; Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- [2] Косиков Г. Французская «новая критика» и предмет литературоведения // Художественный текст и контекст реальности: Теории, школы, концепции (критические анализы). М., 1977. С. 59.
- [3] Man Р. de. Blindness and Insight. N.U. 1971. P. 8.
- [4] Derrida J. Ia Dissemination. Р., 1972. Р. 253.
- [5] Deconstruction and Criticism / Ed. by Bloom H. L., 1979. P. VII.
- [6] Bloom Н. The Breaking of Form // Deconstrution and Criticism. P. 1.
- [7] Ibid. P. 3.
- [8] Man Р. de. Shelley Disfigured // Deconstrution and Criticism. P. 68.
- [9] Ibid. P. 65.
- [10] Бихевиори́зм — направление в американской психологии первой половины XX в. Бихевиористы считали предметом психологии не сознание, а поведение, понимаемое как совокупность двигательных и сводимых к ним словесных и эмоциональных реакций на воздействие внешней среды.