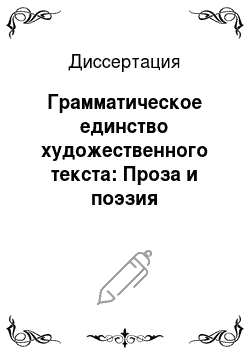1. Общая характеристика работы.
Текст — «первичная данность» всех гуманитарных дисциплин и «вообще всего гуманитарно-филологического мышления»: «Текст является той непосредственной действительностью (действительностью мысли и переживания), из которой только и могут исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» [Бахтин 1997; 227]. Парадоксально, что из всех гуманитарных дисциплин, которые перечислял М. М. Бахтин, делая это утверждение, исторически только лингвистике приходилось доказывать право считать текст своим полноценным объектом. В этом праве ей то отказывали вовсе, то ограничивали его определенным пониманием текста (как источника материала или только как внешней, языковой манифестации чего-то большего)1 либо ракурса исследования, причем дискриминационные взгляды высказывались не только извне (представителями других гуманитарных дисциплин), но и самими лингвистами, то «отрекавшимися» от текста, не находя для него места среди достойных изучения языковых объектов, то признававшими изначальную ущербность, вспомогательность лингвистического, «технического» анализа текста. Вследствие этого история лингвистического изучения целого текста не непрерывна, как например история изучения морфем, частей речи или грамматических категорий. Но именно изменение отношения к тексту во многом определяет историю языкознания, изменение границ и методов нашей специальности.
1.1. Актуальность исследования.
1.1.1. Бурный всплеск интереса к лингвистике текста в конце 60-хначале 80-х годов XX века, завершившийся ее окончательным признанием в отечественной и западной филологии, сменился относительным затишьем. Дело не в отсутствии лингвистических работ, посвященных описанию тех или иных аспектов текста или анализу конкретных текстов, в первую очередь художественных. За последнее десятилетие появилось немало исследований в рамках указанной проблематики. Однако они носят преимущественно «практический» характер: новые, «не описанные» тексты или языковые явления в текстах получают научное отражение. Но проблемы теории и общего грамматического устройства текста в отечественной лингвистике после монографий И. Р. Гальперина [Гальперин 1981], О. И. Москальской [Москальская 1981], З. Я. Тураевой [Тураева 1986], написанных в основном на материале германских языков, и книги Г. А. Золотовой «Коммуникативные аспекты русского синтаксиса» [Золотова 1982] достаточной разработки не получили. Применение известных подходов к анализу все более широкого круга материала помогло уточнить и развить их, но концептуально лингвистическое изучение текста находится в некотором застое, который был нарушен только выходом «Коммуникативной грамматики русского языка» [Грамматика 1998]. Таким образом, актуальность настоящего исследования состоит в том, что предлагается общая концепция грамматического единства художественного текста, сформировавшаяся в результате осмысления широкого материала русских и иноязычных художественных словесных произведений, и демонстрируется, что приложение этой концепции к анализу художественных текстов позволяет сделать новые существенные наблюдения, интересные не только в собственно лингвистическом плане, но и в общефилологическом, а также по-иному взглянуть на некоторые традиционные категории науки о языке (актуальное членение, референцию и предикативность и т. д.).
1.1.2. С другой стороны, актуальность проблем, рассматриваемых в диссертации, обусловлена принадлежностью этих проблем к уровню исследования художественного текста, до последнего времени ускользавшему как от лингвистов, так и от литературоведов, что они откровенно признавали, -уровню, лежащему между уровнем конкретных языковых средств построения текста (immediate constituents) самым большим из которых является предложение, и «larger-grained structures of certain types of literary discourse» [Hockett 1958; 557] или фикциональным миром: «The terminological arsenal of the literary scholars applies, often very well, to the largest-size levels of this structurethat of the linguist applies equally well to the smallest-size levelsbut there is at present a poorly explored terrain in between» [Hockett 1958; 557]- «The fictional world arises from language but it is not clear how this ascent occurs» [Burton, Michaels 1972; 129]- «Можно сказать, что забрасывается либо слишком мелкая сеть (в которую попадаются лишь чисто языковые объекты), либо слишком крупная (в которую попадаются, по-видимому, лишь экстралингвистические объекты)» [Барт 1978; 445]. Ни генеративная грамматика, ни стилистика — с лингвистической стороны, ни нарратология или теория фикциональности — со стороны литературоведения — во второй половине XX века не смогли справиться с задачей обнаружения некоего «среднего уровня» (middle-size level) — ни в виде единиц текста, ни в виде принципов его организации. В нашей работе на основе современной коммуникативно-грамматической теории исследуется этот уровень — уровень грамматических принципов построения цельного речевого произведения, на котором из предложений формируются регистровые блоки, образующие синтаксическую композицию текста. В прозаическом сюжетном тексте именно на этом уровне из лексико-грамматических средств «вырастает», «поднимается» фикциональный мир. Вследствие этого исследование грамматических принципов организации художественного произведения позволяет органически соединить анализ конкретных языковых особенностей его текста, с одной стороны, и сюжета, системы персонажей, фикционального мира — с другой.
1.2. Объект и предмет исследования.
1.2.1. Объектом исследования являются художественные поэтические и прозаические тексты, представленные прежде всего произведениями русской литературы 19−20 веков.
1.2.2. Предметом исследования служит грамматическое устройство текста, рассматриваемое как способ реализации единого замысла автора в цельном словесном произведении.
1.3. Цели и задачи исследования.
Цель, задачи и проблематика исследования органически вытекают из развития отечественной грамматики текста и стилистики художественной литературы, прежде всего школы акад. В. В. Виноградова.
1.3.1. В. В. Виноградов в работе «К построению теории поэтического языка» выделил два круга задач, возникающих при изучении художественных текстов: «учение о композиционных типах речи в сфере словесного творчества, их лингвистических отличиях, о приемах их построения, об основных лексических слоях в них, о принципах их сочетания и их семантике» и «учение о типах композиционно-словесного оформления замкнутых в себе произведений, как особого рода целостных структур». Первый круг «замыкает в себе проблемы типологии композиционных форм речи как систем языковых объединений, которые встречаются в ткани литературно-художественных произведений»: «Это учение не о структуре художественных единств, а о структурных формах речи, которые наблюдаются в организации художественных произведений». Речь в нем идет не о самих литературных произведениях, а об «отвлеченных от них однородных формах словесной композиции — в общелингвистическом плане». «Другой круг заполнен вопросами о типах литературно-художественных „объектов“ как целостных, замкнутых в себе словесных структур». Основная задача первого круга -«разъяснить и обосновать дифференциацию разных типов, разных систем речевой композиции в структуре художественных произведений, раскрыть своеобразия их семантико-синтаксической организации». Это «морфология», но лишь через нее можно подняться на следующую степень — к «учению о структурах художественных словесных единств», учитывающему «динамическую непрерывность художественного объединения». «Тут — иной подход: от единого смысла художественного произведения как „символа“ — к семантике „его символических единиц“ — в сложных формах их структурных объединений» [Виноградов 1997; 168, 177]. Многие из проблем «первого круга» получили решение в рамках современной коммуникативно-грамматической теории, в которой выявлены основные «композиционные типы речи», принципы их построения и сочетания [Грамматика 1998]. Следующим шагом должно стать решение проблем «второго круга», на которое и нацелено настоящее исследование.
Поднимаясь к «учению о структурах», данная работа отражает тот новый смысл, который в наше время приобретают поиски «грамматики поэзии» и «поэзии грамматики». Речь уже идет не только о «поэтическом» использовании отдельных языковых единиц и категорий, той или иной морфологической формы или синтаксической конструкции (см. например, [Ревзина 1983] о деепричастиях у М. Цветаевой- [Гин 199'1] о поэтическом использовании категории рода- [Гаспаров 1997] о «безглагольном» Фете- [Грамматика 1998] о безглагольных, номинативных и инфинитивных предложениях в поэзии и др.). Целью предлагаемой работы является исследование целостной синтаксической композиции художественного текста, участия грамматики в формировании картины мира, структурировании авторского замысла, ее роли в тактике и стратегии развития событий и мотивов в произведении.
1.3.2. Путь достижения этой цели и вытекающие из нее задачи определяются опять же формулировкой В. В. Виноградова из работы «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем жития протопопа Аввакума»: «. Лингвист не может освободить себя от решения вопроса о способах использования преобразующею личностью того языкового сокровища, которым она могла располагать. И тогда его задача — в подборе слов и их организации в синтаксические ряды найти связывающую их внутренней психологической объединенностью систему и сквозь нее прозреть пути эстетического оформления языкового материала» [Виноградов 1980; 3]. Эта формулировка устанавливает фокус исследования — «преобразующая личность», автор, использующий языковой материал для реализации своих коммуникативно-эстетических целей, подбирающий слова и организующий их в синтаксические ряды, — и указывает направление лингвистического анализа не только художественного, но любого текста. Исходным моментом в создании литературного произведения является замысел автора, причем характерной чертой этого замысла, который в своей непосредственности «ускользает» не только от «внешнего» научного анализа, но и от интроспекции самого творца, писатели, поэты, литературоведы, критики, философы разных стран и эпох считают цельность (целостность), единство. С другой стороны, цельность (целостность), единство, по-разному понимаемые, традиционно признаются важнейшим свойством «готового» художественного словесного произведения. Возникает вопрос: при воплощении единого замысла, лишь частично имеющего словесно-логический характер, в линейной последовательности языковых знаков, образующих целостный текст, обнаруживаются ли какие-то признаки, которые позволяют говорить о единстве этого языкового воплощенияфонетического, лексического, грамматического? В частности, возможно ли обнаружить в художественном тексте черты грамматического единствапарадигматического (единые принципы селекции и комбинации языковых знаков) и синтагматического (способы обеспечения линейного единства текста, закономерности смены его композиционно-синтаксических единиц)? Будет ли это грамматическое единство в равной мере характеризовать все художественные — прозаические и поэтические, сюжетные и лирическиепроизведения или в зависимости от формы речи и содержательной специфики факторы и признаки грамматического единства разных жанров текстов будут различаться?
Таким образом, при написании диссертации ставилась задача ответить на следующие вопросы, часть которых касается непосредственно художественного текста как объекта, а часть — методологии его исследования:
1) обладает ли художественный, прозаический и поэтический, текст грамматическим единством, обнаруживающимся парадигматически (в выборе из предлагаемых системой языка возможностей) и синтагматически (в их комбинации в линейной последовательности законченного словесного произведения);
2) как соотносится грамматическое единство художественного текста с его планом содержания и с его линейной организацией;
3) обнаруживается ли связь между единством художественного текста и его художественностью (в типологическом и оценочном смысле этого слова);
4) насколько широкими могут быть обобщения, касающиеся принципов грамматического устройства художественного текста: могут ли они относиться ко всем художественным текстам или будут непременно ограничены с жанровой, исторической, национальной или какой-либо другой точки зрения;
5) как с помощью ограниченного набора грамматических средств данного языка автор художественного текста решает разнообразные композиционные и содержательные задачи, обеспечивая развитие и единство плана содержания текста (модусного и диктумного) и осуществляя свою композиционную тактику — управление «ожиданиями» читателя, создание повествовательного ритма, «обработку» композиционных швов и др.;
6) какую единицу текста при его лингвистическом анализе продуктивно рассматривать как композиционный блок, компонент единого речевого произведения — текстовый композитив — и какие отношения устанавливаются между композиционными блоками в художественном тексте;
7) существует ли некий «промежуточный» уровень построения, декодирования и изучения текста между уровнем отдельных грамматических средств, подлежащим «ведению» лингвистики, и фикциональным миром или нарративной структурой текста, исследуемыми в различных направлениях современного литературоведения.
1.4. Положения, выносимые на защиту.
1) Художественному тексту, прозаическому или поэтическому, сюжетному или лирическому, в силу цельности авторского замысла и единства окончательного материального воплощения (отграниченная линейная последовательность предложений, снабженная жанровой этикеткой) присуще единство языковых средств реализации замысла, т. е. построения цельного произведения. Грамматическое единство текста обнаруживается а) в единстве принципов отбора системно-языковых грамматических средствб) в единстве принципов сочетания грамматических и лексических элементов в структуре текстав) в способах организации линейной последовательности знаков в тексте в целом, его композиционных блоках, отдельных предложениях. При этом обнаруживается диалектическое взаимодействие между текстом и его компонентами: набор релевантных лингвистических свойств единицы (предложения или регистрового блока) при ее изолированном рассмотрении отличается от набора ее свойств при рассмотрении ее как компонента текста.
2) Грамматическое единство художественного текста, взаимодействуя с факторами его линейной организации (порядком слов, длиной предложения, соотношением «количества» рассказывания и продолжительности рассказывания, речевым ритмом), является проявлением и служит обеспечением динамического горизонтального и вертикального единства двух сторон его плана содержания — модусной и диктумной.
3) Названные аспекты единства художественного текста (грамматическое единство, «линейные» объединяющие факторы, единство модуса и диктума в плане содержания) имеют непосредственное отношение к классификации и квалификации текста как художественного.
4) Композиционно-синтаксической единицей художественного текста является регистровый блок (композитив), регистровые блоки находятся между собой в парадигматических и синтагматических отношениях, именно регистровые блоки (принципы их выбора, построения, чередования и соединения) образуют искомый «промежуточный» уровень построения, декодирования и изучения текста, обращенный одной стороной к предложению, другой — к целому тексту: именно на этом уровне происходит переход от уровня отдельных грамматических средств к фикциональному миру сюжетного прозаического текста, его сюжету и системе персонажей и возникает множественность референции лирического текста;
5) Особенности грамматического устройства сюжетного и лирического текстов определяются различием их диктумного и модусного планов. Для сюжетного текста характерна многособытийность, а следовательно приоритет темпоральной последовательности над темпоральной отнесенностью («стандартная» временная формапретерит. для определенных типов повествования, как правило моносубъектных, тем самым склоняющихся к лирике, — презенс), многосубъектность (в результате чего встает проблема единства модусного плана). Грамматические принципы и средства построения сюжетного прозаического текста подчинены основной задачеразвитие сюжета, пропущенного через субъектные сферы внутритекстовых носителей сознания2. Вокруг сюжета «наращивается» фикциональный мир. В лирическом текстедоминирует монособытийность и/или модусный характер события (следствие этого — приоритет темпоральной отнесенности и концептуализации времени над последовательностью, а отсюда разнообразие временных форм), односубъектность (единство субъектного плана задано и подкрепляется типичной для лирики стихотворной формой), поэтому допустима фрагментарность, «раздробленность» диктумных мотивов. Задача организации сюжета и воплощения фикционального мира перед языковыми средствами не ставится. Их основная роль — создание суггестивного эффекта и установление множественной референции. «Герой эпосапроисшествие», то есть диктум, «героем лирики» может быть модус, само по себе отношение говорящего к содержанию высказывания. Поэтому в обеспечении единства лирического текста главную роль играют стихотворная форма и порядок компонентов (усиленная сукцессивность). Проявлением особой фикциональности лирики (невозможности «восстановить» фиктивный мир и установить однозначную референцию текста к нему) является амбивалентность предикатов, которая в свою очередь создает линейное и структурное (множественная референтность) единство. Класс лирических текстов и класс сюжетных строятся по принципу естественной классификации (центр — периферия3): помимо центральных, «прототипических» текстов, свойства которых указаны выше, существуют разные типы переходных явлений (проявления сюжетности в лирике и лиризации в сюжетном произведении), адекватное описание которых осуществимо в рамках нашего подхода.
6) Выводы, сделанные нами, являются собственно грамматическими, касающимися функционирования грамматической системы русского языка, возможностей ее реализации. Наблюдения над отдельными текстами через призму коммуникативно-грамматической теории позволяют говорить об общих принципах грамматического устройства художественного — прозаического и поэтическоготекста. Мы предполагаем, что в целом эти принципы, как и сама идея грамматического единства художественного текста, действуют и в литературных произведениях на других языках, хотя на их конкретное проявление будут влиять специфические свойства национальных языков, прежде всего характер линейной организации знаков в тексте. Ограничение действия обнаруженных закономерностей в русском языке не может происходить по историко-литературному или жанровому критерию, поскольку эти закономерности касаются возможностей построения текста, предоставляемых говорящему языковой системой. Это ограничение может быть связано только с изменениями в самой грамматической системе русского языка (например, перестройкой видо-временной системы). Последнее положение выдвигается в качестве гипотезы.
7) Набор морфологических и синтаксических средств в системе русского языка ограничен (две формы числа, три формы времени, определенный список моделей предложения и их модификаций и т. д.), но эти средства обладают огромным функциональным потенциалом, системно обусловленным и реализующимся и развивающимся при актуализации в тексте. Создатель художественного произведения — «человек, перед которым язык предстает как проблема, тот, кто ощущает всю глубину языка, а вовсе не всю инструментальность или красоту» [Барт 1987]4 -эффективно использует способность языковых средств выражать и модусные, и диктумные смыслы, одновременно участвовать в развитии плана содержания текста и формировании плана выражения. Таким образом, осуществление единства плана содержания и плана выражения художественного текста в его грамматике оказывается системно обусловленным.
8) В рамках представленной в, работе концепции появилась возможность расширить и уточнить исследовательский аппарат лингвистического анализа художественного текста: а) вводятся некоторые новые понятия, такие как общеперцептивная и частноперцептивная номинация, повествовательный ритм и состояние сознания (акциональное, перцептивное, рефлексирующее)] б) развиваются понятия точки зрения, регистрового шва, репродуктивного и информативного регистров, «нарративной мотивации» [Риффатер 1997]- в) уточняется отношение между грамматическими категориями текстового анализа и традиционными литературоведческими понятиями сюжет и система персонажей.
1.5. Научная новизна, теоретическая и практическая ценность работы.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в современной отечественной лингвистике осуществлена попытка исследования грамматического устройства словесных художественных произведений с использованием категории фикциональности, реализован подход к художественному тексту как целостному высказыванию с непрерывным диктумным и модусным планом. Сосредоточив внимание на проблеме единства художественного текста, мы делаем новые выводы и о тексте (прежде всего о связи между модусно-диктумным единством текста и его художественностью, о способах грамматического воплощения модусно-диктумного единства текста и взаимодействии грамматики с линейностью текста, о специфике единства произведений художественной сюжетной прозы, лирической поэзии и промежуточных форм), и о функциональном потенциале единиц и категорий языковой системы (видо-временных форм глагола, категории числа и др.).
Теоретическая ценность работы состоит не только в ее результатах, выносимых на защиту, но и в перспективах исследования, которые она намечает: рассмотрение вопроса о единстве драматического текста, проверка высказанных в работе гипотез о границах действия обнаруженных нами закономерностей (прежде всего на материале других языков), терминологическая работа по формированию метаязыка русской грамматики, дальнейшие поиски лингвистической опоры для литературоведческих категорий, совмещение результатов нашего, преимущественно внутритекстового анализа с интертекстовыми методами, что, в первую очередь, позволит дополнить наблюдения над ролью читательского модуса в формировании единства художественного текста.
Практическая ценность работы состоит в возможности применения выявленных закономерностей к исследованию конкретных художественных произведений, в создании основы для изучения того, как на уровне стиля отдельного автора осуществляется выбор из различных способов композиции регистровых блоков, оформления композиционных швов, взаимодействия грамматики и линейности и т. д. Положения, развитые в диссертации, и образцы анализа отдельных произведений могут быть использованы в курсах и пособиях по новой дисциплине университетского учебного плана специальности «русский язык и литература» — «Грамматика и текст», а также в курсах и учебниках по композиционно-синтаксическому анализу текста, по стилистике русского языка, поэтике русской литературы, теории литературы.
1.6. Апробация работы.
Результаты отдельных этапов исследования были представлены в докладах на российских и международных научных конференциях в период с 1994 по 1999 год, в том числе «Грамматические уроки XX века» (Москва, 1994), «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного» (Москва, 1996), «Семантика языковых единиц» (Москва, 1996, 1998), «Функциональная семантика языка, семиотика знаковых систем и методы их изучения» (РУДН, Москва, 1997), юбилейной сессии МАПРЯЛ «Теория и практика русистики в мировом контексте» (Москва, 1997), «Категоризация мира: пространство и время» (Москва, 1997), «Актуальные проблемы филологии в вузе и школе» (Тверь, 1996), «Экспрессия в языке и речи» (Москва, 1998), Международной конференции памяти Д. Н. Шмелева (Москва, 1998), «А. С. Пушкин и мировая культура» (Москва, 1999), Днях славистики в Андалусии (Баэса, 1996), ежегодных Виноградовских и Ломоносовских чтения в МГУ им. М. В. Ломоносова, семинаре в доме-музее М. Цветаевой (Москва, 1996).
Основные положения диссертации изложены также в печатных работах общим объемом 29 п.л., включая разделы в «Коммуникативной грамматике русского языка» (Г.А.Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова, 1998) и монографию «Грамматическое единство художественного текста» (М., 2000). Результаты исследования неоднократно представлялись и обсуждались на заседаниях кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, отражены в спецкурсах «Композиционно-синтаксический анализ художественного текста» и «Модели восприятия и языковые модели», а также в дипломных работах, подготовленных под руководством автора (24 сочинения).
1.7. Материал исследования.
Отбор текстового материала, рассматриваемого в работе, с одной стороны, был целенаправленным: он диктовался желанием представить тексты и русской классической, и советской «классической» литературы, и самых различныхизмов, как «популярные» среди лингвистов, так и пока еще обойденные вниманием, включая «интернетовскую» литературу С другой стороны, поскольку не концепция, априорно сформированная, определила селекцию иллюстративного материала, а наблюдения над материалом «генерировали» концепцию, то за тривиальной формулой научного стиля «Приведем пример.» в работе скрывается в основном обратное отношениепервичность текстового материала по отношению к анализу и выводам. В том, что касается представленных текстов, следует оговорить три момента. Во-первых, выбор и интерпретация материала неизбежно включали «вкусовой» элемент, поскольку речь в диссертации идет о художественности и в качественно-оценочном смысле. Соответственно, были использованы среди других литературные тексты, которые автору работы кажутся малохудожественными. Это индивидуальное отношение может быть высказано по ходу анализа в тех случаях, когда оценочная интерпретация обусловлена наличием или отсутствием в тексте единства в понимании, предложенном в диссертации. Во-вторых, в работе используются не только оригинальные русские тексты, но и переводные, поскольку нам представляется, что многие выявленные закономерности носят универсальный характер. Это предположение требует дальнейшего подтверждения, но аргументация, показывающая правомерность распространения ряда результатов исследования на другие языки, в диссертации приводится. В-третьих, мы сознательно прибегаем к анализу примеров, уже рассмотренных в работах других исследователей (Кв.Кожевниковой, И. Р. Гальперина, Н. Д. Арутюновой и др.). Это принципиально важно, так как помогает показать, что нового можно обнаружить в уже описанном текстовом материале при предлагаемом нами угле зрения.
1.8. Структура диссертации.
Работа состоит из введения, 3 глав и заключения.
Во введении представлены цели и задачи работы в свете современного состояния русской грамматической науки, кратко охарактеризованы объект и материал исследования, обоснована актуальность и новизна проблематики и научного подхода к ней, прояснены необходимые терминологические вопросы, определена научная школа, в рамках которой сформировалась предлагаемая концепция, и отношения с другими возможными подходами.
В Главе 1 дается более полное представление об объекте исследования и о его методе, обосновывается закономерность грамматического изучения текста и рассматриваются признаки художественного текста, в которых проявляются общие текстовые свойства целостности (единства) и коммуникативности, а также обсуждается та часть понятийного аппарата исследования, которая лежит вне пределов коммуникативно-грамматической теории. В частности в главе 1 демонстрируется связь между принципами грамматической организации произведений художественной литературы и такими характеристиками словесного искусства, как фикциональность и линейность (развертывание во времени). Также в главе 1 излагаются основные существующие в науке подходы к изучению связ (ан)ности текста и высказывается взгляд на связ (ан)ность как производный признак и одно из проявлений единства текста. Особое внимание уделяется функционированию художественного текста в эстетическом общении между автором и читателем, в частности динамическому взаимодействию между «ожиданиями» читателя и конкретными языковыми признаками текста.
Центральное место в диссертации занимает Глава 2, где излагается и иллюстрируется основная идея работы, обосновывается наше понимание грамматического единства художественного текста, определяются сферы проявления этого единства, исследуется реализация единства диктумного и модусного планов содержания прозаического текста в его грамматической организации и линейной последовательности означающих, поэтому в конце этой главы даны выделенные выводы, особенно важные для понимания концепции и результатов исследования. Мы также показываем, как языковые единицы и явления, традиционно являющиеся предметом лингвистического изучения (неопределенные местоимения, видо-временные формы глагола, повтор, парцелляция и др.) функционируют в художественном тексте, осуществляя его модусно-диктумное единство. В заключении Главы 2 грамматическое единство художественного текста рассматривается в историко-литературном аспекте и как критерий художественности.
Глава 3 посвящена поэтическим (преимущественно лирическим) художественным текстам. В ней устанавливается связь между их грамматической организацией, множественной референцией, ритмической упорядоченностью, повышенной сукцессивностью и суггестивным воздействием, выявляется определяющая роль модуса в лирике и исследуются грамматические средства ее осуществления, определяется специфика функционирования регистровой системы языка в лирических текстах, а также подробно рассматриваются случаи функциональной амбивалентности предикатов в лирическом тексте. Приводится образец грамматического анализа поэтического текста смешанного типа, соединяющего сюжетное и лирическое начало, — поэмы М. Цветаевой «Крысолов».
В заключении представлены основные выводы, даны некоторые методологические пояснения, которые не могли быть сделаны априорно, и намечены дальнейшие перспективы исследования.
2. Характеристика метаязыка описания. Некоторые используемые и не используемые термины и понятия.
В работе используются как лингвистические, так и литературоведческие понятия. Лингвистический аппарат анализа и описания в целом сформировался в рамках коммуникативно-грамматической теории Г. А. Золотовой [Золотова 1973; 1982]. Терминология традиционной грамматики используется в традиционном же смысле, привлекаемые из других грамматических концепций понятия уточняются по ходу изложения.
2.1. Использование лингвистических или литературоведческих терминов и введение понятий регулируется следующими общими принципами:
1) Результаты и методы исследования, основной конечной целью которого не является определение или уточнение некоторого понятия X, должны быть адекватны для наиболее тривиальному, общепринятому определению X, существующему в науке. В связи с этим, в частности, предполагается, что излагаемая концепция действительна для всех существующих пониманий «текста», включающих признаки целостности и коммуникативности.
2) Для любого научного исследования неизбежно и необходимо деление используемых понятий на имманентные (принадлежащие научному направлению, в рамках которого сложились и развиваются взгляды ученого) и внешние, «привлеченные» (по мере надобности заимствуемые из других теорий) — исходные, базовые, априорные, служащие инструментами анализа5, составляющие его аппарат, и «обсуждаемые», служащие объектами размышления и исследования. Базовые, «имманентные» термины коммуникативной грамматики, такие, как модель предложения, видо-временные функции предиката (аористив, перфектив, имперфектив), субъектная сфера, в работе не определяются, не только в связи с тем, что не являются новыми, вводимыми автором, но и поскольку являются однозначными — в русле соответствующей теории (см. предметный указатель к [Грамматика 1998]). Исключение сделано для термина «регистр», так как разные его употребления в современной лингвистической науке ранее не были сопоставлены.
3) Литературоведческие понятия используются в работе как внешние и априорные, несмотря на имеющуюся в науке неопределенность касательно некоторых из них. В этом мы опираемся на предложенное У. Марголином разграничение «неопределенности (расплывчатости) значения» и «неопределенности (расплывчатости) употребления» (vagueness of meaning и vagueness of use), у литературоведческих терминов, или «предикатов» [Margolin 1981]: «А concept may be clear and well-defined, but if it is very abstract, we may not know (as yet) how to apply or use it in individual cases and how to test empirically the truthfulness of statements in which it occurs. Conversely, one may have a clear idea how to use a concept correctly even though the very meaning of the concept is unclear and debatable. A good example is the notion of intelligence and the various I.Q. scales and tests. In general, it seems advisable to speak in this context of critical concepts, or predicates, not terms, since vagueness is in my view a conceptual and not a linguistic phenomenon». Эти виды неопределенности естественны для литературных понятий вследствие их генезиса вне строгой научной теории: «Most literary critical concepts. are either taken over from ordinary language, i.e. presystematic cultural awareness, or at best occur in a number of loose pretheoretical systems („approaches“). Some initial measure of intensional vagueness is hence inevitable for all such concepts» [Margolin 1981; 16].
У.Марголин предлагает классификацию литературоведческих понятий в соответствии с «расплывчатостью» их значения, основанную на двух координатах — смысл и референция. Большинство используемых нами литературоведческих терминов принадлежат к группе 2 в классификации Марголина: «reference class is well-defined, but. set of central features, whole specified, is in principle open" — «such predicates are. exact within the confines of each individual theory». Для значения таких «предикатов» существует набор необходимых признаков, разделяемых всеми теориями, плюс дополнительный набор достаточных признаков, различающихся от теории к теории. Иными словами, единый, универсальный набор необходимых и достаточных критериев для них отсутствует. Этим они отличаются от более «определенных» предикатов группы 1, таких как ямб, пентаметр, анафора6 К таким терминам относятся все «генерические», жанровые, классификационные, начиная с наиболее общих — художественный текст, лирика и т. д. Наше отношение к ним определяется пп. 1), 2) выше и .2.2.1. ниже.
2.2. Имея в виду эти три замечания, касающиеся принятого в работе метаязыка описания, перейдем к конкретным терминологическим уточнениям и разъяснениям.
2.2.1. Поскольку задачи диссертации предполагают выявление грамматических свойств не отдельного текста, не всех текстов вообще, а групп текстов (художественных прозаических и поэтических — с разным соотношением сюжетного и лирического начал), необходимо уточнить границы этих групп, или жанров, текстов. Использование в диссертации «генерических», жанровых (в широком смысле слова) терминов обусловлено сознательным выбором одного из двух существующих подходов к жанровой таксономии текстов, которые могут быть определены как «конвенционализм» и «номинализм» [Ryan 1981]. Эти два подхода различаются отношением к жанрам как к базовым единицам, наличествующим независимо от таксономической схемы, или как к единицам, возникающим в результате классификации. В первом случае жанры речевой коммуникации признаются существующими «до классификации» как конвенциональные единицы, «man-made but not nature-made». С точки зрения исследователя жанры предстают как нечто данное, существующее в сознании носителей той или иной культуры. «Genres are not essences. They are human institutions, historical through and through» [Pratt 1981; 176]. Соответственно, частные жанры следует рассматривать как объекты, а не инструменты исследования [Ryan 1981; 110], инструментальным научным понятием является лишь общее понятие жанра. Из второго подхода логически вытекает, что жанровые «этикетки» во власти и компетенции исследователя, что есть варианты разграничения жанров и требуется найти самый «полезный» способ. При этом следует избегать «этикеток», используемых читателями, писателями и продавцами литературы, заменяя их на «технический метаязык для эксклюзивного использования литературоведами». В таком случае жанровая классификация не будет отражать жанровую компетенцию пользователя, прежде всего «the user’s awareness of already distinct discourse categories». Компромиссная точка зрения предполагает сосуществование «этнических жанров» и «аналитических жанровых категорий» (Д.Бен-Амос) [Ryan 1981; 112−113].
Аналогично, польский лингвист Ст. Гайда, в русле осмысления жанров как «классов текстов, исторически признанных таковыми», ведущего начало от работ М. М. Бахтина (П.Н.Медведева) и Цв. Тодорова, проводит разграничение генологических предметов («форм структурной организации, существующих в конкретных текстах»), генологических названий и генологических понятий («обиходных, соответствующих сознаваемой через язык компетенции составных частей общественного языкового сознания», и «научных, создаваемых в генологических теориях») [Гайда 1980; 23]: «Таким образом, жанр — это элемент действительности, факт общественного сознания и инструмент научного описания» [Гайда 1980; 24]. Жанры как типы текстов оказываются на пересечении общественного (набор жанровых этикеток, существующих в культуре, и норм, регулирующих каждый жанр) и индивидуального (жанровая компетенция отдельного говорящего и реципиента, желание автора строго придерживаться жанровой нормы или отклониться от нее) — материального (они представлены в наборе текстов) и идеального (принципы их создания и интерпретации заложены в сознании носителей языка): «Обиходное понятие жанра складывается под воздействием группы свойств текстов. Эти признаки — прагматические, семантические и синтаксические (в семиотическом языке) — своею повторяемостью институционализируются, а тексты создаются и воспринимаются через отношение к норме, которую диктует такая институционапизация. Итак, жанр функционирует как горизонтальные ожидания для слушающих и модель создания для говорящих, как существующий интерсубъективно комплекс указаний, регулирующих определенную сферу языкового поведения (текстов) и имеющих разную степень категоричности <.> .Жанровая действительность вмещает факты как материальные — тексты, так и нормативныеобщественную жанровую компетенцию, более или менее интериоризированные жанровые нормы, о которых можно получить представление на основании самих текстов и высказываний о них. Эти факты наука соотносит с научными понятиями, созданными в процессе взаимодействия субъекта и объекта познания» [там же- 25].
Мы полагаем, что конвенциональный подход более уместен в грамматическом исследовании художественного текста и придерживаемся его. Это не препятствует, а способствует выявлению в ходе лингвистического анализа определенных признаков, которые представляются нам специфическими для художественного текста вообще, прозаического сюжетного текста (например, приоритет репродуктивного регистра и наличие «развивающегося» модуса), лирической поэзии (например, функциональная амбивалентность предикатов), переходных жанров. Однако не лингвистические о данные обуславливают жанровое разграничение, а жанровые конвенции предполагают тот или иной способ интерпретации лингвистических данных [Веаидгапс)е 1978] [Гайда 1980].
В данном исследовании границы корпуса текстов художественной литературы7 и понятие художественности (в типологическом смысле) определяются а) конвенциональным фактором, прежде всего жанровой «этикеткой» и сферой функционирования («местонахождением») текстовб) фикциональным характером этих текстовв) тем, что эти тексты, как правило, имеют специфические языковые признаки, осознаваемые на фоне жанровой принадлежности и фикционального характера текста.
Указанные признаки взаимосвязаны (авторское или издательское определение текста как «романа», «рассказа», «эссе», «лирического стихотворения», «рекламного текста» и т. п.' обуславливает используемые для его создания языковые средства и способ их «прочтения" — языковые средства художественного текста нацелены на построение фикционального мира, а не на прямую референцию к реальной ситуации действительности), но они могут в конкретном словесном произведении проявляться в разной степени. Только первый из них сам по себе является достаточным для того, чтобы текст функционировал как литературно-художественный8.
Фикциональность как организующее начало мира художественного произведения и его словесного воплощения рассматривается в Главе 1 в русле западных теорий фикциональности [Женетт 1997; 1998а], [Риффатер 1997], [Изер 1997], «переросших» в последние годы популярные прежде нарратологические подходы прежде всего из-за большей опоры фикциональных теорий на языковую материю текста.
Конвенциональная составляющая определения художественной литературы заключается в приписывании некоторым типам текстов в определенной культуре в ту или иную эпоху свойства «художественности» (не оценочной, но типологической), чем задается способ создания, передачи и восприятия9 соответствующих словесных произведений. «Наклеивание этикетки», как правило жанровой, производится либо автором, который тем самым берет на себя определенные обязательства, касающиеся содержания и формы текста, и создает у читателя соответствующие ожидания (тем более сильные и «предсказующие», чем выше квалификация читателя10) [Веаидгапс)е 1978] (см. также с. 181 настоящей работы), либо реципиентом, который в соответствии со своей читательской квалификацией присваивает тексту жанровое определение, совпадающее или не совпадающее с замыслом автора. «Жанровая форма произведения определяет его субъектную организацию, образ адресата, характер коммуникации „автор-читатель“, модель временных и пространственных отношений, которая реализуется в тексте» [Николина 1999; 259].
Конвенциональная составляющая исторически изменчива. Так, жанр «Путешествий», первоначально полностью находившийся за пределами художественной литературы, постепенно вошел в нее [Шенле 1997], соответственно тексты «Путешествий» стали подразделяться на фикциональные и нефикциональные, художественные и нехудожественные [Шоков 1989] [Дадыкина 1998]. См. также [Якобсон 1987; 324 и далее] об отличии «прозы поэтических эпох, литературных течений, идущих под знаком поэтической продукции», от «прозы литературных эпох и школ прозаической инспирации" — [Wellek, Warren 1973; 20 — 27] о возможных объемах понятия literature- [Champigny 1981] о «растворении» (dissolution) лирики и нарратива в современной литературе- [Riffaterre 1995], где возможность перехода текста из категории исторических в категорию литературных рассматривается как доказательство независимости интерпретации произведения от воли автора- [Smith 1998], где взаимодействие между жанром «Путешествий» и эпистолярным жанром в Англии в 18 веке анализируется через призму категории фикциональности и исторически изменчивых жанровых конвенций «путешествия" — [Николина 1999] о различных формах межжанрового взаимодействия (архитекстуальности) — включении одной жанровой формы в другую, преобразовании жанровых форм (контаминация жанров, жанровая транспозиция, пародийная стилизация), соположении самостоятельных жанров.
Осознание авторами и потребителями литературных текстов важности генерической «этикетки» подтверждается не только хрестоматийными дискуссиями вокруг жанрового определения «Евгения Онегина» как романа в стихах и «Мертвых душ» как поэмы, но и стремлением современных «разрушителей» и изобретателей жанров (несмотря на прокламируемый порою отказ от термина «жанр» в связи с желанием «де-программировать читателей, освободив акт письма от конвенций любого рода» [Ryan 1981; 19] [Давыдова 1997]) эксплицировать тип текста в подзаголовке и даже разъяснить в сноске, особенно если само название уже содержит жанровое определение: роман А. Слаповского «Анкета» определяется автором как Тайнопись открытым текстом- «Чужие письма» А. Морозова — как Этопея (в сноскеправдоподобные речи вымышленного лица): «Баллончик» Ю. Малецкого — как Попытка дискурса- «Хазарский словарь» М. Павичакак Роман-лексикон в 100 ООО слов. Женская версиянаконец произведение В. Аксенова «Поиски жанра» носит подзаголовок Поиски жанра и т. п.
Кроме жанровой этикетки, конвенциональный фактор включает «местонахождение» текста. При своей внешней неуклюжести это слово более точно, чем «сфера функционирования» отражает суть дела: местонахождение текста — то место, где читатель находит, обнаруживает текст. Текст воспринимается как относящийся или нет к художественной литературе в зависимости от того, например, находится ли он «физически» в газете или толстом литературно-художественном журнале, в последнем случае — в зависимости от рубрики. Если книга под названием «Хазарский словарь» обнаруживается на библиотечной полке под разделителем «Сербская литература», она функционирует (ее текст читается) как художественная (-ный), в отличие от книг с аналогичным названием, помещающихся в разделе «Словари».
Если «обиходное понятие жанра складывается под воздействием группы свойств текстов», значит существуют и лингвистические признаки, характерные для разных типов словесных произведений: для художественного текста вообще, прозаического сюжетного текста (например, приоритет репродуктивного регистра и наличие «развивающегося» модуса), лирической поэзии (например, функциональная амбивалентность предикатов), переходных жанров. Однако в лингвистическом исследовании не языковые данные обуславливают жанровое разграничение, а жанровые конвенции предполагают тот или иной способ интерпретации языковых данных.
На самом деле противопоставление жанровых конвенций и языкового облика текста довольно условно: первые не существуют без второго и наоборот. Этот факт, связанный с другим аспектом понятия жанр — «жанр и действительность» (т.е. тематическая ориентация жанра «на жизнь»), высветил в дискуссии с формалистами П. Н. Медведев. Указывая, что именно из жанра должна «исходить» поэтика, Медведев формулировал «проблему жанра как проблему целого»: «Реально произведение лишь в форме определенного жанра. Конструктивное значение каждого элемента может быть понято лишь в связи с жанром. <.> Жанр есть типическое целое художественного высказывания, притом существенное целое, целое завершенное и разрешенное. Проблема завершения — одна из существеннейших проблем жанра. <.> У каждого искусства в зависимости от материала и его конструктивных возможностей — свои способы и типы завершения. Распадение отдельных искусств на жанры в значительной степени определяется именно типами завершения целого произведения. Каждый жанр — особый тип строить и завершать целое, притом, повторяем, существенно, тематически завершать, а не условно — композиционно кончать» [Медведев 1998; 248 — 249]. Под «тематическим завершением» понимается неразрывная связь между «процессом видения и понимания действительности и процессом ее художественного воплощения в формах определенного жанра»: «Художник должен научиться видеть действительность глазами жанра. Понять определенные стороны действительности можно только в связи с определенными способами ее выражения. С другой стороны, эти способы выражения применимы лишь к определенным сторонам действительности. Художник вовсе не втискивает готовый материал в готовую плоскость произведения. Плоскость произведения служит уже ему для открытия, видения, понимания и отбора материала» [там же- 254]. Анекдот и роман — жанры, а значит разные точки зрения на мир, а не «случайные комбинации случайных приемов» [там же- 255]. Тема не вкладывается в высказывание, «как в ящик» -она формируется в самом жанре. «Человеческое сознание обладает целым рядом внутренних жанров для видения и понимания действительности» [там же- 254], и эти жанры обладают внутренней тематической определенностью (принципами отбора, видения и понимания определенных сторон действительности с определенной «широтой охвата и глубиной проникновения») [там же- 251]. Каждый элемент художественной структуры осуществляет тему и жанр в неразрывном единстве. Таким образом, с понятием жанр оказываются связаны и такие важные свойства художественного текста, как целостность произведения и самоценность языковой формы.
2.2.2. Использования терминов нарратив, нарративность, наррация (кроме как в цитатах) мы сознательно избегали в связи с их исходной, сформировавшейся в западной лингвистике многозначностью и сложившейся в последние десятилетия «разноголосице» в соотнесении их с русскими терминами того же круга — рассказ, рассказывание, рассказываемое^, повествование. Перечисленные русские термины, с одной стороны, традиционно функционировали независимо от западных, с другой — в последние десятилетия приняли на себя роль их переводных эквивалентов.
Еще более ситуацию запутывает то, что ряд франкоязычных работ по нарратологии и грамматике повествовательного текста был первоначально воспринят отечественными лингвистами в английском переводе, что обусловило экспансию терминов с основой нарративв научные определения и рассуждения, где они исходно отсутствовали. Для подтверждения этого достаточно сравнить французский оригинал «Проблем общей лингвистики» Э. Бенвениста [Benveniste 1963] с его русской рецепцией, в частности в работах Е. В. Падучевой [Падучева 1990, 1991, 1996].
Следование французскому оригиналу создает, напротив, терминологический «разрыв» между русской и англоязычной интерпретацией: так, во французском и русском тексте работы Ж. Женетта «Повествовательный дискурс» [Женетт 1998] («Discours du recit», «Narrative Discourse» — translated by J. Lewin (1980)) выделяются три значения «слова recit [рассказповествование]», для которых вводятся разграничивающие термины: «.история (histoire) для повествовательного означаемого или содержания.- повествование в собственном смысле (recit) — для означающего, высказывания, дискурса или собственно повествовательного текстанаррация (narration) — для порождающего повествовательного акта и, расширительно, для всей в целом реальной или вымышленной ситуации, в которой соответствующий акт имеет место» [Женетт 1998; 62 — 64]12. В английском же варианте [Genette 1980; 25 — 27 ] речь идет о трех значениях термина нарратив (narrative), соответственно отмечаемых терминами story, narrative, narrating. Если переводчик Женетта (Н.Перцов) максимально обеспечил соотнесение русских эквивалентов с французскими терминами, то русская версия известной работы Р. Барта «Введение в структуральный анализ повествовательных текстов» (оригинал — Barthe R. Introduction a l’analyse structurale des recits // Communications 8. Paris, 1966; перевод — [Барт 1987a] -сверен Е.Л.Крепковой) представляет собой метаязыковую загадку. Терминологическое соответствие, заявляемое в переводе заглавия: recits = повествовательные тексты. Но на первых же страницах русский читатель обнаруживает «повествование» и «рассказывание», непонятно как соотносящиеся между собой и с переводным названием работы: «Не перечислить всех существующих на свете, повествований. <.> Более того, рассказывание — в почти необозримом разнообразии своих форм — существует повсюду, во все времена в любом обществе. Где же следует искать структуру повествовательного текста?» [Барт 1987а- 387−388]. Далее, естественно, появляются термины с основой нарратив- («нарративная коммуникация», знаки нарративности" и др.) и слово «рассказ»: «.Любой рассказ имеет подателя и получателя» [там же- 410]. Без обращения к французскому тексту невозможно понять, одно и то же французское слово обрастает в русской версии «двойниками» или переводчик все-таки сохраняет отношение «один-к-одному» и терминологическое «чередование» на совести автора. Независимо от того, насколько сам Барт относится к употреблению указанных французских слов как к терминологическому, при обсуждении концепции Барта на русском языке, при создании «вторичного» научного текста, эти слова-«двойники» волей-неволей приобретают терминологический смысл: из слов-привидений могут возникнуть мифические сущности13.
Прежде чем слова нарратив, нарративность обретут терминологический статус^следует договориться прежде всего о границах его применения относительно устной и письменной форм речи и реальности/вымышленности повествуемых событий. См., например, [Топоров 1995; 168 — 169] об отличии нарративности «Бедной Лизы» Карамзина от нарративности русских повестей восемнадцатого столетия.
2.2.3 Из лингвистических понятий, активно используемых сейчас для анализа целостных речевых произведений, за рамками нашего исследовательского подхода находится и понятие дискурс.
Во-первых, оно в современном научном употреблении гораздо более расплывчато, чем текст — и с точки зрения количества определений, предлагаемых разным учеными, и с точки зрения качества этих определений [Структурализм 1975; 453 — 454] [ЛЭС 1990; 136 — 137] [Квадратура 1999; 25 -26]. Аналогично тому, что было сказано о «нарративных» терминах, сопоставление оригинальных русско-, англои франкоязычных работ и их переводов показывает, что в результате замены (причем непоследовательной) нового термина «дискурс» на «текст» или «речевое произведение» в первых переводах соответствующих западных работ на русский язык [НЗЛ 1978], и, с другой стороны, «вторжения» «дискурса» в, пусть немногочисленные, иностранные переводы русской филологической литературы, в оригинале этого термина не содержащие14, представление не только о том, как используется понятие «дискурс», но и о том, кем оно используется, оказывается различным у лингвистов, работающих с трудами разноязычных коллег в оригинале или переводе.
При этом термин дискурс гораздо более, чем текст, нуждается в строгом определении. Между понятиями текст и дискурс есть огромное, всё определяющее различие: понятие текста не нуждается в онтологическом «оправдании». При всех вариациях в его определении оно относится к реальному материальному объекту (объектам), который (которые) можно предъявить (грубо говоря, указать на него пальцем). В русле текстового подхода реализуема следующая стартовая логика исследователя: «вот текст и я буду говорить о нем». Дискурс в силу своего несуществования в виде конкретного, «предъявимого» объекта нуждается в точном определении, прежде чем о нем можно будет «говорить». В отличие от текста дискурснаучный конструкт, результат обобщающе-классифицирующей работы научной мысли: это текст + X, или совокупность текстов по признаку У, или нечто, вычлененное из текста. Для всякого объекта, онтологическая реальность которого сомнительна, требуется четкое гносеологическое «оправдание». Аналогия с естественными науками: для описания и изучения отдельного животного как мыши или слона, достаточно утверждения, что это мышь или слондля исследования класса млекопитающих требуется доказательство его существования, т. е. научное обоснование общности между слоном и мышью, которая позволяет их объединить в один объект изучения. Прежде чем дискурсивные теории приобретут инструментальный статус в лингвистике, они должны, вероятно, доказать не только обоснованность, но и продуктивность утверждений, подобных следующим: «Под дискурсом понимается текст связной речи [курсив наш — М.С.], состоящий из последовательности коммуникативных единиц языка, превышающих по объему простое предложение, которые находятся в смысловой связи выраженной лингвистическими средствами. Не всякий текст представляет собой дискурс» [Борботько 1981; 19]- «.Повествовательный дискурс. представлен в литературе вообще как повествовательный текст» [Женетт 1998; 64]- «Дискурсом. следует признать всю языковую продукцию, в которой реализуются основные функции языка» [Медведева 1999; 42] и т. п. Наиболее четкое понимание термина дискурс, в котором он мог бы быть противопоставлен термину текст — нарратологическое (англоязычное): различие между тем, что рассказывается, и тем, каким образом рассказывается («а distinction between what is told — the story — and the means by which it is told — the discourse» [Chatman 1998]). Однако в этом случае в конкуренцию вступают термины с основой нарративи терминология становится еще более неоднозначной — см. п. 2.2.2. выше.
Во-вторых, нам представляется, что в современной лингвистике, занимающейся целостными речевыми произведениями, можно говорить о противопоставлении (не перешедшем пока в конструктивное взаимодействие) «текстового» и «дискурсивного» мышлений15. Концепция, представленная в диссертации, сложилась в рамках «текстового» подхода и может быть изложена и воспринята только через его призму.
Наконец, в-третьих: приведенные выше аргументы касались лингвистического понимания дискурса, однако «анализ дискурса» в современной науке представлен целым рядом направлений, общая тенденция которых — движение за пределы собственно лингвистического знания. Школы дискурсного анализа (социально-политическая, культурно-историческая, филологическая, структурно-лингвистическая) различаются «как методологическими приемами, так и терминологической базой» [Медведева 1999; 40]. Если работы французских и швейцарских дискурсологов (П.Серио, Ж. Санфа, Д. Мальдидье, Ж. Гильому, М. Пешё, Ж. Дюбуа, Ж. Женетта и др) все-таки удерживаются в рамках филологического и структурно-лингвистического направлений16, то англоязычный «анализ дискурса» связан прежде всего с прикладными аспектами взаимодействия лингвистики с другими науками, располагается где-то на пересечении социолингвистики, психолингвистики, теории и практики коммуникации, антропологии и т. п. Теория дискурса пополнила ряды теорий, которые «соединяют тексты и практику» [Hirschman, Scott 1998]. В журналах по образованию рассматриваются разные модели «преподавательского дискурса» (различные способы передачи знаний, баланс объяснения и обсуждения на классных занятиях, иерархия ролей учителя и учеников в коммуникации и др., см. например [Hardman, Williamson 1998]) — в журналах по рекламе — «модели товарного дискурса», описывающие функционирование «потребительских текстов» в потребительской практике и культуре, обретение товаром через «потребительский текст» статуса символа, взаимодействие «истории культуры», бытовой практики и текстов о товаре в формирование дискурса, складывающегося, например, вокруг потребления кофе [Hirschman, Scott 1998]- в изданиях по деловой и технической коммуникации — возможность использования традиционной риторики при обучении общению в этих сферах — «инструментальному дискурсу», коммуникационные способы решения личных, организационных и культурных проблем на рынке, общие черты и различия «гуманитарного» («идеологического») и «инструментального» дискурсов [Kreth, Miller 1996]. Ясно, что такая проблематика далека и от целей нашего исследования, и от нарратологического понимания «дискурса».
2.2.4. Наиболее важным и частотным в работе «внутренним» термином является регистр (коммуникативный регистр, регистровый блок, регистровый композитив). Понятие регистра [Золотова 1982; 1986] [Грамматика 1998] является центральным в коммуникативной грамматике, в отличие от омонимичных понятий, применяющихся спорадически и носящих периферийный характер в стилистике и социолингвистике, а также в предпринимаемых в других областях языкознания попытках описать язык как набор существующих в языковом опыте подсистем и характер их сочетаемости, а речь (текст) — через «установление тех факторов (социальных, культурных, прагматических), которые обусловливают смену регистров, т. е. выбор тех или иных правил, необходимых для осуществления определенного ситуационного задания» [Живов, Тимберлейк 1997; 5]. Все эти употребления термина «регистр», как и коммуникативно-грамматическое, хранят след его «музыкального» происхождения, в них заложена идея «переключения» регистров «исполнителем"-говорящим, но акцент делается на социальной гетерогенности языка, например, наличии таких его вариантов, как женская и мужская речь в тех культура, где между ними существуют языковые различия, устный и письменный стиль, детская речь, юридический жаргон и т. п. [Ryan 1981]. В этом случае постулирование регистровой вариативности языка выступает как дополнение либо аналог теории функциональных стилей или же как ее корректировка [Швейцер 1977; 105 — 109] [Лаптева 1997], отражая «очевидную разнородность факторов членения русского литературного языка на разновидности» [Лаптева 1997; 156]. Так, А. Д. Швейцер, указывая, что в своем социолингвистическом/ стилистическом употреблении термин «регистр» заимствован из западной лингвистики, в частности из работ М. А. Холлидэя [Швейцер 1977; 105 — 106], предлагает использовать его применительно к «ситуативно обусловленному варьированию норм"17.
В то же время делаются попытки установить связь между социолингвистическим/стилистическим и грамматическим пониманием регистра. В. Живов и А. Тимберлейк от утверждения, что «по существу всякое языковое поведение — это поведение билингвы» [там же], языковой личности, стремящейся путем выбора регистра приспособить свои языковые навыки к конкретной социальной ситуации, переходят к выводу о наличии у разных регистров разных грамматик, которые лишь условно, в целях удобства описания традиционно «объединяются» в единую грамматику языка: «.0 грамматике языка в целом мы говорим лишь условно, как о совокупности общих характеристик грамматик отдельных регистров» [Живов, Тимберлейк 1997; 7].
О.А.Лаптева видит в «пересадке» коммуникативно-грамматической типологии регистров (правда, в трактовке, сильно отличающейся от авторской) на стилистическую почву альтернативу «атомарной сущности и выраженной экстралингвистической направленности» теории функциональных стилей [Лаптева 1997; 156] и соотносит эту классификацию с тремя типами русского литературного языка по Д. Н. Шмелеву (специальный, художественный, устно-разговорный) и другими факторами членения литературного языка (тема, вид речи — диалогическая/монологическая, способ осуществления речиспонтанная или подготовленная и т. д.).
Единственное известное нам вне концепции Г. А. Золотовой грамматическое использование термина регистр — у Ж. П. Декле. Текстовое функционирование категорий вида и времени ставится в зависимость от регистров (режимов референции): registre (ou referentie!) enonciatif противопоставляется differents registres (ou referentiels) narratifs [Desdes 1994]. Это противопоставление соответствует оппозициям, описанным в другой терминологии у Benveniste (discours/histoire), Weinrich (enonciation/narration), Seiler (actuel/non actuel), Culioli (enonciatif/aoristique), Danon-Boileau (deictique/anaphorique) [Descles 1994; 62]. В нарратологии термин регистр в работах Цв. Тодорова неудачно конкурировал с терминами модальность, модус повествования, которыми пользуются Ж. Женетт и Р. Барт, для обозначения дистанции между говорящим и тем, что он изображает или рассказывает отвлеченно (showing vs telling) [Женетт 1998; 67].
Г. А.Золотовой «коммуникативные типы, или регистры, речи определены как понятие, абстрагированное от множества предикативных единиц или их объединений, употребленных в разнородных по общественно-коммуникативному назначению контекстах, сопоставленных и противопоставленных по совокупности следующих признаков. Прежде всего, это а) характер отображаемой в речи действительности (динамика действия, процесса противостоит статике качества, отношения) — б) пространственно-временная дистанцированность позиции говорящего или персонажа-наблюдателя и — соответственно — способ восприятия, сенсорный или ментальный (конкретно-единичные, референтные предметы, действия, явления противостоят обобщенным, нереферентным) — в) коммуникативные интенции говорящего (сообщение, волеизъявление, реакция на речевую ситуацию)» [Грамматика 1998; 393]. На основе названных критериев выделяются регистры: репродуктивный (в двух разновидностях — описательной и повествовательной), информативный (описательный и повествовательный), генеритивный — в монологической речив диалогической речи к ним прибавляются волюнтивный и реактивный.
Создаваемые взаимодействием 'функционального и структурно-семантического планов, коммуникативные регистры реализуются в конкретных высказываниях, текстах или их фрагментах, блоках. Противопоставленность регистров получает выражение в наборе языковых характеристик регистровых блоков" [Грамматика 1998; 393]. Коммуникативные регистры представляют собой одновременно функциональные группировки средств системы языка и способы текстового моделирования действительности. Продуктивность регистрового подхода продемонстрирована в последние годы в работах как системно-грамматической, так и текстово-грамматической ориентации: [Дручинина 1987] [Онипенко 1994, 1997, 1998, 1999] [Сидорова 1994, 1996аб, 1997, 1998, 1999аб, 2000] [Герасименко 1992] [Бакланова 1998] [Букаренко 1998] [Хон Чжун Хюн 1998] [Бао Хун 1998] и др.
Нас в структуре прозаического художественного текста более всего будут интересовать регистры репродуктивный и информативный, поскольку именно в них может разворачиваться повествование и к ним принадлежит наибольшее число композиционных блоков текста.
Регистровый блок — не единственный способ композиционного членения текста с лингвистической точки зрения. На всем протяжении развития отечественной лингвистики текста, начало которой было положено трудами В. В. Виноградова и Н. С. Поспелова, ученые понимали, что «между предложением как исходным пунктом, основным „строительным материалом“ и законченным словесным произведением, представляющим собой сцепление большего или меньшего числа предложений, не может не быть промежуточных звеньев в виде более или менее крупных объединений предложений» [Солганик 1991; 4]. Общий фокус в поисках единицы текста, в желании обнаружить принципы объединения составляющих его предложений в 60-енач. 80-х годов определила М. И. Откупщикова: «Б качестве единицы текста большинство исследователей выделяют линейное единство состоящее и последовательности нескольких предложений. При этом подчеркивается интонационная оформленность этого единства, законченность смысла (мысли) и различные структурные характеристики» [Откупщикова 1982; 31]. Называться эта единица могла по-разному — период, абзац, сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство (СФЕ), фрагмент, прозаическая строфа18, складень [Фигуровский 1974], энонсемг [Борботько 1981], диктема [Блох 1987], сверхфразовое образное единство [Волошина, Венгеровская 1987] и т. п. — но смысл был один: эта единица оказывалась целиком и полностью синтагматической, ни в какую парадигму, связывающую ее с системой языка она не могла быть встроенакроме того, эта единица была лишена функциональной нагрузки. В результате обнаруженный «промежуточный уровень» скорее не соединял предложение и текст, синтаксис предложения и синтаксис текста, а разделял их. Даже эксплицитное «заявление» прозаической строфы как единицы и синтаксической, и стилистической: «С одной стороны, она представляет собой определенную синтаксическую модель, определенный тип соединения самостоятельных предложений. С другой, будучи более законченным в тематическом и смысловом отношении отрезком речи, чем предложение, она выявляет существенные стилевые особенности текста» [Солганик 1991; 6], — хотя и помогло найти определенные «синтаксические модели» организации строф (последовательные, параллельные, анафорические), не выявило ни системного соотношения между той или иной возможностью построения, ни закономерностей функционирования предложений и низших синтаксических единиц в строфах разного типа, ни принципов композиции прозаических строф в текстах разных жанров в зависимости от коммуникативного намерения автора. Некоторые закономерности взаимодействия авторского начала и общих закономерностей построения (художественного) текста, а также типовые комбинаторные модели удалось уловить лишь для традиционных -«функционально-смысловых типов речи», или «форм изложения» — повествования, описания, рассуждения [Нечаева 1974] [Арват 1987] [Березовская 1987]. В рамках традиционной, описательной грамматики поставленная задача была невыполнима.
Типология абзацев, СФЕ, сложных синтаксических целых фактически остановилась на выделении пограничных (начальных и конечных) и внутренних абзацев и попытках сочетать эту «классификацию» с классификацией композиционно-речевых форм (описание, повествование, рассуждение, монолог, диалог). Очевидно, что вывод типа: «Каждый письменный прозаический текст состоит из абзацев (реже — одного абзаца), одни из которых являются внутренними, другие внешними», — не может удовлетворить современную лингвистику.
Большое разнообразие выделявшихся единиц, отсутствие четких принципов их разграничения, невозможность выявить композиционно-синтаксические закономерности, по которым СФЕ, сложные синтаксические целые, абзацы образуют целостный текст — все это приводило, во-первых, к сосредоточенности на выявлении способов синтаксической связи внутри выделенных фрагментов и между ними, во-вторых, к еще большему умножению «единиц» текста и затемнению отношений между ними. Приведем лишь несколько примеров. В [Чернухина 1974] на основе выделения в связном тексте двух уровней — «структурно-смыслового» и «собственно семантического» -противопоставляются три не совпадающих друг с другом единицы строения текста: единица семантического уровня — абзац, и две единицы структурно-семантического уровня — сложное целое («образование, состоящее из самостоятельных предложений, обладающих структурно-смысловой корреляцией») и сверхфразовое единство («образование, состоящее из самостоятельных предложений, которые обладают структурно-смысловой корреляцией одного способа выражения, одного типа и одного направления») [Чернухина 1974; 150]. В [Солганик 1991] речь идет и о сложном синтаксическом целом, и о прозаической строфе («группе тесно взаимосвязанных по смыслу и синтаксически предложений, выражающих более полное по сравнению с отдельным предложением развитие мысли», в логике ей соответствует «логическое единство» [Солганик 1991; 78]), и о фрагменте («семантико-синтаксической единице, состоящей из двух или нескольких прозаических строф, объединенных развитием одной темы (или ее аспекта) и связанных с помощью специальных синтаксических средств» [там же- 153]), и об абзаце, не имеющем особой структуры, «своеобразном знаке препинания» [там же- 172].
Докоммуникативная" грамматика в поиске единиц синтаксического устройства текста не обратилась к фигуре говорящего, волей которого эти единицы формируются, чередуются, объединяются в текстовом целом. Изучение абзацев и СФЕ практически не пересекалось с разрабатывавшимися в то же время в стилистике и поэтике концепциями образа автора.
Только в рамках грамматики коммуникативной, функциональной, антропоцентрической от конкретных текстов смогли быть отвлечены «однородные структурно-композиционные формы речи, объединенные внутри и противопоставленные друг другу по способу восприятия или познания мира (и соответственно по типу ментального процесса), по категориальному характеру воспринимаемых явлений и по коммуникативным интенциям говорящего» [Грамматика 1998; 29], — коммуникативные регистры. Внутреннее единство каждой «структурно-композиционной формы речи» и противопоставленность ее другим — существенные признаки регистра.
В отличие от ранее предлагавшихся композиционно-синтаксических единиц уровня между предложением и текстом, регистры объединяют онтологически (с точки зрения коммуникативной функции) и гносеологически (единством принципов грамматического описания) элементы разных уровней языковой системы, реализующиеся в том или ином типе текста: так, «композиционно-синтаксические функции видо-временных форм, осуществляемые через коммуникативные регистры, служат главным фактором организации текста» [Грамматика 1998; 32]- базовые модели предложения и различные их модификации и вариации в синтаксическом поле предложения обнаруживают предрасположенность к функционированию в том или ином регистревводно-модальные и союзные элементы участвуют в соединении блоков текста, принадлежащих одному или разным регистрам и т. д. Через участие в регистровых блоках языковые средства вносят свой вклад в реализацию тактики и стратегии автора текста [Грамматика 198- 439 — 468]. Таким образом, коммуникативная грамматика своей проблематикой и результатами не замыкается сама на себя. В рамках регистровой теории удалось найти новые доказательства важных идей, высказанных за ее пределами, в частности положения о диалектической взаимосвязи текста и предложения: «.Предложение есть, как правило, часть текста, а его построение в качестве отдельного объекта регулируется схемами языка. В силу единства текста его организация не исчерпывается организацией его составляющих предложений, а в силу несамостоятельности предложений их функция в составе текста зависима от организации соседей и текста в целом» [Гиндин 1981; 29].
Итак, основными факторами делающими систему коммуникативных регистров удобным инструментом лингвистического анализа текста, в том числе художественного, являются следующие:
1) связь регистрового состава текста с его жанровой, генерической принадлежностью: «Понятие коммуникативных регистров речи, абстрагированное от множества предикативных единиц или их объединений, употребленных в однородных текстах, реализуется в конкретных высказываниях, текстах или их фрагментах. Их свободные, подвижные комбинации в одних случаях или жесткие, регламентированные — в других — организуют композицию текстов разнообразных родов и жанров общественно-речевой практики. Сходства и различия текстовых структур в литературно-письменной речи и в устио-разговорной., с точки зрения концепции коммуникативных регистров представляются следующим образом. Естественно-диалогический текст характеризуется общетекстовыми признаками регистровой структурированности, то есть использует средства разных регистров, в том числе многообразие видо-временных глагольных форм, ориентированных и на реальный и на условный „момент речи“, но отличается от литературного и других, жанрово определенных текстов, в силу отсутствия композиционной целостности (ср. [Сиротинина, 1992]), спонтанным смещением временных осей и точек отсчета времени» [Грамматика 1998; 35];
2) комбинация традиционных оппозиций «функционально-смысловых типов речи» (повествование/описание19, монолог/диалог) и коммуникативных интенций говорящего (сообщение, волеизъявление, непосредственная эмоционально-оценочная реакция) с обнаруженными в коммуникативной грамматике признаками позиции говорящего и способа познания мира;
3) разработанная классификация регистров, позволяющая полностью расчленить любой текст на регистровые блоки20;
4) релевантный с точки зрения а) системы языка и ее реализацииб) взаимообусловленности докоммуникативных единиц, предложения и текстав) соотношения формы, значения и функции уровень абстракции при выделении регистров;
5) учет позиции говорящего, через выбор (и большую или меньшую экспликацию которой) проявляет себя образ автора как организующее и объединяющее начало текста, в первую очередь художественного.
2.2.5. Художественный текст рассматривается в диссертации как высказывание, обладающее единым диктумно-модусным планом содержания. Диктум и модус понимаются в духе предложенного Ш. Балли противопоставления двух планов в содержании высказывания — объективного (сообщаемый факт) и субъективного (отношение говорящего к этому факту, «коррелятивная операция, производимая мыслящим субъектом») [Балли 1955; 44]. Типология модусов в русле логического анализа языка предложена Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988; 109 и далее], в русле коммуникативной грамматики — Н. К. Онипенко, разграничившей разные типы модусных и диктумных субъектоз и установившей соотношение модусных рамок, выражающих способ получения информации говорящим и его отношение к ней, с коммуникативными регистрами [Онипенко 1994] [Грамматика 1998; 75 — 76, 229 и далее].
Многие авторы пользуются, говоря ., о разнообразных субъективных смыслах текста, понятием модальность ([Третьюхина 1984] [Горшкова, Шевченко, Сахнович 1987]- [Гринько, Титов 1987] [Немец 1985; 69] [Солганик 1991, 1999]), объем которого является дискуссионным уже на уровне предложения [Бондарко 1990; 59 — 71]21. Главный источник разногласий в понимании модальности — акценты на разных «участниках» модального отношения: речь может идти преимущественно о модальном отношении содержания высказывания к действительности или о модальном отношении говорящего к содержанию высказывания. Поскольку категория модальности охватывает оба вида отношений [Золотова 1973] [Василенко 1985], нарушение баланса в ту или иную сторону приводит к различию в трактовках.
Выявление композиционно-текстовой роли средств выражения модальности [Василенко 1985] [Грамматика 1998] вывело изучение этой категории на новый уровень и в то же время породило попытки провести границу между модальностью текста и предложения. Так, Г. П. Немец выделяет два уровня модальности в тексте — модальность компонентов текста и модальность, порождаемая текстом Рассматривая отрывок из повести Ф. М. Достоевского «Скверный анекдот», Г. П. Немец обнаруживает в нем текстовую модальность (это «внутренний монолог с лирико-гипотетической модальной направленностью»), взаимодействующую с модальностью предикативных единиц, образующих этот фрагмент [Немец 1985; 71]. Так, предполагается, что в начальной фразе отрывка «Ну. вот я, положим, вхожу: они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся» слово положим выражает модальность первого уровня, направленную на предикат вхожу, а ну. вот служит модальным оператором последующего минимального текста в целом. Не говоря уже об общей неправомерности противопоставления модальности текста и модальности входящих в него предикативных единиц (эти единицы формируются, оформляются автором именно для того, чтобы образовать текст определенной модальности), в приведенном примере, даже следуя логике исследователя, можно отметить изофункциональность вот и положим (наглядность+гипотетичность), образующих модусную рамку наглядно-примерной вариации репродуктивного регистра [Грамматика 1998; 432 — 436].
Значимость модальных/модусных смыслов в тексте несомненна. Именно в модальности, понимаемой как «определенное отношение автора (говорящего) к тому, что им объективно высказывается», Н. С. Поспелов видел источник внутреннего единства высказывания («сложного синтаксического целого»), делающий его «не просто механическим соединением предложений» [Поспелов 1960; 30]. Г. Я. Солганик говорит о «модальном единстве», едином модальном «тоне» прозаической строфы как единицы текста: «Предложения строфы имеют, как правило, единую субъективно-модальную окраску.» [Солганик 1991; 79]. Е. М. Третьюхина рассматривает модальность зачина как один из этапов формирования модальности текста короткого рассказа [Третьюхина 1984]. Таким образом, модальность изучается как фактор структурирования текста. В то же время через показатели модальности раскрывается позиция говорящего, поэтому категория модальности исследуется и как одно из проявлений образа автора в художественном тексте [Пушкарева 1998] [Якимец 1999]. Другая сторона категории модальности (модуса) — адресованность — и средства ее выражения (адресации), через которые проявляется диалогичность модуса, исследуются в работах Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1981] и Т. В. Шмелевой [Шмелева 1995].
В нарратологическом употреблении метафорически расширенное [Женетт 1998; 180] понятие модальность (или модус, mode) опять же опирается на грамматическое понимание наклонения и связывается с понятиями нарративной дистанции и перспективы как двух способов «регулировки нарративной информации»: «.Можно излагать более или менее надежно то, что является объектом изложения, и излагать это с той или иной точки зрения» [там же]. Таким образом, нарратологическая трактовка модальности включает противопоставление повествования и изображения (подражания) и фокализацию (разграничение внешней и внутренней, а также фиксированной, переменной и множественной точки зрения) [Berendsen 1984] [Chatman 1986] [Manfield 1996] [Женетт 1998].
Очевидно неудобство использования термина «модальность», основное предназначение которого — называть одну из предикативных категорий, на текстовом уровне для обозначения способа получения информации, ее достоверности, уровня обобщения сообщаемого и других указанных составляющих этой категории. Как справедливо указывает А. В. Бондарко, при строгом употреблении модальность и модус (в частности в трактовке Н.Д.Арутюновой) — понятия, разные по объему [Бондарко 1990; 61 — 62]. Возможно, желание терминологически «развести» предикативную модальность предложения и субъективно-модальные смыслы текста побудило Г. А. Золотову ввести понятие авторизации [Золотова 1973], Н. К. Онипенко разработать классификацию авторизационных смыслов и способов их выражения [Онипенко 1994, 1998] [Грамматика 1998], а П. А. Леканта выдвинуть предположение о существовании категории вводности [Лекант 1988]. Рассматривая в качестве одной из актуальных проблем изучения текста «установление и описание тех средств, в которых проявляется, выражается взаимодействие двух коммуникативных деятельностей, результатом которых и является текст, — порождения и восприятия («кодирования» -«декодирования»), П. А. Лекант указывает прежде всего на средства выражения модальности («показатели этой категории предложения одновременно являются и показателями модальности текста» [Лекант 1988; 3]) и высказывает гипотезу «о существовании категории вводности как функционально-прагматической категории предложения и текста»: «Содержанием данной категории является отношение говорящего к высказыванию. <.> Высказывание не может быть оформлено в речи без оценки его достоверности, авторизованности, обобщительности, адресованное&tradeи пр. Источником оценки является лицо говорящее» [Лекант 1988; 4] (со ссылкой на [Золотова 1986]). В категорию вводности, таким образом, предлагается включить «а) субъективно-модальное значение достоверностиэмоциональное отношениев) указание на авторство, источник сообщенияг) значение обобщительности (степень обычности) — д) оценку речевой ситуации, направленную на установление и поддержание речевого контакта» [там же- 6]. Сам термин «вводность» нам не кажется удачным, но, объясняя предлагаемое понятие, П. А. Лекант приводит формулировку Д.Н.Овсянико-Куликовского, весьма точно определяющую суть явления: «Предицируя мы как бы имеем в виду себя, свою личность, мы ощущаем или сознаем себя как виновника акта предицирования, так предложение «снег бел» заключает в себе, в скрытом виде, — следующееневыраженное-движение мысли: «я говорю, думаю, знаю, полагаю, утверждаю и т. д., что признак белизны должен или может быть приписан снегу как предикат» «[Овсянико-Куликовский 1912; 28].
Предпочтительность использования в нашей работе по отношению к одному из планов содержания текста терминов «модус», «модусная рамка» обусловлена их употреблением, сложившимся в работах Н. Д. Арутюновой и Н. К. Онипенко. За термином «модальность» сохраняется традиционное, выработанное в рамках грамматики предложения употребление (например, модальность, время и лицо как компоненты категории предикативности, объективная и субъективная модальность предложения [Золотова 1973]). Кроме того, термин «перцептивная модальность» встречается при ссылках на работы по когнитивной психологии (Глава 2), где под модальностями понимаются способы сенсорного восприятия — зрение, слух и т. д.
3. Обоснование возможности решения поставленной задачи.
Обоснование возможности решения поставленной задачи предполагает ответы на два вопроса:
1) вопрос о правомерности генерализаций о произведениях словесного искусства в литературоведческих или лингвистических терминах;
2) вопрос о том, почему представленный в нашей работе подход к художественному тексту является грамматическим и о его соотношении со стилистическим анализом.
3.1. Решение поставленной задачи предполагает реальность обнаружения общих грамматических закономерностей построения обширной группы текстов. Такие закономерности могут быть найдены только при сочетании индуктивного и дедуктивного методов. С одной стороны, современная коммуникативно-грамматическая теория разработала методику грамматического анализа текста, установив универсальную «сетку», «анкету» грамматических признаков, пропуская через которую конкретный текст, можно определить его индивидуальные характеристики не изолированно, а в соотношении с потенциально предоставляемыми языковой системой в целом или для данного типа текстов (4 ступени анализа текста в [Грамматика 1998]). С другой стороны, изучение отдельного текста, основанное на его индивидуальных, «бросающихся в глаза» особенностях построения, дает материал для экстраполяции на другие тексты и обогащает грамматическую теорию. Таким образом, появилась возможность выйти из замкнутого круга, даже из двух замкнутых кругов, в которых блуждали во второй половине XX века генеративная грамматика и нарратология в поисках баланса между анализом отдельного текста, тем более художественного, с грамматическими «отклонениями», и теорией строения текста вообще или большой группы текстовмежду последовательной, но «стерильной» теорией и простой регистрацией фактов [Todorov 1971; 225].
Генеративная грамматика с ее стремлением вывести обладающие предсказующей силой, всеохватывающие и не противоречивые правила «грамматичное&trade-» (grammaticalness) предложений языка вставала в тупик, сталкиваясь с «аграмматичными» поэтическими структурами. Дискуссия, начатая исследованиями Р. Якобсона по поэтике [Якобсон 1987] и статьей [Levin 1964] «Poetry and Grammaticalness» и продолженная в [Thome 1965] [Riffaterre 1966] [Hendricks 1969] [Thome 1969] и др., вращалась вокруг возможности инкорпорации поэтических «неправильных» предложений и текстов в грамматику языка, или составления «списка» структур-«исключений» (содержащего существующие высказывания, но не правила конструирования новых, им подобных), или создания для них особой грамматики, порождающей отдельный поэтический текст, «диалект» одного автора или «поэтический диалект» языка в целом. Камнем преткновения в «генеративных» дискуссиях стало убеждение, открыто или внутренне разделяемое в то время большинством их участников: «АН stylistic studies are in some sense concerned with texts while those leading to the construction of grammars ultimately are not» [Thome 1965; 58]. Грамматика заканчивалась уровнем изолированного предложения и сводилась к «правилам правильности» — она не выходила в текст (не рассматривала ни категории текста, ни взаимодействие текстового целого и составляющих его единиц) и не объясняла закономерностей функционирования языковых единиц и единств в коммуникации. При таком подходе текст закономерно оказывался объектом стилистики. Грамматика текста могла существовать только как грамматика одного единственного текста (не как text grammar, а как the grammar of the text), причем текста «отклоняющегося», выходящего за пределы генеративной грамматики языка22: «No grammatical analysis of a poem can give us more than the grammar of the poem» [Riffaterre 1966; 213]. Ответ Р. О. Якобсона, по поводу работы которого (анализа «Кошек» Бодлера) было сделано это утверждение, см. в [Якобсон 1987]. Неполноценность такой грамматики проявлялась и в ее теоретической ущербности: описание отдельного текста сводилось к простому наклеиванию «этикеток», к «one-to-one relation» между текстом и метаязыком грамматики, к «сумме данных», в которой отсутствовали термины теоретические в полном смысле этого слова, т. е. выходящие за пределы непосредственных данных [Hendricks 1969; 2].
Несмотря на несостоятельность генеративно-грамматического подхода к художественному тексту как такового, положительным итогом дискуссии стало усиление интереса к отношениям поэзии (художественной литературы) и грамматики, в конечном счете приведшее к оформлению в самостоятельную отрасль исследований лингвистики текста и перестройке отношений между стилистикой и грамматикой. Не случайно «извиняющаяся интонация», с которой У. Хендрикс в 1969 году пишет: «.Grammar may be useful and relevant to the description of style», — в 1976 году сменяется утвердительной в названии его книги «Grammars of Style and Styles of Grammar».
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ.
БИБЛИОТЕКА.
На другом полюсе в западной филологии находились нарратологические исследования, порой настолько оторванные от реального словесного текста, что приходившие к утверждению независимости нарративных структур от средства реализации («medium of realization»)23 — словесного, кинематографического и др. «Грамматика повествования» не подошла к грамматике языка ближе, чем на уровень абстрактных актантно-предикатных схем [Семиотика 1983] [Греймас 1996] [Косиков 1984, 1996], прекрасно иллюстрируя замечание Цв. Тодорова о том, что частотность метафорического употребления слов язык, грамматика, синтаксис заставила забыть об их прямом значении [Todorov 1971; 118]. Характерно, что сразу же за этим замечанием в работе «Грамматика повествования» сам Тодоров в полной мере демонстрирует его верность, утверждая, что грамматика универсальна, как «психологическая реальность», не только в языке, но и в других сферах «символической» деятельности людей (activites simboliques de l’homme) [там же- 119]. Предлагаемая Тодоровым «грамматика» не может выполнить поставленной перед ней задачи — выработать промежуточные, «посреднические» (intermediares) категории между материалом и нарративными функциями Проппа. «Нарративные трансформации» Тодоровадетализация, но не изменение уровня описания и объяснения. Основной причиной затруднений, по всей видимости, было осознание теоретиками литературы необходимости анализа языковых объектов, больших, чем предложение, при том, что лингвистика того времени в целом и грамматика в частности ограничивались уровнем предложения. Утверждение, что «с точки зрения лингвистики в дискурсе нет ничего такого, чего не было бы в отдельном предложении», логично приводит Р. Барта в работе 1966 года к следующему выводу: «Вместе с тем, очевидно, что сам дискурс (как совокупность предложений) определенным образом организован и предстает в качестве сообщения, построенного по правилам языка более высокого порядка, нежели тот, который изучают лингвисты: дискурс располагает собственным набором единиц, собственными правилами, собственной «грамматикой" — находясь по ту сторону предложения (хотя и состоя исключительно из предложений), дискурс, естественно, должен быть объектом некоей другой лингвистики» [Барт 1987; 390]. Можно сказать, что, честно выполнив свою долю филологического труда, нарратологи не нашли себе поддержки «по лингвистическую сторону» общей нашей науки.
Но поиски общих повествовательных и других текстовых структур привели к изменению методологического фокуса в литературоведческом исследовании словесных произведений. Мнение, что гуманитарные науки («науки о культуре») в отличие от точных, естественных наук интересуются конкретными, индивидуальными объектами, а не общими законами их построения и функционирования, уступило место (как в результате внутреннего развития литературоведения, так и под влиянием лингвистической парадигмы) убежденности, что обнаружение и понимание уникальных свойств объекта возможно лишь в соотнесении с некоторой схемой, матрицей, моделью общих, потенциальных свойств [WellekWarren 1973; 17]. Р. Уэллек и Э. Уоррен пишут в своей ставшей уже классической «Теории литературы»: «.One should recognize that each work of literature is both general and particular, or — better, possibly — is both individual and general. Individuality can be distinguished from complete particularity and uniqueness. Like every human being, each work of literature has its individual characteristics but it also shares common properties with other works of art, just as every man shares traits with humanity, with all members of his sex, nation, class, profession, etc. We can thus generalize concerning works of art, Elizabethan drama, all drama, all literature, all art. Literary criticism and literary history both attempt to characterize the individuality of a work of an author, of a period or of a national literature. But this characterization can be accomplished only in universal terms, on the basis of a literary theory [WellekWarren 1973; 19]. A Сеймур Чэтмен использует в качестве эпиграфа к своей статье 1998 года «Что же случилось с теорией литературы?», содержащей критический обзор развития теоретического литературоведения последних десятилетий и пессимистическую характеристику его сегодняшнего состояния, слова А. Конан-Дойля — «Огромная ошибка — теоретизировать, пока у вас нет данных» (It is, а capital mistake to theorize before one has data) [Chatman 1998; 367]. Примерами верного, продуктивного соотношения между научной теорией и практикой («though it is the antonym of practice, theory correlates with it in at least two vital ways: first, it derives from an understanding or an attempt to understand practice-that is, the theorist builds theories from an inspection of exemplars of that which he proposes to theorizeand second, it explains practice, and modifies itself in the face of counterexamples») Чэтмен считает развитие теорий «точки зрения» и нарратологию: обе они возникли из изучения материала как попытки его объяснить и развивались «по подсказке» материала, «модифицируясь под давлением контрпримеров».
Таким образом, позитивным теоретическим результатом развития западного литературоведения, прежде всего нарратологии, явилось выяснение соотношения между анализом отдельного текста и обобщениями, касающимися больших групп текстов, методологическое обоснование распространения результатов исследования индивидуального текста на тип текстов. Открытая в современной коммуникативной грамматике возможность объяснения системы языка и его текстового функционирования на базе одной грамматической теории, разрушение непроходимой «преграды» между грамматикой предложения и стилистикой или лингвистикой текста подкрепляет это обоснование с лингвистической стороны. Нет ничего более точно описывающего методологию нашего исследования с точки зрения соотношения специфического и общего, теории и частных наблюдений, грамматики и стилистики, чем предварение Ж. Женетта к работе «Повествовательный дискурс». Она начинается заявлением: «Специфический объект настоящего исследования — это повествование в книге Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» «. Явное противоречие между обозначенным объектом и названием исследования потребовало методологических разъяснений. Женетт предоставляет их немедленно: «Я мог бы обосновать и прояснить данную ситуацию двумя совершенно разными способами: либо открыто и явно отдать, как это делают другие, специфический объект исследования на откуп общему подходу, а критический анализ — на откуп теории (тогда «Поиски» окажутся здесь не чем иным, как поводом для обсуждения общих проблем, источником примеров и иллюстраций для нарративной поэтики, где специфические черты романа окажутся подавленными «законами жанра») — либо, наоборот, подчинить поэтику критике, сделать предлагаемые здесь понятия, классификации и процедуры исключительно инструментами ad hoc, предназначенными для точного и строгого описания прустовского повествования во всем его своеобразии, обращаясь к теоретическим отступлениям только в целях уточнения метода.
Я открыто признаюсь в нежелании (или в неспособности) сделать выбор между этими двумя системами защиты, очевидным образом несовместимыми друг с другом. Мне представляется невозможным рассматривать «В поисках утраченного времени» в качестве простой иллюстрации того, что могло бы считаться повествованием вообще, или повествованием романным, или повествованием автобиографическим, или повествованием Бог знает какого еще класса, сорта или разновидности: специфичность прустовской наррации, взятой в ее целостности, не сводима ни к чему другому, и какие-либо экстраполяции будут здесь методологически ошибочными- «Поиски» иллюстрируют только сами себя. Однако, с другой стороны, эта специфичность вполне может быть подвергнута научному анализу, и каждая из выделенных при этом особенностей доступна для сопоставлений, сравнений и обобщений. Как и всякое художественное произведение, как всякий целостный организм, «Поиски» построены из универсальных или по меньшей мере сверхиндивидуальных элементов, которые собраны здесь в специфическое соединение, в некую своеобразную целостность. Анализ последней — это отнюдь не движение от общего к частному, но скорее от частного к общему: от того неповторимого предмета, каковой представляют собой «Поиски», к тем сугубо общим элементам, фигурам и процедурам, общедоступным и широко используемым, которые я называю анахрониями, итеративами, фокализациями, паралепсисами и т. п. Главное, что я предлагаю в настоящей работе, — это определенная методология анализатем самым следует признать, что в поисках специфического я нахожу универсальное и что в стремлении к подчинению теории критике я, напротив, подчиняю критику теории. Этот парадокс характерен для всей поэтики, да и вообще для всякого познания, которое всегда разрывается между двумя неизбежными и избитыми истинамичто объекты бывают только единичные и что наука бывает только об общемкоторая зато ободряется и как бы намагничивается другой, не столь распространенной истиной: общее содержится в частном, а значит, вопреки общему предрассудку, познаваемое — в таинственном" [Женетт 1998; 61 — 62].
Что касается отечественного литературоведения и языкознания, в них возможность по частному заключать об общем исторически не была предметом отдельных дискуссий и не требовала особых доказательств. Естественное движение от изучения отдельного произведения или писателя к теоретическим выводам было подкреплено крупнейшими авторитетами российской филологии. Ф. И. Буслаев в работе «Риторика и пиитика» указывал «исходную точку учению словесности»: «.Самой природой указывается путь преподаваниюкак у всех народов теория словесности составлялась вследствие изучения образцов, так и каждый ученик должен вступить в теорию через самостоятельное чтение. Всякая теоретическая мысль, высказанная преждевременно, связывает ученика и лишает его свободного сознания, получая вид предрассудка» [Буслаев 1997; 49]. Это касается не только учеников, но и ученых — теория и история словесности, утверждает Буслаев, «извлекаются» из чтения писателя, как из своего источника. В. В. Виноградов во многих своих работах ставил и решал задачи изучения индивидуального стиля писателя как проявления «стилистически-речевой специфики художественной литературы», отражения «стиля эпохи» или «стиля школы» и источника сведений по истории русского литературного языка [Виноградов 1963, 1976,.
1980, 1981]. «Законы словесно-художественного творчества народа, отражающиеся и в развитии его языка, определяют направление, характер речетворчества писателей, строй образов и состав экспрессивных красок, используемых в литературных произведениях» [Виноградов 1981; 208], — писал он. Литературное произведение должно рассматриваться лингвистом и как «представитель языкового типа» (исторического, общественно-социального), и как «отражение индивидуального отбора и творческого преобразования языковых средств своего времени в целях эстетически действенного выражения замкнутого круга представлений и эмоций» [Виноградов 1980; 3]. Вопрос о правомерности генерализации лингвистических наблюдений над поэтическим текстом был одним из основных в упомянутой выше дискуссии Р. О. Якобсона с оппонентами о грамматике поэзии.
Рассматриваемая нами методологическая проблема возникла в отечественном языкознании вместе с лингвистикой текста. Пришлось задуматься о референции слова «текст» в названии новой дисциплины: является ли оно «именем класса», а если да, то каким образом собираются данные для этой науки? В 1974 г. Ю. М. Скребнев отмечал, что «основу лингвистики текста образует эмпирическое представление о типичных для письменных форм общения речевых сегментах значительной протяженности, хотя порождением текстов такого рода не исчерпывается речевая деятельность общества» [Скребнев 1974; 60]. Скептически оценивая возможность научного определения конкретных, операционных, «научных» признаков текста ¡-по24 и соответственно перспективы «глобальной» лингвистики текста, он полагал, что «более точные данные могут быть получены при обращении исследователя не к тексту вообще, а к текстовым типам — путем обследования групп текстов, однородных по социальной функции. Если проблематична возможность создания лингвистики текста как дисциплины, сочетающей практический результат с научной строгостью, то вполне перспективно существование лингвистики текстов» [Скребнев 1974; 61]. Такой «лингвистикой» исторически была стилистика, которой для стилистической идентификации текста всегда требовался отрезок, больший, чем одно предложение. Стилистическая компетенция носителей языка «обусловлена локализованностью представлений о типах текстов в языковом сознании, т. е., тем самым, в самой структуре языка» [там же- 66]. Традиционная формальная грамматика с задачей изучения текста справиться не могла: фигура говорящего и понятие «функции» еще не стали фокусами грамматического описания, шаг от структурных схем предложения к структуре текста был неосуществим. Не случайно на той же конференции П. Щедровицкий предложил две программы лингвистики текста. Либо лингвистика текста ставит перед собой задачу «распространить методы традиционной грамматики на отрезки речи большие, нежели предложение», либо она нацеливается на научное описание «во-первых, механизмов функционирования текстов в коммуникации и трансляции, во-вторых, естественных и искусственных механизмов порождения этих текстов, и наконец, в-третьих, строения самих текстов, обусловленного указанными выше моментами». Во втором случае «тексты как таковые будут резко противопоставляться системе языка» и «такая установка с самого начала исключит всякую возможность использовать традиционные средства и методы грамматики и заставит нас разрабатывать принципиально новую систему понятий и новые методы анализа» [Щедровицкий 1974]. С. И. Гиндин в 1981 году, говоря о двух группах трактовок понятия «текст», отмечал, что «филологические» трактовки «объединяются противопоставлением того знакового образования (сообщения), которое передается в акте коммуникации, той знаковой системе (или системам), из элементов которой и по правилам которой оно построено» [Гиндин 1981; 27]. Смена угла зрения (не предложения образуют текст, не текст подчиняет себе предложения, а говорящий в соответствии со своими коммуникативными задачами формирует из предложений цельный текст) положила конец этому противопоставлению.
Следует отметить, что само терминологическое сочетание «лингвистика текста», хотя и вполне устоявшееся в науке, представляется не вполне логичным. Оно как бы имплицирует возможность «лингвистики морфемы», «лингвистики слова», «лингвистики фонемы». В большинстве случаев, говоря о лингвистике текста, имеют в виду именно грамматику текста. Проекция на текст изучения других языковых уровней (лексики и фонетики) редко соответствует признакам «лингвистики текста», удачно сформулированным в [Аспекты 1980; 6], где подчеркивается, что термин «лингвистика текста» не может распространяться на «исследования, использующие текст лишь как источник необходимых языковых фактов, но не рассматривающие текст как целостное, законченное образование, функционирование элементов в котором обусловлено в первую очередь такими характеристиками текста, как связность, целостность и отдельность». «.Лингвистика текста видит свою задачу именно в комплексном рассмотрении текстаесли же внимание исследователя сосредоточивается на отдельных компонентах текста. то обязательно с учетом их взаимосвязи с другими элементами текста в плане выполнения общего коммуникативного задания и собственно текстообразования.
Отсутствие такого комплексного подхода к тексту и стремления ответить на вопрос «почему в тексте использовано именно это языковое средство и как оно связано с языковыми средствами других уровней, используемыми в том же тексте, в процессе выполнения коммуникативного задания», то есть невыявление структурной и коммуникативной взаимообусловленности единиц текста, относит проведенное исследование к области уровневого или функционального анализа" [там же].
3.2. После того как грамматика не только вышла за пределы предложения, но и объединила единством принципов описания систему языка и текст, стало необходимым уточнить разграничение грамматического и стилистического подходов к тексту. Нечеткость данного разграничения имеет причину объективную (общность объекта) и субъективную — традиционную расплывчатость границ стилистики. Именно этой проблематике посвящены практически все работы В. В. Виноградова, включенные в [Виноградов 1981]. М. Н. Кожина в статье «Об отношении стилистики к лингвистике текста» указывает, что соотношение «грамматика/стилистика» зависит и от того, какая стилистика (стилистическая школа) имеется в виду: если для одних стилистических школ выход на текстовый уровень стимулировало появление лингвистики текста, то советская, чехословацкая, немецкая (ГДР) стилистики «уже сравнительно давно сосредоточили свое внимание на изучении текста, на выявлении закономерностей функционирования единиц в целостном высказывании, в текстах и однофункциональных группах текстов» [Кожина 1980; 4]. Таким образом, утверждается исторический приоритет стилистики в интересе к проблемам устройства текста: в изучении категорий текста «функциональная стилистика опередила грамматику текста» [Кожина 1980; 8].
Однако «матрешку» можно открывать и дальше. До стилистики была риторика, потом теория словесности, оторвавшаяся от языкознания и посредством стилистики вернувшаяся в его лоно [Буслаев 1997] [Гиндин 1990]. Но еще до риторики филология возникает в античном мире как наука о текстах, носившая название «грамматика» и разделявшаяся на две области: грамматику элементарную, «техническую» («грамматистика», «ористика», «методика») и высшую, «совершенную» («оценка», «критика», «эккзегетика») — или три: «техническую», «историческую» и собственно «грамматическую» [Троцкий 1996; 9, 322 — 323]: «По мере расширения и освоения языкового материала, „техническая“ грамматика становилась все более самостоятельной, но „экзегетическая“ часть отпала лишь в средние века, при совершенном изменении „грамматического“ обучения» [там же].
Для нас важно соотношение синхронное, важно «самоопределить» наше исследование как грамматическое.
Грамматика понимается в работе в широком смысле как принципы, правила оперирования значимыми единицами языка для построения текста, включая репертуар функций, присущих каждой единице, потенциальные условия их реализации, а также конструктивные особенности текстового единства. Грамматика как набор возможностей построения текста и функционирования в нем элементов языковой системы противопоставляется стилистике, описывающей более или менее частные условия и способы осуществления этих возможностей. Поэтому при грамматическом угле зрения может и должен ставиться вопрос о поиске общих принципов формирования значительных групп текстов, а стилистический анализ конкретного текста демонстрирует, какие из этих принципов автор использует максимально, какие модифицирует, какие старается преодолеть и т. д.25 Если ключевым словом в определении грамматики традиционно является «правило» (понимаемое в нормативном смысле или как системный принцип), то в определении «стилистики» — это «выбор» (индивидуальный или коллективный). Показательно, что в шести типовых определениях стиля, приводимых в [Enkvist, Spencer, Gregory 1964; 12]: «style as a shell surrounding a preexisting core of thought or expressionas the choice between alternative expressionsas a set of individual characteristicsas deviations from a normas a set of collective characteristicsand as those relations among linguistic entities that are statable in terms of wider spans of text than the sentence», — равно как и в собственном определении авторов («The style of a text is a function of the aggregate of the ratios between the frequencies between its phonological, grammatical and lexical items, and the frequencies of the corresponding items in a contextually related norm. The style of a text is the aggregate of the contextual probabilities of its linguistic items») [Enkvist, Spencer, Gregory 1964; 28] доминируют такие слова, как «выбор», «отношение», «отклонение от нормы». «Языковые средства, составляющие речевое произведение, характеризуются определенной селекцией и аранжировкой: принцип этой селекции и аранжировки, характерный способ соединения составляющих элементов при создании целого называется стилем. <.> Стиль интегрирует, унифицирует средства, составляющие речевое произведение, и в то же время дифференцирует данное речевое произведение, отличая его от других» [Гаузенблаз 1978; 61].
Стилистика оказывается в некотором роде вторична по отношению к грамматике: грамматика, равно как и фонетика и лексика, определяют арсенал предметов потенциального стилистического выбора" [Хендрикс 1980; 189], использование того или иного грамматического средства может быть стилистическим приемом. Стилистика «сопротивляется» генерализации. «Сопоставление стилистических явлений, проектируемых вовне и рассматриваемых в хронологической последовательности с точки зрения их сходства» приводит к «некоторой морфологизации сопоставляемых фактов: стилистические приемы утрачивают то неповторимо индивидуальное функциональное обоснование, которое они имели в сознании того или иного художника» [Виноградов 1980; 41]. Грамматика необходимо предполагает восхождение от наблюдаемого в реальных текстах языкового материала к закономерностям строения и функционирования языковой системы (или движение обратное). С этой точки зрения, наше исследование является грамматическим по конкретным объектам рассмотрения (мы будем говорить о видо-временных функциях предикатов, средствах организации и комбинирования коммуникативных регистров, повторе и парцелляции и т. п.) и по подходу к ним, однако результаты его имеют смысл не только в пределах грамматики, в частности для стилистики открываются новые «предметы. выбора» и аспекты анализа.
3.3. Как было сказано выше, материалом анализа послужили поэтические и прозаические тексты художественной литературы. Почему драматургия не стала предметом исследования?
Прозаические и поэтические произведения противопоставлены драматическим по следующим признакам, принципиальным для анализа грамматического устройства текста: а) В драматических текстах иные отношения между словом автора и словом персонажей, иная «ситуация рассказывания» [Барт 1987а- 414]. Это было замечено еще в античной поэтике: согласно классификации «способов авторского вмешательства», или «модальностей повествования» (намеченной Платоном, разработанной Диомедом) драматургия представляет genus activum vel imitativum (отсутствие авторского вмешательства в повествование), которому противопоставлены genus ennarativum (говорит только поэт) и genus commune (смешанный тип — говорит и поэт, и его герои). Подробный разбор этого противопоставления см. в [Женетт 1998; 289 и далее]. «. The locus of drama within the logical system of literature is determined solely by the absence of the narrative function, by the structural given that the [characters] are formed through dialogue» [Hamburger 1968; 198]. Различие между диалогом как таковым (а именно он образует драматический текст) и диалогом, включенным в прозаическое произведение, В. Н. Волошин видел в следующем: «нет синтаксических форм, конструирующих единство диалога», но в «объемлющем его авторском контексте» он становится одной из разновидностей чужой речи [Волошинов 1993; 126]. Основная проблема лингвистического изучения драматических произведений — раскрытие тех «художественных тенденций, которые скрыты в диалогической форме», и анализ способов «композиционного объединения диалогических отрезков в целую художественную структуру» [Виноградов 1959]26. б) Драматические произведения по-иному относятся к категории фикциональности [Wellek, Warren 1973; 220] [Гинзбург 1987; 11], имеют более сложное референтное поле (референцию к реальному миру и к условности театрального действа) и более «многосубъектную» и «многокодовую» коммуникативную структуру [Лотман 1998; 596 — 603], чем проза и поэзия. Они предназначены для исполнения, предполагают множественного отправителя сообщения (драматург, режиссер, актеры) и множественного получателя (режиссер, актеры, зритель), взаимодействие разных семиотических систем. Г. Я. Шпет писал в статье «Театр как искусство»: «Автор пьесы передает нам слова и мысли действующих лиц, но не их способность выражать свои чувства и мысли. Если бы автор хотя бы рассказывал о последних, он писал бы не пьесу для игры на сцене, а роман, повесть, вообще именно рассказ. Авторские ремарки принципиального отношения вещей не меняют. Да и они вводятся скорее для оттенения мыслей, чем способов действия.. В напечатанной пьесе действие — пустое место, которое должно быть заполнено актером, искусство коего, таким образом, никак не вторичное, повторяющее какое-то действие, а первичное — подлинное творчество» [Шпет 1922]. в) В связи с указанными различиями по отношению к драматическим произведениям по-иному решается вопрос о целостности и линейности текста. Текст написанный значительно отличается по составу и темпоральным характеристикам от текста исполняемого: ремарки на сцене не зачитываются, возможно одновременное произнесение нескольких реплик, выстроенных в письменной «версии» текста линейно (о средствах выражения этой одновременности в письменном тексте см. [Шварцкопф 1996]), длительность пауз между действиями и репликами определяется внетекстовым существованием исполнителей на сцене. Полная и точная реализация написанного текста противоречит законам драмы как вида искусства27. Предназначенность пьесы для сценической реализации регулирует ее словесное воплощение. Драматург, в отличие от поэта и прозаика, выступает не как «слов творец», а как «кормчий человеков». Он «создает двигающегося и говорящего человека, — человека с движениями и словами, а не слова для декламирующего актера. Случайное обстоятельство, что в руках драматурга более совершенные способы зафиксировать слово, чем движения будущего, им создаваемого спектакля, породило ложное убеждение, что он только „творец слов“, а не „кормчий человеков“, и заставляло до недавнего времени рассматривать историю театра как часть истории литературы. Представим себе на минуту, что двухтысячелетняя культура наша была бы лишена изобретения грамоты, но все спектакли, от которых дошли до нас лишь словесные тексты, были бы зафиксированы кинематографом — как рассыпались бы в прах все наши понятия о театре как прислужнике литературы!» [Радлов 1923; 30 — 36]. О вторжении авторской речи в сценическое действие при инсценировках недраматических произведений см. [Любимов 1981] [Сидорова 1999а].
Указанные различия не позволяют объединить изучение прозы, поэзии и драмы в одной работе. Драматические произведения требуют отдельного исследования, после которого возможно сопоставление результатов.
4. Место идеи единства в гуманитарном мышлении.
Постановка проблемы единства художественного текста связана с центральным местом проблемы единства, цельности вообще, противопоставленной раздробленности, в гуманитарном мышлении — с точки зрения типологической (для художественного текста как «осмысливаемого» объекта), исторической (для XX века и особенно его конца) и национальной (для русского сознания).
4.1. Типологическая черта искусства, культурного сознания и гуманитарной мысли — единство или поиск единства, стремление к нему. В самых различных научных направлениях' от русской философии рубежа веков (Вл.Соловьев, И.А.Ильин) до прагматической эстетики Дж. Дьюи — тем или иным образом понятое единство произведения искусства не просто имеет позитивный смысл, но рассматривается как главный критерий или основной фактор художественности: «Художественность есть художественное символически-органическое единство в произведении искусства, идущее от его самого глубокого слоя, от его главно-сказуемого, которое может быть названо предметом. В истинном художественном произведении все символично, т. е. все есть верный знак высшего, главного содержания — художественного предметаи все органично, т. е. связано друг с другом законом единого совместного бытия и взаимоподдержанияи потому все слагается в некое единство, связанное внутренней, символически-органической необходимостью, все образует законченное, индивидуально-закономерное целое» [Ильин 1996; 124 — 125]28. «Even at the outset the total and massive quality has its uniquenesseven when vague and undefined, it is just that which it is and not anything else. If the perception continues, discrimination inevitably sets in. Attention must move, and as it moves, parts, members, emerge from the background. <.> .Matter, poetically felt, came first and came in such a unified and mas’slve way as to determine its own development, that is its specification into distinctive parts. If the percipient is aware of seams and mechanical junctions in a work of art, it is because the substance is not controlled by a permeating quality. <.> The penetrating quality that runs through all the parts of a work of art and binds them into an individualized whole can only be emotionally „intuited“. The different elements and specific qualities of a work of art blend and fuse in a way that physical things cannot emulate. <.> „Parts“ are discriminated not intuited. But without the intuited enveloping quality, parts are external to one another and mechanically related. <. >The resulting sense of totality is commemorative, expectant, insinuatory, premonitory. There is no name to be given it. As it enlivens and animates it is the spirit of the work of art» [Dewey 1929; 192 -193].
Цельность не может быть чрезмерной, единство не подвергается критике. Повышение эстетического статуса даже самых «раздробленных», «кусковых» произведений (таких как живопись кубизма или роман Джойса «Улисс»), включение их в сферу искусства обосновывается утверждением их цельности, обнаружением, может быть, нетривиального, но единства [Есо 1962; 158 — 160]. Напротив, отрицание эстетической и духовной ценности произведения обосновывается отсутствием цельности, объединяющего начала. Аргументация в пользу (или против) цельности того или иного художественного текста может быть различной, как различны сами произведения, единство которых подвергается сомнению: ср. обвинения в русской критике конца 19 века рассказов А. П. Чехова в «несобранности», в том, что они напоминают нанизанные на нитку, а иногда еще и путанные, бусы [Горнфельд 1939; 289 -291]- споры о художественной цельности и «композиционной рыхлости» романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» [Дубровина 1996]- реакцию современников на импрессионистическую прозу Б. Пильняка [Грякалова 1998]- рецензии А. Немзера на прозу Л. Зорина, А. Иванченко, А. Саломатова, М. Харитонова, А. Гаврилова, Ю. Малецкого в [Немзер 1998]- дискуссии сторонников и противников «нового романа» в наше время [Simon 1999].
Отсюда и противоположные трактовки символизма. Для И. А. Ильина символизм (включая поэзию А. Блока, А. Белого, Вяч. Иванова) был формой «художественно-сумасшедшего искусства», лишенного единства: «Ее [бездуховной страсти] страстные бесформенные помыслы уже не желают знать ни меры, ни зиждущего ритма, ни цельности. Закон их тяготитк органической связности их не влечетк строительству они не способнызавершенность им недоступна. Дети хаоса, они тянут к вечному брожению и хаотическому распылению, к распаду, в бездну.» [Ильин 1996; 65]29. Современные исследователи, напротив, склонны противопоставлять символистские тексты, объединенные, несмотря на внешнюю «кусковость», трансцендентным актом, сознанием творца-демиурга, и «раздробленность» многих текстов русского литературного импрессионизма, утратившего этот фактор цельности [Силард 1984а] [Силард 19 846] [Грякалова 1998], а шире — символистское мировоззрение и порожденную им литературу, как попытку восстановить целостность мира после «гибели Бога», обнаружить новые метаценности, «высшее примирительное начало» (Вл.Соловьев), «антиавангардным парадигмам», характеризующимся в литературе возможностью ощутить позицию Другого как свою и множественностью ракурсов описания, каждый из которых предлагает «совершенно свою картину мира» и становится в результате самоценным «событием») [Курицын 1996].
Источник единства художественного текста, картины и т. д. лежит вне материала каждого конкретного искусства, но проявляется, реализуется это единство только в материале, через материал, в словесном творчестве — через язык. Не замыкая изучение единства текста рассмотрением «технических» показателей связ (ан)ности, «в подборе слов и их организации в синтаксические ряды находя связывающую их внутренней психологической объединенностью систему и сквозь нее прозревая пути эстетического оформления языкового материала», лингвистическая наука исследует не только материал, но и саму художественность.
4.2. Обращение к проблеме единства объясняется и ее исторической актуальностью для культурного сознания «нового» рубежа веков. В. В. Иванов основной проблемой науки XX века называет «непрерывность и дискретность» [Иванов 1974; 64]. История европейской духовной культуры XX века — история поисков единства (единства языка, личности, сознания и т. д.), его обретения и утраты, противостояния «культурных проектов», основанных на целостности мировоззрения, наличии «метатеории», проявлявшемся в области литературы в единстве (или единственности) художественного языка и взгляда на мир («авангардная парадигма» от символизма до соцреализма), парадигмам дробного, неслитного сознания, акцентировавшим дискретность и разнородность мира [Курицын 1996]. Распространение последних было закономерным в 10-ые-20-ые годы XX века, когда общественно-политические потрясения (первая мировая война, освобождение Азии и Африки, назревание диктатур) привели с одной стороны, к «обнаружению и осознанию роковой исчерпанности и расщепления единой лестницы прогрессивного восхождения европейской цивилизации», с другой — к вторжению в европейскую культуру «спектров иных смыслов» (выявление несводимости ближневосточного (библейского), античного, средневекового бытия друг к другу и к разуму нового времениосознание самостоятельности азиатской и африканской культуры), а естественные науки обнаружили релятивность или парадоксальности своих изначальных понятий [Библер 1989]. Дополнительная «питательная среда» для раздробляющих сознание тенденций была создана НТР во второй половине века [там же]30. Если высокое искусство нашло в себе силы сопротивляться распаду сознания [Дмитриева 1984] [Батракова 1984], то другие сферы культуры, где ощущение важности внутреннего единства не такое живое, не смогли ничего ему противопоставить, впустили раздробленное сознание в себя и стали проводниками «атомизма в жизни, атомизма в науке, атомизма в искусстве» — того, в чем когда-то Вл. Соловьев обвинял западную цивилизацию. Расщепление, дискретизация современного языкового сознания выражается (и одновременно стимулируется) уменьшением среднего объема текстов, с которыми средний человек встречается в повседневной практике. Это и распространение и постоянное «нахождение», мелькание перед глазами дробных жанров, прежде всего рекламы, сокращение объема статьи в массово читаемых журналах (ср. объем текстов в доперестроечном «Огоньке» или «Юности» и в современной «Лизе» или «ТВ-Парке»), изменение требований к длине публичного выступления (в русской традиции более долгого, чем в соответствующих жанрах, например, в США), введение в школьный обиход кратких пересказов литературных произведений и т. д. «Кусковость» подачи информации, «клочкование» ткани сообщения — закон новых средств коммуникации31. Компьютерное редактирование текстов, разрешающее перемещение фрагментов по принципу «drag and drop» («перетащи и урони»), свободно допускающее вставки и удаление, облегчает труд ученого и уменьшает цельность научного мышления. Таким образом, в современной культурной ситуации обращение к проблеме единства, цельности текста который, с одной стороны, является «моделью культуры», с другой — «имеет тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь автономной личности» [Лотман 1997; 205]) как никогда актуально32.
4.3. Наконец, третий фактор, в свете которого проблема грамматического единства художественного текста приобретает значение, выходящее за пределы лингвистики, — цельность как черта русского культурного сознания, выражающаяся, в частности в особом характере единства текста в русской классической литературе, что подчеркивалось как отечественными, так и западными исследователями. Так, К. Грабо в работе, посвященной «технике романа», противопоставляя строгую композицию французского классического романа «свободной» структуре английского и особенно русского, «способного переварить самый различный материал» [Grabo 1928; 22 — 25], восхищался цельностью и сбалансированностью произведений Тургенева (в первую очередь его умением «вплетать» описания в повествование и поддерживать внутреннее единство длинных описательных фрагментов), удивлялся «well massed» построениям Толстого, отказывал в художественности Достоевскому, изображавшему «сумятицу жизни» («confusion of life»), и признавал за всеми «славянами» «исключительную силу визуальной памяти и воображения», позволяющую им организовывать большие «массивы» текста, не связанные единой повествовательной линией [Grabo 1928; 258].
Причину того, что «плохо построенный» Достоевский не поддается французскому и американскому литературному сознанию, Г. Гачев видит в своеобразии русской художественной идеи. Именно в русском классическом романе максимально осуществился литературный образ нового времени, который «в отличие от античного. разомкнут, лишен заранее установленного ограничения, получает единство не извне, от ограничивающей формы, а откуда-то изнутри, из единства художественной идеи» [Гачев 1981; 9]. «Симфонизм» русской литературы, производный от тяготения русских мыслителей к единству слова и дела, от стремления преодолеть «дистанции огромного размера» в пространстве России, во времени и в складе человека, «заполнить» пустоту, соединить разобщенное [Гачев 1981; 62], проявляется как в прозаических, так и в поэтических произведениях разного объема через организацию языкового материала: см. у Гачева разбор стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива.», где оно предстает как «поток единого дыхания — одна фраза, б ходе которой весь мир собран, соединен со мной и с сущностью — «богом» [Гачев 1981; 84].
Таким образом, проблема единства художественного текста, не являющаяся с литературоведческой и искусствоведческой точки зрения новой, обретает сейчас особую актуальность, а для русской грамматической науки она обладает еще и новизной.
Примечания.
1 М. М. Бахтин в той же работе «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках» заявлял: «Лингвистика имеет дело с текстом, но не с произведением. То же. что она говорит о произведении, привносится контрабандным путем и из чисто лингвиспсческого анализа не вытекает. Конечно, обычно сама эта лингвистика с самого начала носит конгломератный характер и насыщена внелингвистическими элементами. Несколько упрощая дело: чисто лингвистические отношения (то есть предмет лингвистики) — это отношения знака к знаку и знакам в пределах системы языка или текста (то есть системные или линейные отношения между знаками) — Отношения высказывания к реальной действительности, к реальному говорящему субъекту и к реальным другим высказываниям, отношения впервые делающие высказывания истинными или ложными, прекрасными и т. д., никогда не могут стать предметом лингвистики» [Бахтин 1997: 241]. И все же во многом благодаря работам самого Бахтина «системные или линейные отношения между знаками» были осмыслены сквозь призму «отношений высказывания к реальной действительности, к реальному говорящему субъекту и к реальным другим высказываниям», в результате чего последние были вовлечены в сферу лингвистического знания, а понимание первых значительно углубилось (см. Главу 1 настоящей диссертации). Более точно эта мысль может быть выражена с помощью не вполне научной метафоры — «дотолкать» сюжет из точки, А в точку Б через субъектные сферы героев.
3 См., например, [Lakoff 1984].
4 Со второй частью этого утверждения, впрочем, можно спорить.
5 Хотя при необходимости в ходе анализа их понимание может уточняться.
6 Далее классификация Маргодина продолжается до группы 7, куда входят «предикаты» в «метафорическом, аналогическом и переносном употреблении» [там же- 17 — 19]. Марголин вполне справедливо полагает, что условия и правила правильного, адекватного применения различны для каждой группы литерату роведческих «предикатов».
7 Термин «художественная литература» примем без скептицизма: хотя его внутренняя форма указывает на «написанность» включаемых текстов, «любая последовательная концепция [литературы] должна включать литературу устную» (Wellck. Warren 1973; 22]. Р. Уэллэк и Э. Уоррен в группе разноязычных терминов literature, poetry, fiction, imaginative literature, belles-lettres, Wortkunst, словесность отдают предпочтение двум последним.
8 В отличие от [Женетт 1998; 342] мы не придаем конститутивного значения критерию фнкциональности («вымышленное произведение (вербальное) независимо от оценки свосго качества, почти неизбежно воспринимается как литературное»). Жанровая конвенция и языковой облик текста могут «перевешивать» фикциональность при определении принадлежности произведения к литературно-художественным. См., напр., с. 98 настоящей работы.
9 Весьма наглядно это демонстрирует сопоставление исследовательских задач и результатов диссертаций О. А. Дыдьшшой [Дыдыкнна 1998], посвященной эволюции стиля русских литературных путешествий конца 18 — первой половины 19 века (от Н. М. Карамзина до И.А.Гончарова), и Н. Н. Шокова [Шоков 1989]. где рассматривается язык и стиль «ученых путешествий» второй половины 18 — начата 19 века. В первой в связи с общими проблемами генезиса, эволюции и типологии литературных жанров описывается повествовательная структура произведений путевой прозы (тематика и композиционное расположение фрагментов, использование эпистолярной формы изложения и формы путевого очерка, различных форм выражения авторской модальности и адресованное&trade-, композиционно-стилистическая организация событийной линии путешествия п описательных фрагментов, способы освоения документальных источников, соотношение плана автора и плана персонажа и т. п.) и делается попытка обосновать своеобразие путешествий как литературного жанра. Во второй диссертации «ученые путешествия» рассматриваются как источник данных об истории языка и стиля научных и научно-популярных произведений, исследуется формирование терминологии, использование стилистически нейтральных н окрашенных лексических и грамматических средств и т. д.
10 Квалификация читателя включает большую или меньшую степень знакомства читателя с языком (кодом), на котором напнеан текст, принципами построения данного типа текстов в данной культуре, соотношением между разными типами текстов в ней, а также более частные «квалификационные» знания и умения — предварительное знакомство с текстами данного автора, филологическое образование и др.
11 О понятиях рассказываемое и рассказывание см. например, [Медведев 1928], [Шкловский 1961], [Шмид 1994а].
Примечание самого Женетта к этому пассажу еще более запутывает дело: «Термины повествование и наррация в особом обосновании не нуждаются. При выборе термина история (с его очевидными) недостатками я руководствовался ходячим словоупотреблением (говорят „рассказать историю“) и употреблением техническим, менее распространенным, но все же достаточно широко принятым после предложения Цветана Тодорова различать „повествование как дискурс“ (значение 1) и повествование как историю» (значение 2). В том же смысле я буду использовать термин диегезис. который заимствовал из работ по теории кинематографического повествования" [там же].
13 То же самое касается [Тодоров 1978] на фоне [Todorov 1971].
14 Это касается, в первую очередь, переводов работ М. М. Бахтина: «Rabelais and Gogol: The Art of Discourse and the Popular Culture of Laughter» (Mississippi Review, № 33, 1983. Extracts trans. Thomas Seifrid) — «Discourse in life and discourse in poetry" — «Discourse in Eugene Onegin» (Russian Views of Pushkin’s Eugene Onegin. Ed. Sona Stephan Hoisington. Bloomington: Indiana UP.
1988) и т. п. Ср. также два следующих варианта перевода «From the Prehistory of Novelistic Discourse» и «The Word in the Novel» (Comparative Criticism Yearbook 2, 1980).
15 О возможности «marrying the two modes, of thought to achieve specific purposes of analysis. without risking theoretical integrity» см. [Hirschman, Scott 1998].
16 Впрочем, и это сомнительно. Рассуждения днскурсологов «вокруг» языка прекрасно обходятся без анализа языкового материала. Достаточно сопоставить [Квадратура 1999] (страницы и страницы теоретических выкладок и полемики без единого примера) с любым сборником работ по лингвистике текста. Для ученых, занятых анализом дискурса, естественно говорить о языке, о текстах, вступая в диалог не с текстами, а только друг с другом. Анализ дискурса, претендующий на исследование «текстов в полном смысле этого термина,. наделенных исторической, социальной, интеллектуальной направленностью» [Квадратура 1999; 27], превращается в анализ дискурса дискурсологнческих работ. Появление в этом дискурсологическом дискурсе конкретных примеров неминуемо сопровождается изменением угла зрения и уровня анализа — отдельные предложения-высказывания описываются как отдельные высказывания, фрагменты текстов как фрагменты текстов, а затем к лингвистическому анализу «пристраивается» дискурсивный «фронтон».
1' «Использование языка в различных социальных ситуациях может быть представлено в виде континуума переходов от ситуаций, характеризующихся предельно неофициальными отношениями между коммуникантами. н ' сугубо неофициальной обстановкой коммуникативного акта к ситуациям с предельно официальными отношениями между коммуникантами и столь же официальной обстановкой. <.> Предлагается использовать шкал}' из трех регистров: неофициальный — нейтральный — официальный. Выбор этих регистров обусловлен тем, что. по данным ряда исследований, именно противопоставление подобных ситуативных признаков оказывается решающим для ситуативно обусловленной вариативности нормы» [Швейцер 1977; 107- 108].
Обзор подходов см. в [Москальская 1981; 3 — 9], развернутый список терминов — в [Маслов 1975].
19 Об отличном от них статусе рассуждения см. [Грамматика 1998; 448].
U важности члснимостн высшей единицы на низшую «нацело» для установления системного статуса низшей единицы в языке см. [Кузнецов 1987].
21 Переводы зарубежных работ по теории литературы тоже лишены единообразия: личный и неличный повествовательный модус в [Барт 1987] и модальность высказывания, повествовательные модальности в [Женетт 1998]. Обсуждение такой «грамматики текста» стихотворения Э. Каммингса «Anyone lived» см. в [Levin 1964] [Thome 1965] [Hendricks 1969] [Thome 1969].
3 Критику, хотя и не подкрепленную солидными аргументами, такого подхода в [Breinond 1964] см. в [Hendricks 1969; 19]. Отрыв нарратологических построений от реального языкового воплощения нарративных структур был заложен уже в методологии В. Проппа [Пропп 1928]. Промежуточный подход представляла «Морфология пушкинского «Выстрела» «.
М.Петровского [Петровский 1925]. где разделяются допоэтическая организация материала (временная последовательность, пространственная дифференциация, причинность) и организация материала формой — словесной: «Всякое слово есть уже оформленная, организованная материя.» [Петровский 1925; 174]. В современных западных теориях повествования — типичная для развития науки ситуация: материал сопротивляется попыткам «грандов» от него оторваться, «ученики» оказываются побеждены теорией. Достаточно сравнить [Барт 1987а] [Тодоров 1971] с [Roder IУ72J. Наиболее грамматичен в лучшем смысле этого слова Ж. Женетт [Женетт 1998], за что и навлекает на себя критик}.' привлечение лингвистического аппарата и «инструментальное использование» литературной теории, которая должна «увековечивать идеологические представления о сущности литературных текстов» подрывает с точки зрения С.Дж. Ван Риса методологию исследования и ставит под сомнение результаты [Rees 1981].
2А Следующие признаки текста вообще Ю. М. Скребнев считает недостаточными для его строгого научного анализа: функциональный — коммуникативность, структурныйчленимость и линейность конституентов, семантический (противопоставляющий текст случайной последовательности предложений) — связность/связанность (coherence), прежде всего «наличие референционной связи между элементами (предложениями), то есть связи через референт в широком смысле (предмет действительности, к которому относится текст в целом)») [Скребнев 1974; 60].
5 Разграничение грамматического п стилистического подходов к тексту в лингвистике можно соотнести с разграничением науки о литературе и литературной критики у Р.Барта. Для грамматики, так же. как и для блртовскоп «науки о литературе» «автор и его произведение являют собой лишь отправную точку анализа, стремящуюся к языку как к своему горизонту: отдельной науки о Данте, о Шекспире или о Расине быть не можетможет быть лишь наука о дискурсе» [Барт 1987; 376]. Поэтому использование термина «грамматика» в применении к отдельному автору или отдельному тексту не вполне точно: имеется в виду способ эксплуатации автором или способ функционирования в тексте грамматики языка. Когда этот способ обладает определенными чертами регулярности, он становится стилеобразующим.
26 См. также [Чудаков 1980; 307 — 3091. где излагаются по неопубликованным работам взгляды В. В. Виноградова на драматическую и сценическую речь и «субъект» в драматическом сочинении.
Ср. идею «театра одной воли» у Ф. Сологуба [Сологуб 1908]: «Таким представляется мне театральное зрелище: автор или заменяющий его чтец. сидит около сцены где-нибудь в стороне. Перед ним — стол. На столе — пьеса, которая сейчас будет представлена. Чтец начинает по порядку с начала: название драмы. Имя автора. Выходы и входы актеров. Все ремарки, не опуская даже и самых маленьких. <.> Если актер забудет слова, автор читает их, так же спокойно и так же вслух, как и все остальное.» Можно согласиться с С. Радловым, который резюмировал, комментируя «новаторство» Солсгба: «Отвратительная картина» [Радлов 1923].
28 Источником осмысления единства в искусстве, науке, богословии и т. д. у Ильина была книга Н. КМетнера «Муза и мода». Поскольку именно эта философская концепция является внутренним источником единства нашей работы, приведем, несмотря на большой объем цитаты, полностью соответствующую главку из книги Метнера: «Сознательно или бессознательно единство всегда является центром, который управляет чувством и мыслью художника в процессе созидания. Потеря или отсутствие этого центра всегда знаменует собой неудачу — произведение отвергается или самим автором, или воспринимающим его.
Работа каждого художника заключается в выборе из множества звуковых, красочных или словесных образов, имеющихся в его распоряжении. Выбор этот возможен при безотчетном, но безапелляционном чувстве свя! усмости одних образов в одно целое и несвязуемости других. Эта связуемостъ и есть свидетельство однородности.
Однородность этих образов устанавливается' художником не по внешнему сходству, а по внутреннему сродству их. Сами по себе они разные. Например: образы света и тени разные, но каждая тень имеет свое происхождение от определенного данного света. Таким образом, свет определяет собой и однородность, и разнообразие оттенков.
Итак, для каждого художника единство есть предмет созерцания и цель его действия: однородность есть единственное условие достижения этой целиразнообразие — единственная форма множества.
Говоря о разнообразии множества, мы уже подразумеваем нечто, что мы созерцаем в разных образах. Точно так же, говоря об единстве, мы предполагаем некое множество, тяготеющее к нему, окружающее его. Мы не нуждались бы в принятии единства, если бы оно уже было дано нам в одном образе, и потому единство никоим образом не должно быть отождествляемо с однообразием.
Единство является как бы понятием родины, которое может утрачиваться, забываться по мере удаления от нее. Единство всегда требует согласования множества для приближения к нему. Разнообразие, утратившее законный центр своего притяжения (то есть единство), на пути своего удаления от него утрачивает свою способность к согласованию и постепенно самоутверждается как разнородность.
Каждый художник, по существу своему имеющий дело с образами, должен противопоставлять единство — однообразию и разнообразие разнородности.
Единство и простота не есть данность, а предмет созерцания. Движение к единству и простоте есть свободное движение духа человеческого по линии наибольшего сопротивления.
Множество и разнообразие суть данность. Они существуют сами по себе помимо нашей воли. Мы сами суть единицы множества и разнообразия. И потому, если мы поддаемся тяготению к ним, то мы движимы уже не духом, а инерцией. Мы собственной своей тяжестью, по линии наименьшего сопротивления, падаем в них как и. х составная единица и продвигаемся в хаос, который как будто тоже является единством и простотой, но на самом деле ничего общего не имеет ни с искусством, нн с духом сообщс. В хаосе единство равно однообразию, а простота непроглядной тьме без образа" [Метнер 1996; 452 — 453].
29 Интересно, что А. Белый, критикуя творчество Пшибышевского, в романах которого «судорога душевных движений н судорога мускулов, перебиваемая рядом кинематографических картин: и ряд картин опять-таки перебивается судорогой кошмаров и грез» [Белый 1994; 146], обращается к той же аргументации. Распадение повествования, бессвязность картин, а следовательно разрушение художественности в произведениях Пшибышевского («.Вместо связи души и тела, переживания и образа, ритма н слова — вспышка чувства и сокращение мускула. Между тем и другим — никакой внутренней связи. <.> .Описание мускулов и их сокращений — задача анатомии и физиологии [Белый 1994; 148]) объясняется следующим образом: «Ритм без образа — хаос, рев первобытных стихий в душе человека. <.> .Он указал на то, что экстаз, не рождающий образа ценности и определенного пути, — есть хаос» [Белый 1994; 151 — 152]. Символизм же выступает положительной альтернативой — созидающей, «пресуществляющей» жизнь в образ, в мистерию, восстающей на хаос. См. также статью В. Я. Брюсова «Синтетика поэзии» [Брюсов 1925].
30 Показательно, что С. С. Аверинцев весьма пессимистично оценивает возможность для человека второй половины XX века иметь «связную, целостную, непротиворечивую» картину мира: «.То обстоятельство, что в нашей культуре возможен грамотный человек, который ничего не знает о космологических представлениях современной физики и пребывает в полном пессимизме относительно своей возможности это понять, это тоже характеризует нашу культуру. Да будь я грамотный человек в дантовское время, мне бы не удалось уклониться от того, чтобы как-то освоить тогдашнюю картину мира» [Аверинцев 1989; 339].
31 Наиболее ярко охарактеризовал эту особенность и ее разрушительное влияние на человеческое сознание не философ или социолог, хотя в соответствующих науках эта проблема и обсуждается, а современный прозаик В. Пелевин в неровном по своим художественным достоинствам романе «Generation «П» «, изложив устами духа Че Гевары, вызванного рекламистом Татарским, теорию возникновения Homo Zapiens («Человека Переключающего») под манипулирующим воздействием телевидения, навязывающего сознанию «ложное субъектно-объектное деление»: Homo Zapiens — «это остаточное свечение люминофора уснувшей душиэто фильм про съемки другого фильма, показанный по телевизору в пустом доме» [Пелевин 1999; 107].
32 См. также характеристику современной западной культуры в [Эпштейн 1999] через метафору «телефонной книги», в которую одинаковым шрифтом вписаны самые различные имена. Славянофильская критика Запада за «атомизм», «расхождение ума и сердца, юридического и морального субъекта и объекта» и критика с другого полюса за «удручающую однообразность», «ускоренную нейтрализацию всех оппозиций» сливаются воедино. Единственной альтернативой разнородности оказывается однообразие. «китаизм однородности»: «Культура без ценностей н оценок становится собранием разнородных фактов, лишенных упругости взаимоотношений. <.> Размывание границы [между добром и злом, святым и грешным и т. д.], ее превращение в широкую нейтральную полосу приводит к бессобытийности, к упразднению сюжета, когда жизнь общества начинает напоминать телефонную книгу, а не авантюрный роман. <.> История западного общества началась эпосом, продолжилась романом — и вот, 'заканчивается телефонной книгой» [Эпштейн 1999; 208 — 209]. Метнер увидел бы в этом «хаотическое» единство, «равное однообразию».
Заключение
.
Заключение
к своей классической работе «Структура художественного текста» Ю. М. Лотман начал с утверждения, что отличие художественного текста от нехудожественного состоит в возможностях передачи информации [Лотман 1998; 281].
Возможности" здесь ключевое слово, и не только в лотмановском понимании. Художественный текст позволяет максимально реализоваться возможностям языка и самым полным образом проявиться творческой способности говорящего. «Good writers are those who keep the language efficient», — полагает Э. Паунд [Pound 1971; 32]. «Различие, прежде всего, в круге пишущих: если „все прочие“ тексты могут быть произведены, при большем или меньшем навыке, практически любым носителем языка, то создавать тексты художественных произведений — удел авторов избранных, наделенных особым творческим даром, особой властью над языком», — утверждает Г. А. Золотова [Грамматика 1998; 12]. Поэтому изучение художественного текста, в том числе лингвистическое, — это изучение не только «исключительной» речевой деятельности «тех, кто эффективно использует язык», но потенций языковой системы и языковой способности говорящих с точки зрения возможных «степеней свободы», субъективно не достижимых каждым отдельным носителем языка, но объективно реализованных во множестве текстов художественной литературы на данном языке. «Язык существует в тексте — культурофилологическом феномене, где формируются и воплощаются духовные потенции национального человека» [Диброва 1999; 92]. Таким образом, вопрос о функционировании языка в литературном произведении — это проблема свободы1 и упорядочивающих эту свободу принципов, формирующихся во взаимодействии категорий действительности, сознания и языка.
Результаты проведенного нами исследования лежат и в гносеологической (разработка научного подхода), и в онтологической (углубление знаний об объекте) области.
Исследовательская концепция диссертации утверждает:
1) понимание текста как реализации языковой системы, способа ее существованиякак воплощения замысла авторакак адекватно выполняющей коммуникативную функцию знаковой модели действительности;
2) продуктивность коммуникативно-грамматического, функционального и антропоцентрического, подхода к тексту: подтверждается, что результаты, полученные лингвистическими, в частности грамматическими, методами, выходят за пределы собственно языкознания, приобретают общефилологическую, и шире — гуманитарную значимость, оставаясь при этом результатами именно лингвистической рефлексии над фактами языка. Верно и другое: определенные наблюдения, важные для понимания структурно-семантического устройства текстов и их функционирования в коммуникативной деятельности людей и в культуре в целом, могут быть сделаны только с лингвистической «колокольни»;
3) необходимость рассмотрения художественного текста как грамматически организованного целого: средства грамматической системы языка функционируют в нем не только для формирования отдельных предикативных единиц, но и для создания общей синтаксической композиции, воплощая и единство замысла автора, и целостность действительности;
4) признание того, что грамматика художественных текстов характеризуется как общими с грамматикой текстов других типов свойствами, так и специфическими, связанными с самой функцией «художественности», реализуемой этими текстами, их сюжетным или лирическим содержанием и прозаической или стихотворной формой;
5) возможность разных фокусов при чтении текста и разных степеней глубины и «деконструкции» при его интерпретации2: так, различаются чтение читательское и исследовательское, сукцессивное и симультанное, диктумное и модусное, ориентированное на репродуктивность или информативность, «сюжетное» или «лирическое».
Л.Пастер утверждал, что в науке «ничто не удается без предвзятой идеи»: «Надо только настолько обладать благоразумием, чтоб не делать из нее выводов, не подтвержденных опытом». Такой идеей в данной работе явилась мысль о том, что, возникая как единство замысла и реализуясь как линейное и структурное единство плана содержания и плана выражения, художественный текст несет «отпечаток» этого единства на всех своих составляющих, включая грамматические средства и принципы его построения. Единство текста проявляется не только.
1) во внешней структурно-семантической связности его последовательных компонентов (регистровых блоков, предложений, слов в предложении), но и.
2) в синтагматико-парадигматической взаимозависимости между компонентами текста, единстве принципов их «селекции и комбинации" — а также.
3) в диалектическом конструктивно-семантическом взаимодействии между компонентами текста и всем текстом, в котором части формируют облик целого, а целое определяет «прочтение» частей.
Изучение проблемы единства помогло обнаружить «в подборе слов и их организации в синтаксические ряды» следующие закономерности «эстетического оформления языкового материала»:
1. Между литературоведческими категориями, такими как жанр, сюжет, система персонажей и традиционно находящимся в ведении лингвистики уровнем языковых средств построения текста лежит уровень общих текстообразующих принципов, которые одновременно определяют организацию материальной последовательности предложений и моделирование художественного мира. Фундаментальный принцип — «вертикальное» и «горизонтальное» единство плана выражения и плана содержания художественного текста — и его более частные проявления (единство диктума и модуса, взаимодействие лексико-грамматических средств и линейности) реализуются в художественном прозаическом тексте через взаимообусловленную организацию системы событий и системы сознаний. При отсутствии реальной области референции точка зрения приобретает «событиеобразующую» сипу — отсюда проистекает относительная (относительно событийной цепи и системы персонажей) самостоятельность модуса, которая является типологическим признаком художественного текста.
2. В сюжетном литературном произведении, выстраивая последовательность предложений, автор создает линейную протяженность текста и одновременно двигает сюжет, который он должен «дотолкать» через субъектные сферы персонажей от исходной событийно-темпоральной точки до конечной и вокруг которого формируется фикциональный мир. Линейная протяженность текста заполняется предикативными единицами трех функциональных предназначений: а) построением, моделированием виртуальной, фиктивной реальности: сообщениями о событиях, диалогами персонажей, пейзажными зарисовками и т. д.- б) авторским комментированием моделируемой реальности (лирические отступления, сентенции и т. д.) — в) комментированием способа моделирования (метатекстовые единицы).
Композиционные блоки текста, образуемые этими предикативными единицами, сформированными средствами того или иного коммуникативного регистра, обладают внутренним единством грамматического устройства и соединяются между собой в целостный текст опять же организующей силой грамматики.
3. Важнейшей характеристикой поэтического текста, на создание которой «работают» все его свойства (повышенная сукцессивность, ритмическая организация, модальная неопределенность), является суггестивное воздействиеграмматические средства организации текста служат усилению сукцессивности, создают модальную неопределенность и взаимодействуют с ритмическим членением. Сознание читателя лирической поэзии открывается для суггестивного эффекта под воздействием большого количества точек неопределенности в сферах времени, лица и модальности, «завороженности» ритмом и звуковыми аранжировками и необходимости «удерживать» структуру линейной последовательности без опоры на фикциональный мир. В произведении лирической поэзии объединяющая функция грамматики проявляется прежде всего в установлении более или менее неопределенной предикативной отнесенности текста к действительности и формировании значимой последовательности означающих. Единство авторского модуса сочетается с большим разнообразием значений этого модуса по сравнению с сюжетным текстом. Темпоральная последовательность означаемых событий уступает место темпоральной концептуализации и отнесенности. Модальная неопределенность лирического текста в грамматическом плане обеспечивается регистровой и функциональной амбивалентностью предикатов, подвижной референцией местоимений и большей степенью свободы «операций» над временем и пространством. Несмотря на множественность референции, в поэзии в полной мере используется регистровая техника языка, позволяющая моделировать разные уровни обобщения и способы познания мира.
4. Единство, целостность как свойство текста определяет селекцию и комбинацию языковых средств и возникает в результате этой селекции и комбинации. При создании текста лексико-грамматические средства отбираются автором, осознанно или не осознанно, но в соответствии с единым замыслом, из системы языка именно с целью формирования некоего единства — целостного произведения. Автор, начиная с жанровой этикетки, названия, объема произведения, с первых же слов текста «обещает» определенное качество рассказываемого и рассказывания, в свете которого происходит декодирование текста читателем. При чтении текста единство принципов выбора и сочетания грамматических средств определяет цельность его восприятия и понимания.
5. В структуре художественного текста нами были выявлены требующие дальнейшего исследования явления, определяющие его интерпретацию читателем и создаваемые путем особого использования языковых средств, — повествовательный ритм, возникающий в результате парадигматически и синтагматически обусловленной комбинации регистровых блоков, событий разного масштаба, межсобытийных «шагов» разной длины, использования характерных для репродуктивного или информативного регистра средств усиления или замедления динамики действия, соотношения динамики и статикии точки неопределенности, количество и место которых в произведении (его фрагменте) формируют его прочтение как сюжетного или лирического и активизируют соответствующие механизмы обработки языковых признаков текста.
6. Парадигматика и синтагматика не заканчиваются в языке уровнем предложения. Регистровые блоки текста вступают в парадигматические и синтагматические отношения и воспринимаются на их фоне, представляя текстово-композиционный уровень селекции и комбинации единиц. В связи с этим появилась возможность ввести понятие функциональной амбивалентности предикатов в ПСТ и лирическом стихотворении и исследовать художественные эффекты, достигаемые с помощью этой функциональной амбивалентности, снимающейся или не снимающейся по ходу развертывания текста, а также выявить лексико-грамматические средства «проблематизации» события в ПСТ.
7. Будучи использованным в художественном тексте, который принадлежит и области языка, и области искусства и в котором языковая форма обладает собственной информативно-эстетической значимостью, каждое языковое средство, оставаясь элементом языковой системы, становится элементом и другой системыданного текста — и воспринимается на фоне прочих его элементов, выполняющих ту же или другие функции. Этот факт, а также пп. 1 и 4 выше, объясняют, каким образом ограниченное количество грамматических категорий и моделей предложения в системе языка позволяет создать огромное многообразие художественных текстов на этом языке.
Предлагаемый подход, хотя и разрабатывается преимущественно на коммуникативно-регистровой базе, «работает» при любом количественном и качественном понимании значащих единиц, из которых слагаются диктумное и модусное единства. Он достаточно гибок и может быть соотнесен с разными лингвистическими концепциями при условии их коммуникативной и функциональной ориентированности, поскольку именно «коммуникативная ориентированность грамматики помогает понять, что правила существуют как средства управления коммуникативным процессом, как средства порождения и понимания различных текстов в единстве их формы, содержания и функционального назначения, в соответствии с потребностями и характером общения [Грамматика 1998; 8]. В то же время этот подход представляет собой один из способов преодоления автономии лингвистики, не переходящий, однако, в «колониализм"3, поскольку дает возможность при исследовании текста перейти в какой-то момент от строгого лингвистического анализа к общефилологическим «инвенциям». «Парадоксальным образом получилось, что для того, чтобы доказательство было более строгим, ему надо было придать большую гибкость и свободу» [Леви-Стросс- 1972; 25]. Об этом — последнее слово.
Объект в науке определяет метод. Как и в любом филологическом исследовании, трактующем проблемы словесного искусства, на протяжении нашей работы «сказочность» объекта иногда вступала в противоречие с применением к нему методов лингвистического анализа, интуитивное восприятие произведений искусства сопротивлялось научной рационализации. Б. А. Ларин, отметив трудность «притупляющего восприимчивость» исследовательского чтения художественного текста, писал далее: «Еще значительнее трудности следующей фазы работы. Надо установить психологические, философские термины для систематизации своего опыта в области эстетики языка. С первых же попыток изложения видна непригодность традиционных: „чувство прекрасного“, „эвфония“, „симметрия в композиции“, „эмоциональный тон“, „организация речевого материала“ и пр. Пора осветить эту область. Но наблюдаемые психические состояния едва уловимы в их мгновенности и сложности. Они не названы и большим достоинством было бы определение их. Надо преодолеть психологические трафареты, случайность субъективного опыта, восходя к достоверности широких и ясных обобщений. Для этого необходимо проделать сводку наблюдений в категории, определенные по содержанию и объему, и затем открыть все мыслимые отношения этих категорий» [Ларин 1997; 161 — 162]. «Категории, определенные по содержанию и объему», в которые «сводились» нами наблюдения, -категории лингвистические, поэтому все лингвистические понятия в работе используются в своем основном, «тривиальном» значении. Что касается применяемой литературоведческой терминологии, традиционно проникнутой «случайностью субъективного опыта», то мы стремились найти баланс между двумя возможными отношениями к определению объекта и изучению его свойств. Когда-то отец А. Белого профессор Бугаев распустил ученый диспут по проблемам интеллекта, после того как ни докладчик, ни аудитория не смогли ответить на вопрос «Что такое интеллект?» Позже английский физик Поль Дирак, один из основателей квантовой механики, начал лекцию в Политехническом музее словами «Поскольку никто не знает, что такое электрон, мы будем изучать, как он движется» [Успенский 1967; 162]. Второй подход, тем более высказанный представителем точных наук, представляется более продуктивным. Изучив «грамматическое единство» художественного текста", стали ли мы знать, что такое художественный текст? Мы лишь приблизились по лингвистическому пути к его определению, которое находится на «перекрестке» с путем литературоведческим.
Очевидно, основным критерием художественности текста в типологическом смысле является жанровый, конвенциональный. Второе место занимает фактор фикциональности. Лингвистические показатели фикциональности-художественности определяются на фоне нефикциональных текстов, отграничиваемых сначала с опорой на «окололингвистический» критерий жанровой принадлежности. Эти лингвистические показатели включают коммуникативные характеристики текста по «якобсоновским» составляющим коммуникативного акта, текстообразующие грамматические принципы и частные лексико-грамматические языковые средства, использование которых подчинено первым двум показателям. Оппозиция фикциональность нефикциональность градуальна в сфере нехудожественных текстов и контрастивна на границе нехудожественных текстов и художественной литературы.
Введение
языковых примет фикциональности (диалога, репродуктивного регистра и др.) в нехудожественный текст смещает его к полюсу фикциональности, но необязательно повышает его художественность в качественном смысле. В области художественной литературы наличие лингвистических показателей фикциональности тоже не обеспечивает качественную художественность, но их отсутствие или недостаточность побуждает нас воспринимать текст либо как нефикциональный, либо как недостаточно (мало) художественный.
Нам представляется, что проведенное исследование открывает определенные научные перспективы, утверждая подход к художественному тексту, основанный на его реальном существовании в печатном или рукописном материальном воплощении и на его функционировании в эстетическом общении между автором и читателем. Преодоление снисходительного отношения лингвистики к действительной жизни текста, стремление моделировать восприятие литературного произведения при разной глубине его «деконструкции» придает исследовательскому подходу равную ценность с читательским, что особенно важно сейчас, когда все больше «высокохудожественных» литературных текстов оказывается нацелено только на высококвалифицированных читателей.
Обращение к художественному тексту раздвигает границы грамматики, расширяя возможности и увеличивая свободу лингвиста и с точки зрения материала, и с точки зрения метода. Сохранение единства лингвистического знания от эмического уровня системы до закономерностей организации конкретного текста и множества разнообразных текстов есть «движение по линии наибольшего сопротивления» (Н.К.Метнер), но именно движение по этой «линии» свободы и единства сближает филологическую науку и словесное искусство.